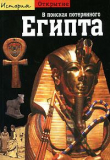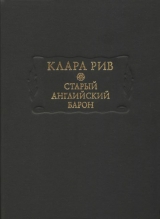
Текст книги "Старый английский барон"
Автор книги: Клара Рив
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
ДОПОЛНЕНИЯ
Вальтер Скотт
КЛАРА РИВ
Клара Рив, искусная создательница «Старого английского барона», была дочерью преподобного Уильяма Рива, магистра искусств, приходского священника Фрестона и Кертона, Саффолк, пожизненного викария церкви Св. Николая {64}. Дедом Клары Рив был преподобный Томас Рив, сначала приходской священник в Сторем Аспал, а впоследствии настоятель церкви Св. Марии в Стоке, Ипсуич {65}, где его семья издавна жила на правах свободных горожан {66}. Мать мисс Рив носила в девичестве фамилию Смитис; {67}ее отцом был Смитис, придворный ювелир {68}Георга I {69}.
В письме к одному из друзей {70}мисс Рив так отзывается о своем отце: «Отец мой был старым вигом; {71}от него я научилась всему, что знаю; я слушала его, как оракула; он часто заставлял меня читать отчеты о парламентских дебатах, пока курил трубку после обеда. За чтением меня одолевала зевота, но, сама того не замечая, я выработала для себя при этом твердые принципы на всю жизнь. Я должна была также изучать „Историю Англии“ Рапена – книгу сухую, но содержащую много полезных сведений {72}. Я читала „Письма Катона“ Тренчарда и Гордона {73}, греческих и римских историков, „Жизнеописания“ Плутарха {74} – и это в том возрасте, когда мало кто из моих сверстников мог прочесть собственное имя».
Преподобный мистер Рив, происходивший из большой семьи (у его родителей было восемь детей), и сам имел столь же многочисленное потомство, поэтому ранняя начитанность Клары объясняется скорее ее собственной тягой к знаниям, чем особо ревностным попечением со стороны отца. После смерти мистера Рива {75}его вдова с тремя дочерьми {76}поселилась в Колчестере; {77}именно там в 1762 году мисс Клара Рив опубликовала свое первое произведение – перевод с латыни прекрасного старого романа Баркли «Аргенида» (в переводе озаглавленного «Феникс») {78}. Первое оригинальное сочинение мисс Рив (и самое прославленное) вышло в свет в 1777 году. Оно было издано под названием «Поборник добродетели: Готическая повесть» мистером Дилли {79}с Поултри {80}(заплатившим за авторские права десять фунтов). Через год последовало второе издание, на сей раз на обложке впервые стоял заголовок «Старый английский барон». Не беремся судить, чем вызвана эта замена: если считать старым английским бароном Фиц-Оуэна, то нам непонятно, отчего повесть названа в честь персонажа, бездействующего с первых и до последних страниц, меж тем как его судьбу определяют другие. Мы должны заметить, что эта книга посвящена миссис Бриджен, дочери Ричардсона, которая, как сообщают, помогала ее править {81}.
Успех «Старого английского барона» побудил мисс Рив посвятить литературному творчеству еще больше часов досуга; одна за другой были опубликованы следующие ее книги: «Два наставника: Современная повесть» {82}, «Развитие романа: в веках, странах и стилях» {83}, «Изгнанники, или Мемуары графа де Кронштадта» {84}(сюжетная линия этого произведения заимствована из романа мсье д’Арно) {85}, «Школа вдов» {86}, «Планы воспитания, с замечаниями по поводу систем других авторов» {87}(томик в двенадцатую долю листа) и «Мемуары сэра Роджера де Кларендона, побочного сына Эдуарда Черного Принца, с занимательными историями о многих других выдающихся личностях четырнадцатого века» {88}.
К этим трудам следует добавить еще одну повесть, в основе интриги которой лежали сверхъестественные явления. В предисловии к более позднему изданию «Старого английского барона» мисс Рив извещала публику, что по предложению кого-то из своих друзей сочинила книгу «Замок Коннор: Ирландская повесть», в которой речь шла о призраках. Рукопись попала в чьи-то беспечные или нечестные руки и ныне безвозвратно утрачена {89}.
Все многообразные сочинения Клары Рив отмечены ясным умом, высокой моралью и теми качествами, которые необходимы, чтобы создать хороший роман. В свое время ее книги были приняты публикой в целом благосклонно, однако ни одна из них не сравнится по воздействию на умы со «Старым английским бароном» – можно сказать, что слава автора связана сейчас исключительно с этим романом.
Мисс Рив, снискавшая уважение и любовь окружающих, вела уединенную жизнь, не давая материала биографам, вплоть до 3 декабря 1803 года {90}, когда умерла в почтенном возрасте 78 лет в своем родном городе Ипсуиче. Согласно ее личному распоряжению, мисс Рив похоронили на кладбище при церкви Св. Стефана вблизи могилы ее друга, преподобного мистера Дерби {91}. В настоящее время живет и здравствует брат писательницы, преподобный Томас Рив {92}, а также ее сестра, миссис Сара Рив, – оба в преклонных летах. Еще один ее брат служил в военно-морском флоте и достиг чина вице-адмирала.
Никаких других сведений об этой высокообразованной и достойной всяческого уважения женщине нам узнать не удалось – биография ее проста, и таким же, как может предположить читатель, был ее образ жизни и характер. В наши задачи как литературного критика входит поделиться некоторыми мыслями, касающимися исключительно самого знаменитого произведения мисс Рив, с которого началась и благодаря которому, вероятно, не угаснет в будущем ее слава (мы говорим это без намерения умалить достоинства других ее сочинений).
Со слов самой писательницы мы знаем, что «Старый английский барон» является «литературным отпрыском „Замка Отранто“» {93}. Мисс Рив любезно поделилась с нами своими взглядами на механику сверхъестественного в литературе – в отличие от Горация Уолпола она склонялась к иному, более сдержанному подходу. Она осудила некоторые экстравагантные выдумки Уолпола: меч и шлем гигантских размеров, ходячий портрет, скелет в рясе отшельника {94}. По ее мнению, призрак, допущенный на страницы романа, обязан проявлять благонравие; как в жилищах селян, так и в господских домах до сих пор сохранились нормы, регламентирующие поведение подобных созданий, – им он и должен подчиняться.
Не отрицая авторитет мисс Рив, мы должны все же заявить протест против попыток опутать царство теней условностями, принятыми в мире обыденной реальности. Если мы уравняем в правах людей и духов, то последние лишатся таким образом всех своих привилегий. К примеру, если допускается существование бестелесных призраков, то почему не признать за ними способности принимать устрашающие, сверхчеловеческие размеры? Если есть волшебный шлем, почему бы ему не быть гигантским? Если у нас не вызывает возражений поразительный эпизод с падением доспехов (сброшенных, надо полагать, не рукой смертного), то спросим себя, неужели те же сверхъестественные силы не способны внушить Манфреду иллюзию (а ни о чем другом речь и не идет), что портрет его предка ожил и задвигался? {95}Можно возразить – и к такому аргументу прибегла бы, вероятно, и мисс Рив, – что существует граница правдоподобия, за которую не должна выходить даже самая необузданная фантазия; на это мы ответим вопросом: если мы решим наложить на потусторонние силы, действующие в романе, разумные ограничения, то где следует остановиться? В таком случае мы бы потребовали от духов объяснения за те весьма окольные пути, которые они выбирают, чтобы вступить в контакт с миром живых. Можно, например, выдвинуть quo warranto [2]2
Букв.: на каком основании ( лат.); здесь: возражения.
[Закрыть]против призрака убитого лорда Ловела за то, что он таился в восточных покоях, в то время как самым разумным было бы подать жалобу на убийцу ближайшему судье или на худой конец посвятить в тайну Фиц-Оуэна, – вернуть наследство своему сыну таким способом было бы куда проще; дух же избрал сомнительный и извилистый путь единоборства. В качестве встречного возражения можно было бы сослаться на то, что таков у духов обычай – обличая преступников, прибегать к окольным путям. Но если все дело в наличии или отсутствии прецедента, то Горация Уолпола, наделившего своего призрака исполинскими размерами, легко оправдать – вспомним об аналогичной величины страшном видении Фэдауна в «Жизни Уоллеса» Слепца Гарри; {96}что касается ходячего портрета, то и ему при желании мы бы нашли соответствие: нам известен портрет, который, как рассказывали, не только ходил, но и издавал стоны, чем крайне пугал одну весьма почтенную семью.
Но, спросят нас: где провести черту? Где остановиться, чтобы не злоупотребить доверчивостью читателя, когда писатель преступает границы здравого смысла и естественного порядка вещей? На этот вопрос существует только один ответ, а именно, что сам автор, будучи, по сути, заклинателем, не должен вызывать духов, если не способен снабдить их манерой поведения и языком, подобающими выходцам с того света. Шекспир, выводя на сцену такие персонажи, как Калибан {97}или Ариэль {98}, не интересовался мнением публики по поводу возможности или невозможности их существования; они убедительны потому, что наделены такими качествами, какие, согласно представлениям читателей и зрителей, полагалось бы иметь сверхъестественным созданиям, если бы они существовали. Если бы Шекспиру вздумалось заставить бестелесные призраки с римских улиц произносить вместо «писка и невнятного бормотания» членораздельные слова, его чудодейственной фантазии, без сомнения, удалось бы превратить в картину тот набросок языка мертвых, который содержится в процитированном нами выше ярком и удивительно удачном выражении {99}.
Наша писательница подходит к этой проблеме разумно и взвешенно: она знает силу своих крыльев и не залетает чересчур далеко; и хотя мы не прочь оспорить выдвинутый ею принцип в целом, мы все же готовы признать ее правоту, когда она применяет его в своих собственных сочинениях. Обратимся ли мы к «Старому английскому барону» или к другим книгам мисс Рив, мы нигде не найдем доказательств того, что она обладала богатым или могучим воображением. Ее диалоги умны и увлекательны, но в них нет ни полета фантазии, ни взрывов страстей. Привидение у нее заурядно – о тысячах ему подобных народ рассказывает истории долгими вечерами, когда семье, собравшейся вокруг рождественского полена {100}, больше нечем себя занять. Мисс Рив проявляет весьма уместную осторожность, показывая нам призрак лорда Ловела лишь мельком – не отчетливее, чем необходимо; это молчаливый призрак {101}, доступный только зрению; на него никогда не падает яркий дневной свет, способный рассеять наши почтительные чувства {102}. И таким образом, как мы уже говорили, писательница использует свои возможности с предельным успехом и достигает цели именно потому, что не замахивается на большее. Она поступает мудро и похвально, однако мы не можем допустить, чтобы те же правила сковывали фантазию какого-нибудь другого, более смелого автора.
Что же касается, так сказать, стиля эпохи, внешних примет тех рыцарских времен, к которым отнесено действие обоих романов, то между «Замком Отранто» и «Старым английским бароном» существует неизмеримая разница – причиной тому язык и слог Горация Уолпола, а также доскональное знакомство писателя со Средними веками. Клара Рив, вероятно, лучше знала Плутарха и Рапена, чем Фруассара {103}и Оливье де Ла Марша {104}. Мы не хотим этим сказать, что талантливой леди недоставало вкуса. В ее времена Макбета играли в полной генеральской форме {105}, а лорд Гастингс был одет как современный лорд-камергер, собравшийся явиться ко двору {106}. Если же мисс Рив обращалась за примером к литературе, то в романах французской школы она могла обнаружить чувства и манеры придворных Людовика XIV, перенесенные во времена Кира или Фарамонда либо в Рим периода ранней республики {107}. В наши дни историческим особенностям принято уделять больше внимания и авторам, равно как и актерам, вменяется в обязанность сделать попытку (пусть даже нелепую и гротескную) воспроизвести, с одной стороны, манеры, а с другой стороны – костюмы соответствующего периода. Прежде от писателя ничего подобного не требовалось и не ожидалось; не исключено, что Уолпол, почти всегда строивший свои диалоги в строгих рамках верности обычаям и языку эпохи {108}, стал первым, кто наложил на себя такие ограничения. В «Старом английском бароне» все персонажи, напротив, разговаривают и держатся так, как было принято в семнадцатом веке; употребляют те же приветствия, так же ведут беседу. Речь барона Фиц-Оуэна и главных действующих лиц характерна для деревенских сквайров тех времен, персонажи низшего сословия – это старики и старухи того же века. «Стоит только исключить рыцарские турниры» {109}(или заменить их современными дуэлями) – и всю цепь событий, вместе со всеми словами и выражениями, можно перенести во времена Карла II или любого из двух наследовавших ему монархов {110}. Повествование словно бы переведено на язык – и построено в соответствии с представлениями – более позднего исторического периода. Притом мы не беремся утверждать, что интерес к книге из-за этого ослабевает, – скорее наоборот; во всяком случае, возникает интерес иного рода; его не сравнить с тем, который порождается бурным воображением и строгой верностью обычаям и нравам Средневековья, но с его помощью автор достигает цели надежнее, чем сочинители более сложных и более амбициозных книг.
Поясним: тот, кто желает угодить современной публике и в то же время создать точное подобие средневековой повести, будет обнаруживать вновь и вновь, что волей-неволей приходится жертвовать вторым ради первого и каждый раз подвергаться справедливой критике со стороны знатоков древностей, ибо, чтобы заинтересовать читателей, он должен наделить своих героев языком и чувствами, не свойственными людям эпохи, к которой отнесено действие. Таким образом, прилагая крайние усилия, автор добивается не более чем компромисса между правдой и вымыслом – подобного сценическому одеянию короля Лира, которое не похоже ни на платье современного монарха, ни на небесно-голубую раскраску и медвежьи шкуры, служившие британцам соответственно украшением и зашитой от непогоды в те времена, когда, как предполагается, правил этот король {111}. Избежать непоследовательности можно, если прибегнуть к стилю наших дедов и прадедов: он в должной мере архаичен и потому кажется уместным, когда речь идет о старине, и одновременно достаточно богат, чтобы дать все, что делает повествование занимательным, и восполнить свойственный старым временам недостаток красочности.
Нет сомнений в том, что «Старый английский барон» относится к числу тех книг, которые написаны без особых претензий; местами этот роман вял и монотонен, чтобы не сказать слаб и утомителен. Полное отсутствие индивидуальности у персонажей (среди них нет ярких, самобытных личностей – все они не более чем представители определенного типа) приводит к тому, что временами история навевает скуку. Этот недостаток свойствен всем романам того периода; трудно было ожидать, что мисс Рив, милая дама и превосходная писательница, жившая в уединении и знакомая с событиями и нравами исключительно по книгам, сможет соперничать с авторами, которые, как Филдинг {112}и Смоллетт {113}, изучили человеческое сердце, познав на горьком опыте «пестроту существования» {114}. Немыслимо равнять ее в этом отношении с ее предшественником Уолполом; тот, государственный деятель {115}, поэт и человек света, «знавший мир, как знает его мужчина» {116}, придал своему Манфреду немало индивидуальных черт. Мы говорим здесь не о нехватке внешних примет времени, а о некоторой вялости повествования и скудости чувств. Вспомним, например, как сэр Филип Харкли и барон Фиц-Оуэн погружаются в серьезные детальные подсчеты, взвешивая, с одной стороны, долги по имению, а с другой – расходы на образование и прежнее содержание наследника в доме барона, и это непосредственно вслед за таким малоприятным событием, как суд Божий над убийцей после судебного поединка, причиной которого послужили грозные сверхъестественные происшествия в восточных покоях. Однако даже эти излишние многословные подробности не кажутся чужеродными, когда похожую историю рассказывает зимой в тесном кругу у очага какой-нибудь дед или старуха. Такая манера снижает стиль повествования (и потому была бы отвергнута авторами, обладающими более возвышенным воображением), но делает его более реалистичным и напоминает прием Дефо, который, дабы придать своей истории правдоподобие, вводил в нее множество мелких деталей, несущественных или странных, и, как мы склонны предполагать, уместных только потому, что они достоверны {117}. Быть может, рассказчики, любящие обстоятельность и точность в мелочах (охарактеризуем их одним словом, хотя и не совсем правильным: прозаические), втайне стараются таким образом внушить слушателям историй о привидениях некоторую необходимую долю доверия. Это придает повествованию оттенок старины, принадлежности к «давним суеверным векам»; {118}внимая искусным рассказчикам, подвизающимся в сем жанре, мы убедились, что все они, дабы овладеть вниманием аудитории, прибегают к описанному приему. В любом случае, благодаря такой повествовательной манере или же занимательности самого повествования, которое затрагивает суеверные чувства, втайне гнездящиеся едва ли не в каждой душе {119}, «Старый английский барон» неизменно достигает того же эффекта, что и все истории подобного рода, хотя и не свободен от недостатков – о них мы говорили подробно, не намереваясь при этом подвергнуть сомнению талант писательницы, достойной всяческой симпатии.
Здесь мы оставляем на время эту интересную тему в надежде, что в будущем нам еще выпадет случай сделать ряд общих замечаний об использовании сверхъестественного в современной художественной прозе.
Перевод Л. Ю. Бриловой
ПРИЛОЖЕНИЯ
С. А. Антонов
У ИСТОКОВ ГОТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
Клара Рив и ее роман «Старый английский барон»
Имя и название, которые значатся на титульном листе этой книги и в подзаголовке настоящей статьи, большинству современных читателей либо неизвестны вовсе, либо известны лишь понаслышке. А между тем в конце XVIII – начале XIX века роман английской писательницы Клары Рив (1729—1807) «Старый английский барон» (1777) многократно издавался на родине автора, переводился на различные европейские языки (французский, немецкий, русский), инсценировался, становился объектом подражания и сюжетным источником ряда других литературных произведений. Более того, он сыграл немаловажную роль в становлении так называемой готической литературы – обширной области беллетристики, которая получила многоплановое и впечатляющее развитие в художественной прозе двух последних столетий и обзавелась собственной галереей культовых авторов, широким кругом поклонников и ревностных адептов в читательской среде, разветвленной сетью визуальных (прежде всего кинематографических) и субкультурных аналогов и внушительным фондом серьезных научных исследований. Возникший в переходную, предромантическую пору и оказавшийся – в силу целого ряда причин – необыкновенно привлекательным для поэтов, прозаиков, драматургов эпохи романтизма, этот жанр затем на время вышел из литературной моды, чтобы вскоре возродиться в иных формах и под иными названиями (ghost story, horror fiction, литература «тайны и ужаса» и др.) и уже никогда не исчезать с культурного горизонта, а, наоборот, непрерывно прирастать авторскими именами, текстами и смыслами, инспирируя рождение других жанров (в частности, детективной прозы и научной фантастики), образуя с ними неожиданные сочетания, подвергаясь стилизации, пародированию и перетолкованию [3]3
Такое расширительное (по сравнению с бытовавшим в науке в прежние десятилетия) понимание готики, выводящее этот феномен за временные рамки 1760—1820-х годов и включающее его в позднейший (в том числе современный) литературный и культурный контекст, все активнее утверждается в новейших исследованиях. См., напр.: The Cambridge Companion to Gothic Fiction / Ed. by Jerrold E. Hogle. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2002; Punter D., Byron G.The Gothic. Malden (MA); Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2004; Teaching the Gothic / Ed. by Anna Powell and Andrew Smith. Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2006; The Routledge Companion to Gothic / Ed. by Catherine Spooner and Emma McEvoy. L.; N.Y.: Routledge, 2007; Smith A.Gothic Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
[Закрыть]. Эта долговечность готического жанра, как представляется, обусловлена отражением в нем новых, постклассических структур субъективности, телесности, воображаемого, которые начали формироваться на исходе эпохи Просвещения и для которых готика разработала эстетически продуктивные сюжетные, персонажные, пространственно-временные модели, и по сей день активно варьируемые западным культурно-художественным сознанием. В ряду писателей, которым эта разновидность повествовательной литературы обязана своим возникновением и утверждением (в их числе – Гораций Уолпол, Жак Казот, Уильям Бекфорд, София Ли, Шарлотта Смит, Анна Радклиф, Мэтью Грегори Льюис, Чарлз Роберт Метьюрин), Клара Рив по праву должна быть упомянута одной из первых, ибо в ее небольшой по объему книге были впервые явлены либо намечены (а также теоретически сформулированы) некоторые важные содержательно-поэтологические принципы готической прозы.
Однако в обширной научной литературе о готике количество работ, посвященных биографии и творчеству Рив, крайне невелико. Среди вышеназванных романистов создательница «Старого английского барона» – едва ли не самый малоизученный автор, а ее книга, по замечанию американского литературоведа Р. Д. Спектора, с давних пор занимает в исследовательском сознании место «подстрочного примечания к истории литературы» [4]4
Spector R. D.The English Gothic: A Bibliographic Guide to Writers from Horace Walpole to Mary Shelley. Westport (CT); L.: Greenwood Press, 1984. P. 98.
[Закрыть]и, окруженная холодом почтительной отчужденности, расценивается как закономерный, но незначительный эпизод периода формирования жанра. Подобное отношение обусловлено несколькими причинами, главная из которых заключается, по-видимому, в ощутимой (на первый взгляд, даже чрезмерной) зависимости сюжетного замысла этой книги от «Замка Отранто» (1764) Горация Уолпола – произведения, ставшего отправной точкой в истории европейской готической литературы. В силу фабульного сходства со своим жанровым предшественником «Старый английский барон» длительное время пребывал в его тени, зачастую воспринимаясь читателями и критиками как бледное подобие уолполовского романа. Среди других факторов, негативно сказавшихся на репутации сочинения Рив, – его откровенный просветительский дидактизм (очевидно архаичный для последующих культурных эпох и надолго заслонивший в сознании позднейших критиков собственно литературные достоинства романа, наметившие перспективное направление эволюции готической прозы), а также довольно скудный объем известных на сегодняшний день фактов авторской биографии, значительная часть которых была обнародована еще в начале XIX века.
В последние два десятилетия, впрочем, ситуация изменилась: всплеск интереса к готике со стороны представителей различных гуманитарных дисциплин в 1990—2000-е годы, сопровождаемый обновлением исследовательских парадигм и приоритетов, с неизбежностью затронул и творчество Клары Рив. В ряде недавних статей и монографий К. Ф. Эллис, Дж. Каслер, Г. Келли, Э. Дж. Клери, Ф. Прайс, Дж. Уотта, Т. Уэйна, Л. Рунге, Е. В. Григорьевой и др. «Старый английский барон» оказался в фокусе заинтересованного аналитического внимания, зачастую нацеленного на те художественные, идеологические и социокультурные аспекты, которые прежде не получали должного научного освещения; одновременно эта книга впервые удостоилась – наряду с дидактическим романом Рив «Школа вдов» (1791) – сразу нескольких критических, основательно комментированных изданий. В высшей степени лестно, как наиболее развернутое и глубокое в английской литературной критике довикторианской поры исследование истории романного жанра оценивается сегодня и трактат-диалог Рив «Развитие романа: в веках, странах и стилях» (1785), первое научное издание которого также появилось совсем недавно [5]5
См.: Reeve C.The Progress of Romance, through Times, Countries, and Manners; with Remarks on the Good and Bad Effects of It, on Them Respectively; in a Course of Evening Conversations // Bluestocking Feminism: Writings of the Bluestocking Circle, 1738—1785: In 6 vol. / Gen. ed. Gary Kelly. L.: Pickering & Chatto, 1999. Vol. 6: Sarah Scott and Clara Reeve. P. 159—275, 311—316.
[Закрыть]. Наконец, творчество романистки вызывает интерес у ученых, анализирующих гендерные аспекты британской литературной и культурной жизни XVIII века и, в частности, роль женщин в становлении писательской профессии в Англии [6]6
См., напр.: Turner Ch.Living by the Pen: Women Writers in the Eighteenth Century. L.; N.Y.: Routledge, 1992.
[Закрыть]. Предлагаемая статья, учитывающая позитивный опыт предыдущих трактовок публикуемой книги, призвана, с одной стороны, ввести отечественного читателя в ее эстетико-литературный контекст и художественный мир, с другой же – заполнить, насколько возможно, лакуны в предшествующих наблюдениях над ее содержанием и поэтикой.
Возникновение и становление готической прозы традиционно связываются в литературоведении с комплексом идей, настроений, эстетико-философских концептов и художественных явлений зрелого и позднего Просвещения, предвосхитивших и в известной мере подготовивших искусство романтизма (в первую очередь романтический культ индивидуального творческого воображения и романтический историзм) и потому ретроспективно определяемых как предромантические [7]7
Следует заметить, что длительная и внутренне конфликтная история понятия «предромантизм» и по сей день не увенчалась выработкой целостного и общепринятого научного представления о его категориальном статусе, содержательных характеристиках и временных параметрах. Утвердившееся в литературоведении в первой пол. XX в. благодаря исследованиям П. Азара, Д. Морне, П. Ван Тигема, А. Монглона, В. М. Жирмунского и др., решительно оспоренное в целом ряде работ 1960—1970-х годов, подвергшееся новым – на наш взгляд, также далеко не бесспорным – попыткам теоретизации и системного описания в последующие десятилетия (в отечественной науке – в статьях и монографиях И. В. Вершинина, М. Б. Ладыгина, Н. А. Соловьевой, В. А. Западова, Вл. А. Лукова, И. А. Тютюнник и др.), это понятие по-прежнему выглядит концептуально не проясненным и методологически уязвимым. «Нижняя» и «верхняя» временные границы предромантизма в различных национальных литературах Европы, его соотношение с просветительской идеологией, точки схождения с барокко, классицизмом, рококо, сентиментализмом, степень проспективности по отношению к будущему романтизму, круг репрезентативных авторов и произведений – все эти вопросы до сих пор остаются не решенными в должной мере. В порядке самокритики добавим, что и предложенная нами ранее (в соавторстве с А. А. Чамеевым) трактовка предромантизма как сугубо условного обозначения антипросветительских явлений в литературе конца XVIII в. нуждается в серьезной коррекции, предполагающей наполнение этого термина позитивным содержанием (см.: Антонов С. А., Чамеев А. А.Анна Радклиф и ее роман «Итальянец» // Радклиф А. Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное. М.: Ладомир: Наука, 2000. С. 376—378).
[Закрыть]. Это переходное и внутренне драматичное время – время очевидного кризиса просветительской идеологии, сказавшегося в различных областях социальной и духовной жизни Англии и Европы; в сфере культуры, в изменчивом поле интеллектуальных запросов, эмоциональных ожиданий и эстетических предпочтений упомянутый кризис проявился, среди прочего, в виде устремленности к необычному, экзотическому, экстравагантному, вымышленному, иррациональному, в «выгораживании идеального пространства» [8]8
Хейзинга Й.Homo ludens: Опыт определения игрового элемента культуры / Пер. В. В. Ошиса // Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс: Прогресс-Традиция, 1992. С. 214.
[Закрыть](которое несколько позднее составило особую, концептуально и ценностно отрефлексированную область смыслов в рамках романтической картины мира). Применительно к рассматриваемой теме особенно важен подчеркнуто ретроспективный характер этого тяготения к идеальному: вопреки исходному вектору идей Просвещения (модернизационно-реформистскому, прогрессистскому, ориентированному в будущее) в английской культуре второй половины XVIII века обнаруживается настоятельная «потребность перенесения эстетической и эмоциональной жизни в идеальную сферу прошлого» [9]9
Там же. Курсив наш. – С. А.
[Закрыть], в неясную и потому заманчивую даль минувших столетий, – потребность, из которой впоследствии родился романтический историзм. Это новое, стихийно складывавшееся мироощущение исподволь подтачивало раннепросветительскую философию истории и, в частности, тенденциозную трактовку Средних веков как периода варварства и темных суеверий, как досадного уклонения с пути поступательного развития цивилизации. Уже в середине столетия эта негативная оценка, унаследованная просветителями от гуманистов Возрождения, стала сменяться все более пристальным вниманием к артефактам культуры Средневековья, а нередко и восторженным преклонением перед его «романтическим» духом. Средневековое – под именем «готического» – актуализируется в различных культурно-художественных контекстах (теории искусства, архитектуре, ландшафтном дизайне, литературе), удостаивается ценностного пересмотра, становится объектом рефлексии и полемики, выступает стимулом творческого вдохновения и образцом для подражания.
В лексиконе лорда Шефтсбери, мыслителя раннего английского Просвещения, готическое означало «нечто ложное, чудовищное», «покинувшее во всем путь Природы, бедные остатки от времен странствующих рыцарей», «глупый дух куртуазности» [10]10
Шефтсбери.Моралисты. Философская рапсодия, состоящая в рассказе о некоторых беседах на темы природы и морали / Пер. Ал. В. Михайлова // Шефтсбери. Эстетические опыты. М.: Искусство, 1975. С. 87, 88.
[Закрыть]. В статьях и заметках его современника, журналиста, критика и драматурга Джозефа Аддисона, написанных в 1710-е годы, слово «готическое» также употреблялось в неизменно негативном контексте. Сравнивая впечатления, вызванные внутренним убранством римского Пантеона и интерьером готического собора, Аддисон находил, что эффект, производимый вторым, беден и невыразителен, а причину этого видел в удручающем «убожестве [готического] стиля» [11]11
[ Аддисон Дж.] «Спектейтор» / Пер. Е. С. Лагутина // Из истории английской эстетической мысли XVIII века: Поп. Аддисон. Джерард. Рид. М.: Искусство, 1982. С. 201.
[Закрыть]. В другой статье, критикуя поэзию барокко за «ложное остроумие» (то есть за риторическую усложненность художественной формы, пристрастие к анаграммам и каламбурам), он назвал ее создателей готами, «которые, подобно своим собратьям в архитектуре, будучи неспособными приблизиться к прекрасной простоте древних греков и римлян, пытаются заменить ее всеми нелепостями расстроенного воображения» [12]12
Там же. С. 117.
[Закрыть]. Пейоративные смыслы сопутствовали этой лексеме и на континенте: так, Вольтер в «Философских письмах» (1727—1732, опубл. 1733), осуждая отношение французской Церкви к театру, использовал выражение «готическое варварство» [13]13
Вольтер.Философские письма / Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн // Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1988. С. 185.
[Закрыть]в качестве общепонятной речевой формулы, подразумевавшей архаичную, чуждую требованиям «просвещенного» века культурную ситуацию. Это оценочное и расширительно-метафорическое употребление термина восходило к эстетической полемике рубежа XVII—XVIII веков, к знаменитому спору о «древних» и «новых», к классицистской трактовке античного искусства как вневременного идеала прекрасного, чья благородная и величественная простота подражает естественной простоте природы; в такой системе приоритетов готика с ее витиеватостью, причудливой орнаментальностью, вызывающей иррегулярностью неизбежно оказывалась прямой антитезой, своего рода негативной версией этого идеала [14]14
См.: Lovejoy A. O.The First Gothic Revival and the Return to Nature // Modern Language Notes. 1932. Vol. 47. № 7. P. 425—430.
[Закрыть].
Однако к середине XVIII века в культурной репутации понятия наметились серьезные перемены. В то время как во Франции – в сочинениях Вольтера, Шарля Луи де Монтескье, Луи де Жокура – еще повторялись прежние определения и оценки [15]15
О судьбе понятия «готическое» во французской культуре XVIII в. см.: Holbrook W. C.The Adjective «Gothique» in the Eighteenth Century (1941) //The English Gothic Novel: A Miscellany: In 4 vol. / Ed. with Introductions and Notes by Thomas Meade Harwell. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, 1986. Vol. 1: Contexts. P. 69—74.
[Закрыть], в Англии стремительно набирал силу процесс «готического возрождения», отмеченный дальнейшей экспансией архитектурного термина в смежные контексты и реабилитацией целого ряда художественных явлений, в которых так или иначе воплотился «готический вкус» [16]16
Богатую подборку документов, связанных с историей готического возрождения в Англии XVIII в., см. в изд.: The Gothic Revival, 1720—1870: Literary Sources & Documents: In 3 vol. / Ed. by Michael Charlesworth. Mountfield: Helm Information, 2002. Vol. 1—2.
[Закрыть]. Памятники средневековой архитектуры (зачастую именовавшиеся готикой без учета реальных стилевых различий, зафиксированных позднейшим искусствознанием) в эту пору, по сути, впервые удостоились серьезного аналитического внимания – в частности, в «Эссе о нормандском зодчестве» (ок. 1754, опубл. 1814) поэта-сентименталиста и теоретика искусства Томаса Грея; [17]17
О вкладе Грея в «готическое возрождение» см.: Clark K.The Gothic Revival. An Essay in the History of Taste (1928). N.Y.; Chicago; San Francisco: Holt, Rinehart & Winston, 1962. P. 33—39; Roberts M.Thomas Gray’s Contribution to the Study of Medieval Architecture // Architectural History. 1993. Vol. 36. P. 49—68.
[Закрыть]в свою очередь изданные в 1742 и 1747 годах книги ландшафтного дизайнера Батти Лэнгли о «готической архитектуре, усовершенствованной с помощью правил и пропорций» «для украшения садов и зданий», и практические опыты антиквара, дизайнера и архитектора Сандерсона Миллера по созданию искусственных руин, живописно встроенных в «естественный» антураж английского пейзажного парка, способствовали распространению малых форм готики в церковной, усадебной и сельской застройке середины века [18]18
См.: Clark K.Op. cit. P. 48—53; Lovejoy A. O.Op. cit. P. 432—433.
[Закрыть]. Теоретические штудии и стилизаторские эксперименты корреспондировали с тогдашней поэтической модой: архитектурная топика, связанная с бренностью и разрушением (могилы, надгробия, руины старинных аббатств и монастырей), была неотъемлемой частью образного репертуара «кладбищенской» лирики, которая обрела популярность в литературе английского сентиментализма в 1740—1750-е годы. Десятилетием позже готическое (интерпретированное в нейтральном или недвусмысленно положительном ключе) вошло в число основополагающих категорий предромантической эстетики и было прямо соотнесено с различными литературными явлениями широко понятого Средневековья – от героических песен, рыцарских легенд и куртуазных романов (romance) до поэтических шедевров ренессансной и постренессансной словесности. После долгого пребывания в тени античных и классицистских авторитетов этот обширный пласт литературы переживает в 1750—1780-е годы второе рождение и обретает новое, почетное место в иерархии художественных ценностей как воплощение «истинной поэзии», источником которой объявляется живое, непосредственное, не скованное учеными примерами воображение. Рассудочным правилам эстетики классицизма, «вечным» нормам «изящного вкуса», освященным многовековой традицией поэтическим образцам теоретики предромантизма противопоставили выразительную иррегулярность, меланхолический и мрачно-трагический колорит, смутные, таинственные, фантастические образы, явленные в произведениях Л. Ариосто, Т. Тассо, Э. Спенсера, У. Шекспира, Дж. Милтона. Творчество именно этих поэтов ассоциировал с готикой епископ Ричард Хёрд в опубликованных в 1762 году «Письмах о рыцарстве и средневековых романах»; последовательно разграничив две художественные манеры – «героическую» (классическую) и готическую, он с энтузиазмом высказался в пользу второй и предложил рассматривать ее не как уродливое искажение принципов античной красоты, а как оригинальный архитектурный и литературный стиль, который следует оценивать по его собственным эстетическим законам. Согласно Хёрду, «готическая» поэма Спенсера «Королева фей» (ранее, в 1754 году, уже ставшая предметом обстоятельного анализа в специальном трактате Томаса Уортона) «черпает свой метод, равно как и другие отличительные черты своего облика, из установленных обычаев и представлений рыцарства» и обладает «цельностью и простотой, обусловленными ее природой»; отсутствие классического единства действия компенсируется у Спенсера готическим «единством замысла» [19]19
Hurd R.Letters on Chivalry and Romance, with the Third Elizabethan Dialogue / Ed. with Introduction by Edith J. Morley. L.: Henry Frowde, 1911. P. 119, 122.
[Закрыть]. С «готическими нравами и приемами» Хёрд связывал и наивысшие художественные достижения Шекспира [20]20
Ibid. P. 117.
[Закрыть], в творческом наследии, природе дарования и самой личности которого он, как и другие предромантики, видел своего рода манифестацию собственных эстетических идей.