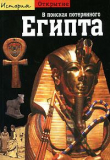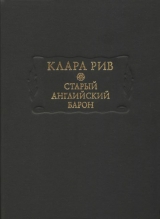
Текст книги "Старый английский барон"
Автор книги: Клара Рив
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Впрочем, подлинный историзм или философский смысл повествования явно занимали Уолпола отнюдь не в первую очередь. Основным предметом творческих интересов автора – историка-дилетанта, обожавшего Средние века, восторженного поклонника старины, владельца и постоянного обитателя усадьбы Строберри-Хилл (которая к 1764 году в основном уже обрела свой новый, стилизованный облик) – было, несомненно, создание особой атмосферы действия, отвечавшей прежде всего его личным эстетическим симпатиям и настроениям, экспериментирование с необычным для литературы XVIII века художественным пространством готического замка, с его экзотическим антуражем и рыцарской атрибутикой. В письме другу-антиквару, преподобному Уильяму Коулу, от 9 марта 1765 года Уолпол поведал, что взялся за перо, находясь во власти мечтательного настроения, вдохновленный экзотической атмосферой однажды увиденного сна, в котором ему пригрезилась гигантская рука в железной перчатке, лежащая на балюстраде высокой лестницы старинного замка [67]67
«Однажды утром в начале июня я пробудился от сна, из которого запомнил только, что находился в старинном замке (вполне естественный сон для такой головы, как моя, переполненной готическими историями) и на верхних перилах парадной лестницы видел огромную руку в латной перчатке. Вечером того же дня я принялся писать, не имея ни малейшего понятия, о чем собираюсь рассказывать. Рукопись росла и становилась все дороже моему сердцу; добавьте к этому, что тогда я рад был думать о чем угодно, лишь бы не о политике. Короче, я увлекся этой повестью и закончил ее менее чем за два месяца, причем однажды после чаепития я приблизительно в шесть часов сел за рукопись и не мог оторваться от нее до половины второго ночи, когда пальцы мои так устали, что я не сумел завершить предложение и прервал беседу Матильды с Изабеллой прямо посредине абзаца» (The Yale Edition of Horace Walpole’s Correspondence. New Haven; L.: Yale University Press, 1937. Vol. 1. P. 88. Пер. С. Антонова и Л. Бриловой).
[Закрыть]. Это необычное сновидение писатель напрямую использовал в сюжете книги: огромная железная перчатка, исполинский шлем и другие рыцарские доспехи на протяжении повествования неоднократно появляются перед Манфредом и его домочадцами, свидетельствуя о постоянном присутствии в замке духа Альфонсо и служа предзнаменованием скорой гибели преступного рода. Образ же, вынесенный в заглавие романа, вне всяких сомнений, является литературной проекцией (хотя и не абсолютно точной) замка Строберри-Хилл; в описании многочисленных комнат, коридоров, лестниц и галерей княжеской резиденции, в обстоятельном перечислении оружия и амуниции сквозит авторское любование интерьерами своей виллы, говорящее о том, что «сценой, на которой Уолпол мысленно проигрывал действие книги, когда сочинял ее, был его собственный дом» [68]68
Mehrotra K. K.Op. cit. P. 17. Ср. также афористичное замечание М. Саммерса: «Замок Отранто – это Строберри-Хилл в литературе» ( Summers M.Op. cit. P. 181).
[Закрыть]. Об этом же свидетельствует заявление самого писателя, сделанное в предисловии к первому изданию от имени Уильяма Маршалла – мнимого переводчика «старинного манускрипта»: «Действие несомненно происходит в каком-то действительно существовавшемзамке. Часто кажется, что, описывая отдельные части замка, автор ненамеренно воспроизводит то, что видел сам.Он говорит, например, „горница справа“, „дверь слева“, „расстояние от часовни до покоев Конрада“. Эти и другие места в повести заставляют с большой степенью уверенности предположить, что перед взором автора было какое-то определенное строение» [69]69
Уолпол Г.Указ. соч. С. 47. Курсив наш. – С. А.
[Закрыть]. Под видом сторонней оценки чужого произведения Уолпол дает здесь обобщенную, но довольно точную характеристику изобразительной природы и подлинных обстоятельств создания своего романа. Наконец, в целом ряде писем друзьям и в упоминавшемся выше описании собственной виллы он открыто именует Строберри-Хилл «замком Отранто».
Эта укорененность литературного образа в конкретных обстоятельствах авторского modus vivendi (доходящая до прямых соответствий в расположении покоев и деталях обстановки двух замков – реального и фикционального) [70]70
Подробнее см.: Lewis W. S.The Genesis of Strawberry Hill // Metropolitan Museum Studies. 1934. Vol. 5. № 1. P. 89—90; Mehrotra K. K. Op. cit. P. 17—18; Lévy M.Le roman «gothique» anglais, 1764—1824. Toulouse: Association des Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1968. P. 116—117.
[Закрыть]обусловила приоритет «интерьерного» ви́дения в большинстве эпизодов книги. В отличие от готики более позднего времени – например, романов Анны Радклиф (1764—1823) – едва ли не все основные события уолполовского романа разворачиваются внутризамка, в пределах замковых стен; такое преобладание «взгляда изнутри» отражает привычный пространственный опыт хозяина Строберри-Хилл – опыт, которым он (возможно, невольно) наделил и действующих лиц своего повествования [71]71
См. об этом: Smith W. H.Architecture in English Fiction. New Haven: Yale University Press; L.: H. Milford: Oxford University Press, 1934. P. 81; Ketton-Cremer R. W.Op. cit. P. 140, 189; Антонов С. А., Чамеев А. А.Указ. соч. С. 381—382; Антонов С. А.Призрак в доспехах, или Взгляд на готические игрушки сквозь готические стекла // Уолпол Г. Указ. соч. С. 29—30.
[Закрыть]. В произведениях последователей Уолпола замок, как правило, предстает чужим, незнакомым, враждебным местом, в которое персонажи попадают случайно, сбившись с пути, или под действием чьей-то злой воли; для героев Уолпола замок – это привычное, обжитое, своепространство, и внезапное появление в нем ирреальных сил становится для его обитателей (несмотря на присущую средневековому сознанию веру в чудеса) событием беспрецедентным, взрывающим размеренное течение их повседневной жизни, опрокидывающим давно сложившийся порядок вещей. Соответственно, в готических романах 1790—1800-х годов замок нередко покинут, полуразрушен, покрыт густой растительностью и эстетически гармонирует с окружающим его миром дикой природы, символизируя ее торжество над культурой и цивилизацией и – в более общем смысле – бренность всего сущего; замок Отранто, напротив, обитаем и, как и его реальный прототип (в период создания книги – совершенно новыйзамок), еще не подвергся разрушительному воздействию времени. Лишь в финале романа он обращается в руины – однако не в результате поступательной энтропийной работы истории, а вследствие одномоментной (хотя и исподволь подготавливаемой) катастрофы, за которой стоит неумолимая воля Провидения, безразличного к замыслам, надеждам и чаяниям смертных.
В организации готического пространства «Замка Отранто», таким образом, явно читается биографическийопыт Уолпола – антиквара, медиевиста и архитектора-любителя. В свою очередь репрезентация сверхъестественного в романе непосредственно связана с литературнымипредпочтениями автора. Уолпол, как уже говорилось, намеренно акцентирует чудесно-фантастическое, по сути, обрамляя рассказываемую историю его недвусмысленными, эффектными, даже шокирующими манифестациями: книга открывается эпизодом падения с небес гигантского шлема Альфонсо Доброго, а завершается сценой, в которой выросший из-под развалин замка Отранто призрак возносится в заоблачную обитель вечных сущностей. Между завязкой и развязкой разворачивается целая серия чудесных знамений: портрет деда Манфреда выходит из рамы, из носа статуи Альфонсо капает кровь, облаченный во власяницу скелет отшельника является предостеречь маркиза да Виченца от брака с Матильдой, раздаются протяжные стоны и удары грома в те моменты, когда герои говорят или делают нечто, противоречащее замыслам Провидения, и т. п. Все эти самообнаружения ирреального не окутаны загадочной полутьмой (о которой писал в своем трактате Эдмунд Бёрк и которая вскоре станет широко применяться в готической прозе как одно из главных средств поддержания сюжетной тайны) – напротив, они, по меткому наблюдению Вальтера Скотта, озарены «резким дневным светом», обладают «отчетливыми, жесткими контурами» [72]72
Вальтер Скотт о «Замке Отранто» Уолпола. С. 240.
[Закрыть], обрисованы рельефно и зримо, во всей их (мета)физической несомненности. Эта открытая манифестация сверхъестественного роднит «Замок Отранто» с изобразительным миром средневековых и ренессансных рыцарских романов, а в отдельных случаях – с волшебными коллизиями литературных сказок (в частности, высоко чтимого Уолполом англо-французского писателя Антуана Гамильтона). Вместе с тем восприятие сверхъестественного персонажами романа намечает принципиально новый, незнакомый жанру romance механизм функционирования фантастического в повествовательной литературе: аффект страхаперед ирреальным, неожиданно и необъяснимо проступающим сквозь ткань реальности, является несомненной и концептуальной новацией готической поэтики. В рыцарских романах чудесное выступало, по словам М. М. Бахтина, в качестве всеопределяющей нормы: «весь мир становится чудесным, а само чудесное становится обычным (не переставая быть чудесным)» [73]73
Бахтин М. М.Указ. соч. С. 302.
[Закрыть]. Соответственно, чудо в мире romance обычно «воспринимается как должное, не вызывая удивления», в отдельных случаях «может удивлять и даже поражать, но никогда не вызывает того панического страха, какой испытывают герои готического романа, столкнувшись со сверхъестественным» [74]74
Зыкова Е. П.Чудесное и сверхъестественное в сознании английских просветителей // Другой XVIII век: Сб. науч. работ. С. 20, 21.
[Закрыть]. В готической литературе фантастическое – действительное или мнимое – почти всегда предполагает обескураживающее, шокирующее, пугающее опровержение, казалось бы, устоявшихся человеческих представлений об окружающем мире как мире нефантастическом; сверхъестественное в подобном повествовании – это «нарушение общепринятого порядка, вторжение в рамки повседневного бытия чего-то недопустимого, противоречащего его незыблемым законам, а не тотальная подмена реальности миром, в котором нет ничего, кроме чудес» [75]75
Кайуа Р.В глубь фантастического. Отраженные камни / Пер. Н. Кисловой. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. С. 110—111.
[Закрыть].
Нетрудно заметить, что в реакции действующих лиц «Замка Отранто» на активность потусторонних сил противоречиво сочетаются две позиции – исполненного веры в чудеса человека Средневековья (каким его видел XVIII век) и новоевропейского, рационально (а то и скептически) мыслящего индивида, сталкивающегося с необъяснимыми явлениями, которые решительно не вписываются в признаваемый им порядок вещей. С одной стороны, в представления персонажей о мире органично входят ангелы, святые, демоны, призраки, домовые, чернокнижие и колдовство; с другой стороны, слуги Манфреда насмерть пугаются объявившегося в замке великана в рыцарских латах, а сам князь высокомерно насмехается над их страхами как пустым суеверием и лишь после целой череды пророческих знамений начинает воспринимать сверхъестественное всерьез – как неотъемлемую часть окружающей действительности и реальную угрозу собственному всевластию. Подобное восприятие чудесного, окрашенное странным для описываемых времен скептицизмом, противоречит не только психологическим и поведенческим нормам рыцарского романа, но и заявлению самого Уолпола (в предисловии к первому изданию) об «устойчивой вере» средневекового человека «во всякого рода необычайности» и о необходимости представить персонажей «исполненными такой веры», дабы не уклониться от жизненной правды «в изображении нравов эпохи» [76]76
Уолпол Г.Указ. соч. С. 44—45.
[Закрыть]. Думается, что определенное несовпадение текста книги с этой авторской декларацией стало результатом сознательной ориентации писателя на чрезвычайно влиятельный для его замысла литературный образец.
Этим образцом для Уолпола, несомненно, было предромантически осмысленное творчество Шекспира – «готического барда», чей авторитет освящал возможность открытого и многопланового изображения сверхъестественных явлений (а также вызываемых ими аффектов) в литературе Нового времени. В эмоциональный репертуар его трагедий и хроник, связавших средневековые сюжеты и ренессансный титанизм мыслей и чувств с обостренной саморефлексией новоевропейского человека, на равных правах входят и суеверный страх при встрече со сверхъестественным (Марцелл и Бернардо в «Гамлете»), и скептический рационализм, вынужденный, впрочем, капитулировать перед очевидным (Горацио), и стоическая решимость последовать за выходцем из загробного мира (Гамлет), и экзистенциальный ужас убийцы, чей одинокий, недоступный окружающим визионерский опыт обусловлен муками преступной совести и ожиданием потустороннего возмездия за совершенный грех (Ричард III, Макбет). Этот широкий спектр ситуаций и психологических состояний, безусловно, немало помог Уолполу в «удачном соединении сверхъестественного с человеческим» [77]77
Вальтер Скотт о «Замке Отранто» Уолпола. С. 243.
[Закрыть], и неудивительно, что, переиздавая роман в 1765 году, писатель с благодарностью признал свой долг перед Шекспиром, назвав его «великим знатоком человеческой природы» и «блистательнейшим из гениев» [78]78
Уолпол Г.Указ. соч. С. 51, 57.
[Закрыть], когда-либо рожденных английской нацией.
Во втором издании книги Уолпол, воодушевленный ее успехом у читающей публики, отказался от мистифицирующих фигур сочинителя-итальянца и переводчика-англичанина, раскрыл свое авторство, снабдил основное название новым подзаголовком « готическаяповесть» и предварил текст новым программным предисловием, где указал на экспериментальный характер предпринятого им труда. Он аттестовал «Замок Отранто» как опыт соединения двух разновременных жанровых форм, как попытку создать «новый вид романа», который примирил бы «силу воображения», отличавшую старинные рыцарские повествования, с «верным воспроизведением Природы» [79]79
Там же. С. 49, 50, 57.
[Закрыть], свойственным романной прозе века Просвещения. Однако основная часть этого предисловия посвящена защите Шекспира от классицистских инвектив Вольтера. Отстаивая достоинства шекспировской драматургии, в которой органично сочетаются трагическое и комическое, возвышенное и низменное, стихи и проза, свобода поэтического вымысла и глубочайшая (пусть и не буквально понимаемая) верность жизненной правде, Уолпол одновременно защищает собственную«дерзкую попытку» [80]80
Там же. С. 57.
[Закрыть]изобрести – посредством синтеза различных повествовательных моделей – новый литературный жанр. В многообразии стилистических регистров «Гамлета» и «Юлия Цезаря», возмущавшем Вольтера, автор «Замка Отранто» усматривает своего рода санкцию на художественный эксперимент, выданную Шекспиром всем последующим писательским поколениям. Характерное для английского предромантизма утверждение британской культурной идентичности (в лице величайшего гения национальной литературы) смыкается в этих вводных рассуждениях Уолпола с апологией своего индивидуального права на свободу творчества – права, освященного шекспировским авторитетом [81]81
См. об этом: Chaplin S.The Scene of a Crime: Fictions of Authority in Walpole’s «Gothic Shakespeare» // Gothic Shakespeares. P. 102—103; Williams A.Op. cit. P. 14—15, 26—30.
[Закрыть].
В самом романе влияние драматургии Шекспира просматривается не только в специфике представления и восприятия сверхъестественного, но и в других аспектах поэтики [82]82
Всесторонний анализ шекспировского влияния на Уолпола и ранний готический роман см. в изд.: Mydla J.Spectres of Shakespeare: Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
[Закрыть] – прежде всего в фабульно-тематических коллизиях (связанных с мотивом узурпации власти) и в обрисовке характера Манфреда. Властитель Отранто в изображении Уолпола – зловещая, преступная и одновременно глубоко трагическая фигура: самим своим происхождением, самой судьбой он вовлечен в давний династический конфликт и обречен на поражение в его величественной и драматичной развязке. «Косвенно Манфред виновен в совершенных им злодеяниях, но это вина человека, поставленного перед необходимостью или смириться перед волей рока, или вступить с ним в совершенно безнадежную борьбу, умножая и без того тяжкие злодеяния, пятнающие честь его рода. ‹…› Подобно Макбету, Манфред знает не только формулировку пророчества, свою судьбу, но и то, что возмездие неотвратимо, что пророчество непременно должно сбыться. Так же, как и Макбет, Манфред слишком горд, чтобы смиренно ждать, когда свершится неотвратимое. Пока в его руках сохраняется власть, пока у него остается возможность действовать, он бросает вызов неумолимому року» [83]83
Ладыгин М. Б.Указ. соч. С. 28—29, 25.
[Закрыть]. Этот «шекспировский» рисунок характера главного героя уточняется прямыми отсылками к трагедиям английского драматурга, в частности, цитированием отдельных строк и воспроизведением ряда мотивов и ситуаций «Юлия Цезаря», «Гамлета» и «Макбета». Подобно датскому принцу, бесстрашно устремляющемуся за тенью отца, Манфред выказывает готовность последовать за духом своего деда, сошедшим со старинного портрета, «хоть в самую преисподнюю»; [84]84
Уолпол Г.Указ. соч. С. 72.
[Закрыть]в другом эпизоде романа, терзаемый сознанием своей виновности, он принимает облаченного в рыцарские доспехи Теодора за призрак Альфонсо Доброго (явившийся, как он полагает, ему одному) – и в этом минутном заблуждении уподобляется Макбету, которого в сцене пира (III. 4) посещает страшное потустороннее видение убитого по его приказу Банко, незримое для окружающих. Одна из реплик в обращении князя к прибывшим в замок рыцарям («Вы считаете меня честолюбцем, но честолюбие, увы, складывается из более грубой материи») [85]85
Там же. С. 137.
[Закрыть]очевидно повторяет слова из надгробной речи, произносимой Марком Антонием на похоронах Цезаря: «Когда бедняк стонал, то Цезарь плакал, | А честолюбью подобает твердость» (Юлий Цезарь. III. 2. 91—92. Пер. наш. – С. А.); в образе кровоточащего мраморного изваяния Альфонсо в свою очередь угадывается реминисценция кошмарного сна Кальпурнии, в котором статуя Цезаря «струила, как фонтан, из ста отверстий | Кровь чистую, и много знатных римлян | В нее со смехом погружали руки» (II. 2. 77—79. Пер. М. Зенкевича). Эти параллели, которые легко могут быть умножены [86]86
Подробнее см.: Burney E. L.Shakespeare in «Otranto» // Manchester Review. 1972. Vol. 12. P. 61—64; Bedford K.«This castle hath a pleasant seat»: Shakespearean Allusion in «The Castle of Otranto» // English Studies in Canada. 1988. Vol. 14. № 4. P. 415—435.
[Закрыть], дополняет стилистическое сходство: по примеру Шекспира Уолпол разнообразил основную возвышенно-трагическую тональность повествования комедийными интерполяциями, где на передний план выведены суеверные и болтливые слуги. По словам самого автора, «благодаря своей naïveté и простодушию они открывают многие существенные для сюжета обстоятельства, которые никаким иным путем не могли бы быть введены в него», и «играют весьма важную роль в приближении развязки» [87]87
Уолпол Г.Указ. соч. С. 45—46.
[Закрыть]. Вслед за Шекспиром [88]88
Ср., напр., диалоги охваченной нетерпением Джульетты со своей кормилицей в «Ромео и Джульетте» (II. 5 и III. 2).
[Закрыть]Уолпол использовал этот персонажный тип (воплощенный в «Замке Отранто» в образах Бьянки, Жака и Диего) в качестве элемента нарративной техники, усиливающего эмоциональную напряженность рассказа. В дальнейшем фигура честного, преданного, сметливого, но притом суеверного и говорливого слуги стала одной из значимых единиц в повествовательной структуре европейского готического романа [89]89
О функциях этого персонажного типа в готической прозе подробнее см.: Lawrence J. Th.The Third Person in the Room: Servants and the Construction of Identity in the Eighteenth-Century Gothic Novel.
URL: http://digitalarchive.gsu.edu/english_diss/28 (дата обращения: 27.07.2012).
[Закрыть].
Драматургическое влияние распространяется и на более общие черты поэтики уолполовской книги, сказываясь в ее композиционном построении, в специфической «театральности» многих сцен, ситуаций и образно-речевых характеристик. Разделение текста на пять глав, как уже давно отмечено критиками, явно восходит к пятиактной структуре неоклассической трагедии, а локализация основного действия в пределах замка (которая позволила Уолполу уложить богатую событиями историю в компактную форму небольшого романа) полностью согласуется с правилом «единства места», кодифицированным европейскими теоретиками драмы в XVI—XVIII веках [90]90
Подобная организация повествования очевидно расходится с предромантической увлеченностью Уолпола «иррегулярным» Шекспиром и выглядит вольной или невольной уступкой конвенциям классицистской эстетики. Высказывания писателя на эту тему внутри и вне романа образуют неснятое противоречие: в письме маркизе дю Деффан от 13 марта 1767 г. он заявил, что сочинил свою книгу « наперекор всем правилам, критикам и философам» (The Yale Edition of Horace Walpole’s Correspondence. New Haven; L.: Yale University Press, 1939. Vol. 3. P. 260), тогда как в предисловии к первому изданию «Замка Отранто» заметил – и вполне обоснованно, – что «развитие действия почти на всем протяжении рассказа происходит в соответствии с законами драмы» ( Уолпол Г.Указ. соч. С. 45. Курсив наш. – С. А.).
[Закрыть]. Следуя аристотелевскому определению трагедийного катарсиса, автор «Замка Отранто» называет своим «главным орудием» ужас, который «ни на мгновение не дает рассказу стать вялым; притом ужасу так часто противопоставляется сострадание, что душу читателя попеременно захватывает то одно, то другое из этих могучих чувств» [91]91
Там же.
[Закрыть]. Самообнаружения сверхъестественного последством различных акустических эффектов – шумов, стонов, раскатов грома – и гротескно-гиперболической материальной атрибутики (гигантских доспехов и оружия, оживающего портрета и подающей признаки жизни статуи), чрезмерная аффектация, которой отмечены речь и поведение действующих лиц, патетические монологи и остроэмоциональные диалоги (занимающие, по подсчетам исследователей, четыре пятых от общего объема текста) имеют явственные театральные корни и, с другой стороны, сами взывают к сценическому воплощению [92]92
См. об этом: Hogan Ch. B.The «Theatre of Geo. 3» // Horace Walpole: Writer, Politician and Connoisseur. Essays on the 250th Anniversary of Walpole’s Birth / Ed. by Warren Hunting Smith. New Haven; L.: Yale University Press, 1967. P. 227—240.
[Закрыть]. Последнее, собственно говоря, состоялось спустя полтора десятилетия после выхода в свет «Замка Отранто», когда ирландский драматург Роберт Джефсон, друг Уолпола, написал на основе сюжета его книги трагедию «Граф Нарбоннский»; впервые представленная в Ковент-Гарден 17 ноября 1781 года, эта пьеса снискала огромный успех у зрителей и продолжительное время оставалась в репертуаре театра. Сам же писатель еще до появления адаптации Джефсона развил сценический потенциал своего романа, создав стихотворную трагедию «Таинственная мать» (1766—1768, опубл. 1768), которая положила начало популярному в XIX веке жанру готической драмы [93]93
См.: Evans B.Gothic Drama from Walpole to Shelley. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1947.
[Закрыть].
Осуществленная Уолполом драматизация прозаического повествования определила эстетико-психологические основы нового, готического типа сюжета, приоритетом которого стало не самораскрытие человеческих характеров, а создание острых, рискованных, экстраординарных, не объяснимых обыденной логикой ситуаций, стимулирующих «возвышенные» ощущения как у героев, так и у читателей книги. Наряду с этим готический роман активно эксплуатирует известные из авантюрной литературы катализаторы читательского интереса (резкие повороты действия, отвлекающие ходы, эффектные совпадения, роковые тайны и т. п.), смещая их эмоциональное наполнение с простой занимательности в область тревоги и страха. Вторжение в важный разговор болтливых слуг, порыв ветра, внезапно задувающий свечу и оставляющий сцену в пугающей темноте, откуда доносятся загадочные звуки (приемы, открытые и впервые примененные в «Замке Отранто»), включение в рассказ побочной сюжетной линии, в самый ответственный момент уводящей читательское внимание от основной событийной канвы, неожиданный пробел в рукописи, которую содержит или имитирует произведение, – всеми этими средствами создается интригующе-таинственная атмосфера, каковую авторы готических историй стараются поддерживать до последних страниц своих книг. Эти умолчания, паузы, ретардации, обманные ходы, в современной теории искусства именуемые саспенсом(от англ. suspense – неизвестность, неопределенность, беспокойство, тревожное ожидание), призваны вновь и вновь «возбуждать трепетное любопытство читателя, пробуждать в нем неясные догадки и предчувствия, заставлять его устремляться по ложному следу, с тем чтобы после долгих блужданий в лабиринте неведомого он вновь оказался перед лицом неразрешенной тайны» [94]94
Елистратова А. А.Готический роман // История английской литературы: [В 3 т.]. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945. Т. 1. Вып. 2. С. 593.
[Закрыть].
Лабиринт в данном случае – больше чем фигура речи: вышеописанной структуре повествованияв готической прозе соответствует причудливая, запутанная, олицетворяющая идею загадочности бытия структура пространства, в котором обретаются персонажи. С ранних лет своей истории рассматриваемый жанр постоянно варьирует тему затерянности человека в чужом, непонятном и враждебном мире, и готический замок с его лабиринтоподобной системой многочисленных комнат, коридоров, лестниц и галерей предстает ее зримой архитектурной иллюстрацией, выполняя, таким образом, миромоделирующую функцию. Важнейшие топосы готического романа отмечены печатью ярко выраженной клаустрофобии, они предполагают помещение героев в экстремальные психосоматические состояния стесненности, сдавленности, изоляции и т. п. Это и заточение в подземелье (смыкающееся с мотивом погребения заживо), и блуждание по темным, извилистым, запутанным коридорам в тщетных поисках выхода, и инцест, понимаемый как утрата просторавозможностей выбора, как «узость мира» [95]95
Ср.: «Одно из значений инцестуального мотива – он выражает узость мира, узость отношений. Люди хотят и не могут войти в большую жизнь, нет вольностей большой судьбы, нет вольностей развития. Неведомо для них самих их гонит обратно, к лону, откуда они вышли, им суждено погибнуть в теснинах кровного родства, как внутри здания, стены которого сдвинулись» ( Берковский Н. Я.Романтизм в Германии. Л.: Худож. лит., 1973. С. 262. Курсив наш. – С. А.). Не будучи исключительной принадлежностью готического романа, мотив инцеста именно в нем получил необыкновенно широкое развитие и стал устойчивым элементом его художественной структуры: по наблюдениям исследователей, более пятидесяти произведений этого жанра, созданных в период предромантизма и романтизма, содержат данный мотив. В свою очередь сцены, разворачивающиеся в подземельях, присутствуют едва ли не в каждом третьем «страшном» романе эпохи (см.: Tracy A. B.The Gothic Novel, 1790—1830: Plot Summaries and Index to Motifs. Lexington: The University Press of Kentucky, 1981. P. 199, 201; Вацуро В. Э.Готический роман в России. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 91, 186). Содержательный анализ топики замкнутого пространства в готическом романе дан в изд.: Engel L.The Role of the Enclosure in the English and American Gothic Romance // Essays in Arts and Sciences. 1982. Vol. 11. P. 59—68; Harwell Th. M.Toward a Gothic Metaphysic: Gothic Parts // Publications of the Arkansas Philological Association. 1986. Vol. 12. № 2. P. 33—43; Hogle J. E.The Restless Labyrinth: Cryptonomy in the Gothic Novel // Gothic: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies: In 4 vol. / Ed. by Fred Botting and Dale Townshend. L.; N.Y.: Routledge, 2004. Vol. 1. P. 145—166.
[Закрыть], и более общая ситуация навязчивых повторений прошлого в настоящем, обесценивающих ход истории, превращающих ее в череду зловещих уподоблений [96]96
Ср.: «Страшный мир страшен тем, что он окончательно сложился, не обещая движения, перемен. Собственно, это мир, в котором история кончилась, просветы кончились, мир без окон и без дверей, со сплошными стенами» ( Берковский Н. Я.Указ. соч. С. 161).
[Закрыть]. Местом рождения этих образно-смысловых парадигм, несомненно, стали интерьеры и окрестности замка Отранто (который на глазах у читателя превращается из горделивого символа аристократической власти, олицетворения надежности и социального порядкав опасное для человека пространство хаоса, обитель потусторонних сил, находящихся вне человеческого понимания и контроля) [97]97
См. об этом: Frank F. S.Proto-Gothicism: The Infernal Iconography of Walpole’s «The Castle of Otranto» // Orbis litterarum. 1986. Vol. 41. № 3. P. 199—212.
[Закрыть].
В первой же главе романа Теодор по воле Манфреда оказывается узником гигантского шлема, которым чуть раньше был раздавлен Конрад, а Изабелла да Виченца вынуждена скрываться в мрачных подземных коридорах – своеобразной «зоне отчуждения» внутри многонаселенной и обжитой княжеской резиденции. С этой территорией, выключенной из сферы повседневного быта обитателей замка, связан первый в готической прозе опыт испытания персонажа суггестивным, «атмосферным» страхом, который порождают неизвестность, одиночество, темнота и безмолвие. Эффект саспенса, возникающий в сцене блужданий Изабеллы по подземелью, позднее был закреплен и усовершенствован другими романистами (прежде всего Анной Радклиф), но, по-видимому, не особенно интересовал самого Уолпола: едва забрезжив в повествовании, этот эффект стремительно нивелируется последующей встречей юной героини с Теодором и высвобождением обоих из туннельного плена. Однако роль упомянутой сцены в общей конструкции книги не сводится к краткому упражнению в технике саспенса. Уолпол снабжает эпизод в подземелье своего рода событийной «рифмой» (в третьей главе Изабелла вновь скрывается от Манфреда в каменном лабиринте – на этот раз в пещерах к востоку от замка, – и ее защитником вновь оказывается доблестный Теодор), в которой реализуется характерная для поэтики романа – и весьма существенная для его замысла – фигура повтора. Воплощаемая на разных уровнях текста – сюжетном, персонажном, речевом, она акцентирует неизбывную зависимость настоящего от прошлого, свойственную готическому хронотопу, высвечивает в истории и в индивидуальных судьбах зловещую логику редупликации. Теодор не просто прямой потомок Альфонсо Доброго, но, по сути, представляет собой его «оживший портрет». Его неожиданное воссоединение с родным отцом, которого он, казалось, навеки утратил, дублируется столь же чудесным обретением Изабеллой своегоотца в лице маркиза да Виченца. Внезапно вспыхнувшая страсть маркиза к Матильде зеркально отражает одержимость Манфреда Изабеллой; при этом домогательства князя, которому Изабелла приходится нареченной дочерью, аттестуются в романе как «кровосмесительный умысел» [98]98
Уолпол Г.Указ. соч. С. 110.
[Закрыть], как попытка инцеста, предстающая искаженным эхом предполагаемой инцестуальности брака Манфреда и Ипполиты (родственников в четвертом поколении). Матильда и Изабелла, при всей разнице их темпераментов, также встроены в общую систему взаимных отражений – названая дочь замещает в сердце Манфреда родную, та в свою очередь побеждает ее в соперничестве за сердце Теодора, после чего роли снова меняются: Матильда гибнет от руки отца вместоИзабеллы, которая в результате становится ( вместоМатильды) женой подлинного наследника княжества [99]99
См. подробнее, с более широким кругом примеров: Morris D. B.Gothic Sublimity // New Literary History: A Journal of Theory and Interpretation. 1985. Vol. 16. № 2. P. 303—305.
[Закрыть]. Включенные в логику подмен и повторов, персонажи романа закономерно утрачивают самотождественность: крестьянин на глазах у читателя оборачивается князем, князь – внуком княжеского мажордома, монах – графом, а сироты – счастливыми отпрысками по-прежнему здравствующих отцов [100]100
Наблюдение американского исследователя Р. Кили (см.: Kiely R.The Romantic Novel in England. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1972. P. 39). Разумеется, нетрудно увидеть здесь традиционные, известные с античных времен и прошедшие через всю историю европейского романа и драмы авантюрные мотивы (в частности, мотив встречи разлученных родственников, сопровождающейся внезапным узнаванием), однако в рамках готической картины мира они получают принципиально иное смысловое наполнение.
[Закрыть]. Таким образом, повествование, в котором ранние интерпретаторы видели «хорошо слаженную последовательность увлекательных эпизодов» [101]101
Вальтер Скотт о «Замке Отранто» Уолпола. С. 242.
[Закрыть], на поверку оказывается нелинейным, полным рекуррентных ходов, эквивалентностей, внутренних «рифм» и остраняющих элементов, самой структурой воплощая идею мира-лабиринта.
Властвующий в этом мире рок, заложниками и марионетками которого являются персонажи романа, представлен у Уолпола в дисгармоничном единстве дарующих и отнимающих действий: восстановление в правах истинного наследника княжества достигается ценой гибели рода Манфреда, оно оплачено смертями его детей и невозможностью личного счастья Матильды и Теодора. По мере приближения развязки благое христианское Провидение начинает все больше напоминать гневного ветхозаветного Бога и устами отца Джерома провозглашает архаичный принцип кровной мести. Концовка книги, ознаменованная разрушением замка Отранто и выдержанная в откровенно апокалиптических тонах, говорит о «тщете человеческого величия» [102]102
Уолпол Г.Указ. соч. С. 204.
[Закрыть]перед лицом ужаса Абсолютно Иного [103]103
См. подробнее: Geary R. F.The Supernatural in Gothic Fiction: Horror, Belief and literary Change. Lewiston (NY): Edwin Mellen Press, 1992. P. 24—31. Ср., однако, противоположные трактовки, согласно которым сверхъестественное не утрачивает в финале своих провиденциальных функций: Conger S. M.Faith and Doubt in «The Castle of Otranto» // Gothic: The Review of Supernatural Horror Fiction. 1979. Vol. 1. P. 51—59; Ehlers L. A.The Gothic World as Stage: Providence and Character in «The Castle of Otranto» // Wascana Review. 1980. Vol. 14. № 2. P. 17—30.
[Закрыть].
Первые отклики критиков на роман Уолпола оказались разноречивы. Автор рецензии, помещенной на страницах «Критикл ревью» в январе 1765 года, усомнившись в том, что в эпоху Крестовых походов существовали настенные портреты в полный рост, заподозрил в «переводе с итальянского» современную мистификацию и расценил появление в Англии XVIII века «книги, основанной на столь прогнившем материале», как «необъяснимый феномен» [104]104
Цит. по: Horace Walpole: The Critical Heritage / Ed. by Peter Sabor. L.; N.Y.: Routledge, 1995. P. 68—69.
[Закрыть]. Более благожелательный отзыв на первое издание «Замка Отранто» был опубликован месяцем позже в «Мансли ревью»: рецензент (предположительно – поэт, прозаик и критик Джон Лэнгхорн) отметил в качестве достоинств произведения изящество и точность слога, выдержанность характеров, глубокое знание человеческой природы и недюжинные драматические способности сочинителя – и, судя по тону его рассуждений, принял на веру авторство пресловутого Онуфрио Муральто. Однако после выхода в свет второго издания, разоблачавшего выдумку с итальянской рукописью, эти похвалы были стремительно дезавуированы: уже в майском номере журнала критик, избавленный от необходимости делать скидку на нравы и вкусы «грубого, непросвещенного века» (и, весьма вероятно, раздосадованный собственным легковерием), назвал «более чем странным то обстоятельство, что автор, обладающий изысканным и утонченным даром, может ратовать за возрождение варварских предрассудков готического дьяволизма» [105]105
Цит. по: Ibid. P. 71—72.
[Закрыть]. Жертвой мистификации первоиздания стал и близкий друг Уолпола, поэт и священник Уильям Мэйсон, поведавший об этом владельцу Строберри-Хилл в письме от 14 апреля 1765 года: «Когда один мой приятель, которому я порекомендовал „Замок Отранто“, вернул мне книгу с некоторыми сомнениями в ее подлинности, я поднял его на смех, дивясь абсурдной мысли, что кому-то в наши дни достало воображения сочинить подобную историю» [106]106
The Yale Edition of Horace Walpole’s Correspondence. New Haven; L.: Yale University Press, 1955. Vol. 28. P. 5.
[Закрыть]. Уолпол в ответном послании признался, что, публикуя роман, «испытывал величайшую робость и неуверенность в успехе» [107]107
Ibid. P. 6.
[Закрыть]. Но вопреки этим авторским опасениям первые читатели восприняли «Замок Отранто» с немалым энтузиазмом. В письме Уолполу от 30 декабря 1764 года Грей рассказывал, что роман «привлек здесь (в Кембридже. – С. А.) всеобщее внимание, заставил кое-кого прослезиться и абсолютно всех – дрожать от страха, когда настает время отходить ко сну» [108]108
The Yale Edition of Horace Walpole’s Correspondence. New Haven; L.: Yale University Press, 1948. Vol. 14. P. 137.
[Закрыть], и можно думать, что это свидетельство – нечто большее, чем дружеский комплимент. Уже в 1766 году вышло в свет третье издание «Замка Отранто», а всего на протяжении XVIII века он републиковался более десяти раз [109]109
Точное число публикаций указать едва ли возможно, так как существуют два разных (хотя и отпечатанных с одного набора) издания романа, заявленных как «третье» (1766 и 1769), и два одновременных «шестых» издания (вышедших, соответственно, в Лондоне и Парме в 1791 г.), не считая пиратских перепечаток и переводов на другие языки.
[Закрыть], не утрачивая популярности на фоне других, более совершенных образцов готической прозы и осознаваясь уже современниками писателя как отправная точка этого жанра.
Вместе с тем поначалу, в первое после появления «Замка Отранто» десятилетие, у осуществленного Уолполом эксперимента нашлось крайне мало продолжателей. Среди немногочисленных опытов такого рода – роман Уильяма Хатчинсона (1732—1814) «Обитель отшельника» (1772), полный зловещих предсказаний и потусторонних явлений, и незавершенный прозаический набросок «Сэр Бертран» (1773), который увидел свет в сборнике произведений Джона Эйкина (1747—1822) и его сестры Анны Летиции Эйкин (в замужестве Барболд; 1743—1825) и по сей день зачастую ошибочно атрибутируется последней как исследователями, так и публикаторами [110]110
См., впрочем, закрывающую этот вопрос недавнюю публикацию «Сэра Бертрана» как сочинения Джона Эйкина в авторитетной антологии готических текстов под редакцией Риктора Нортона: Aikin J.Sir Bertrand, a Fragment (1773) // Gothic Reading: The First Wave, 1764—1840 / Ed. by Rictor Norton. L.; N.Y.: Leicester University Press, 2000. P. 7—10.
[Закрыть]. Оба сочинения написаны под явным влиянием уолполовской книги и открыто эксплуатируют ее поэтику сверхъестественного – в частности, образ оживленных потусторонней силой рыцарских доспехов. Впрочем, помимо копирования эффектных сцен «Замка Отранто», в этих повествовательных опытах присутствовал и ряд весьма перспективных находок: в «Обители отшельника» получил заметное развитие тип лицемерного, преступного монаха, открытый для нарождавшегося жанра Томасом Лиландом и в дальнейшем триумфально прошедший по страницам романов А. Радклиф, М. Г. Льюиса, Э. Т. А. Гофмана, Ч. Р. Метьюрина, В. Гюго и многих других авторов, а «Сэр Бертран» явил читателю, пусть и в эскизном исполнении, характерные элементы готического саспенса – зрелище погруженного во тьму полуразрушенного замка, мерцающие огни в его интерьерах, гулкое эхо шагов и холодные чуждые прикосновения во мраке. И все же мера оригинальности и художественной убедительности этих произведений была слишком невелика, чтобы они могли стать сколь-либо заметной вехой в истории готической литературы. Придать новый, неожиданный импульс изобретенной Уолполом жанровой форме, развив и переосмыслив его идею синтеза двух типов романа, довелось Кларе Рив и ее главной книге.
Клара Рив, как и Уолпол, ступила на литературную стезю в довольно зрелом возрасте – однако, в отличие от автора «Замка Отранто», в ее случае за этим шагом стояла не только интеллектуальная или эмоциональная потребность, но и материальная необходимость. Старшая дочь небогатого священника Англиканской церкви из Ипсуича, будущая писательница после смерти отца в 1755 году переехала с матерью и двумя сестрами в Колчестер, где, судя по скупым эпистолярным свидетельствам, в течение ряда лет работала служанкой в частном доме; завещанные ее нанимателями 40 фунтов годового дохода в конце концов позволили ей целиком посвятить себя литературным занятиям, которые она с самого начала рассматривала как способ обеспечить должным достатком себя и своих близких [111]111
См.: Report on the Manuscripts of Lady Du Cane, Presented to Parliament by Command of His Majesty. L.: Ben Johnson & Co., 1905. P. 238; Casler J. M.Clara Reeve: life and Works // Reeve C.The School of Widows / Ed. by Jeanine M. Casler. Newark: University of Delaware Press; L.: Associated University Presses, 2003. P. 17—18.
[Закрыть] – и вместе с тем как средство утверждения собственной гендерной позиции в избранном ею ремесле. Первым плодом этих занятий, появившимся в печати, стал изданный по предварительной подписке и под инициалами К. Р. поэтический сборник «Стихотворения на отдельные случаи» (1769), в предисловии к которому сочинительница отметила позитивные перемены, наблюдаемые в реакции общества на растущее участие женщин в литературной жизни и поощрившие ее смелость [112]112
См.: C. R.Original Poems on Several Occasions. L.: T. and J. W. Pasham for W. Harris, 1769. P. XI.
[Закрыть]. Сборник имел успех у читателей и, с учетом большого числа подписчиков (более 600), принес начинающей поэтессе солидную прибыль в 200 фунтов, вдохновив на новый литературный опыт. Им оказался перевод латиноязычного политико-философского авантюрного романа «Аргенида» (1619?—1621, опубл. 1621) жившего во Франции шотландского прозаика, поэта и богослова Джона Баркли (1582—1621), анонимно изданный в 1772 году под названием «Феникс, или История Полиарха и Аргениды». Построенный вокруг аллегорически изображенных политических и религиозных распрей в абсолютистской Франции рубежа XVI—XVII веков, сюжет этой книги, несомненно, воспринимался современниками Рив в контексте актуальных для Англии того времени социально-политических конфликтов (в частности, нашумевшего дела радикального журналиста и парламентария Джона Уилкса, который выступал за сокращение королевских прерогатив и парламентскую реформу и, преследуемый властями, стал в глазах широких слоев общества символом борьбы за права и свободы граждан) [113]113
См.: Kelly G.Introduction: Clara Reeve // Varieties of Female Gothic: In 6 vol. / Gen. ed. Gary Kelly. L.: Pickering & Chatto, 2002. Vol. 1: Enlightenment Gothic and Terror Gothic. P. LXV.
[Закрыть]. Как сочинение «автора „Феникса“» был впервые представлен публике и дебютный роман самой Клары Рив «Поборник добродетели», опубликованный в 1777 году в Колчестере и переизданный год спустя в Лондоне (с незначительными текстуальными изменениями) под названием «Старый английский барон», которое стало окончательным и утвердилось в истории литературы.