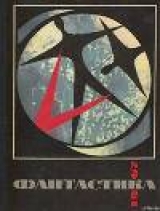
Текст книги "Фантастика 1967"
Автор книги: Кир Булычев
Соавторы: Север Гансовский,Генрих Альтов,Евгений Войскунский,Исай Лукодьянов,Владимир Савченко,Андрей Балабуха,Сергей Жемайтис,Михаил Пухов,Александр Горбовский,Владимир Михановский
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
– Нет, это ничего не дало бы. Набейте печь до отказа дровами – они просто не будут гореть. Нужен кислород. Теперь мы подходим к самой сути дела. Смотрите, вот атом кислорода. Шесть электронов на внешней орбите. До насыщения недостает двух электронов. И кислород их захватывает; в этом, собственно, и состоит его работа. Окислять – значит отбирать электроны.
Он снова стал выводить прутиком формулы, но было уже совсем темно. Мы пошли куда-то наугад.
– Раньше я занимался только дыханием, – рассказывал Каплинский. – Форсирование мощности организма, в сущности, особая проблема. Да я и не придавал ей значения. Зачем человеку сверхсила? Сокрушать силомеры?… К тому же тут много дополнительных трудностей. Возрастает выделение тепла, человек быстро перегревается. Пока я ничего не могу придумать. Впрочем, насчет махолета не беспокойтесь. Здесь все складывается удачно: большая скорость движения, поэтому улучшается теплоотдача. Можно летать минут двадцать, я прикидывал.
Мы выбрались на ярко освещенную аллею, к ресторану.
На террасе сидели люди. Оркестр, умеренно фальшивя, играл блюз Гершвина.
Я сказал Каплинскому, что недурно бы загрызть что-нибудь калорий на восемьсот.
– «Загрызть»? – переспросил он. – В каком смысле?
Я пояснил: загрызть – в смысле съесть.
– А, съесть, – грустно произнес Каплинский. Он как-то сразу скис. – Знаете, я восьмой день ничего не ем. Очень уж удачно прошел опыт…
* * *
Было бы преувеличением утверждать, что в тот вечер я все понял. И тогда и в следующие дни я то вроде бы все понимал, то все переставал понимать.
Физическая конструкция человека, пожалуй, самое незыблемое, самое постоянное в нашем меняющемся мире. Мы легко принимаем мысль о любых изменениях, но конструкция человека подразумевается при этом неизменной.
Человек, живший пятьдесят тысяч лет назад, по конструкции не отличался от нас (я не говорю сейчас о мышлении, о мозге). Таким же – это подразумевается само собой – останется и человек будущего. Ну, будет выше ростом, красивее… Даже управление наследственностью не ставит целью принципиально изменить энергетику человеческого организма.
Эволюция, сказал однажды Каплинский, приспособила человеческий организм к окружающей среде. Если бы на нашей планете росли электрические деревья, эволюция пошла бы по другому пути и непременно привела бы к электропитанию. Сложные процессы переработки и усвоения пищи в человеческом организме – это вынужденный ход природы. Такая уж планета нам досталась, сказал Каплинский, у эволюции не было выбора. Эволюция старалась, старалась и изобрела живот – механизм по-своему удивительно эффективный. Ну, а человек уже сам пришел теперь к электропитанию…
Это было логично, и пока Каплинский говорил, все казалось бесспорным. Зато потом возникали сомнения, всплывали самые неожиданные «но» и «однако».
Я звонил Михаилу Семеновичу (бывало и поздней ночью): «Хорошо, допустим, получение энергии из пищи не единственно возможный способ. Но на протяжении сотен миллионов лет эволюция приспосабливала жизнь к этому способу. Только к этому!» – «Нет, – отвечал Каплинский, – вы забыли о растениях. Они едят солнечную энергию, электромагнитные колебания». – «Позвольте, – возражал я, – так то растения!» – «А знаете ли вы, – спрашивал Каплинский, – что хлорофилл и гемоглобин поразительно похожи; разница лишь в том, что в хлорофилле содержится магний, а в гемоглобине – железо? Поймите же, – втолковывал Каплинский, – сходство далеко не случайное. Хлорофилл и гем – комплексные порфириновые соединения металлов. Вы слышите? Я говорю, соединения металлов…» От таких разговоров реальный мир начинал колебаться, и по ночам мне снились электрические сны. Я снова звонил Кашшнскому; ведь растениям, кроме света, нужны вода, углекислый газ, минеральные вещества…
«Подумаешь! – отвечал Каплинский. – Мне тоже нужны минеральные вещества, и вода нужна, и кое-какие витамины. И немного белков тоже нужно».
«Немного…» Как же! Я знал, что Михаил Семенович иногда не выдерживает («Понимаете, просто пожевать хочется. Как вы говорите – загрызть»), ест нормально – и тогда его искрит. Перестроившийся организм выделяет избыток электричества. Если взять лампочку от карманного фонарика, заземлить один провод, а второй приложить к Михаилу Семеновичу, волосок раскаляется и светит.
Хотя и не в полный накал.
В детстве, когда я лазил по книжным полкам, мне иногда попадались удивительные находки.
Комплект какого-нибудь журнала двадцатых годов: на пожелтевших страницах – пухлые дирижабли и угловатые, костистые автомобили. Или палеонтологический атлас с динозаврами и птеродактилями. Ожидание таких находок (это очень своеобразное чувство) сохранилось на всю жизнь. И вот теперь я нашел нечто совершенно исключительное.
РЭЧ – регулирование энергетики человека, так назвал это Каплинский. «Михаил Семенович, а вы могли бы поднять эту плиту?… Михаил Семенович, а какую скорость вы можете развить на короткой дистанции?… Михаил Семенович, а удастся ли вам допрыгнуть вон до того балкона?…» Щенячий восторг. Только через две недели я увидел громадную сложность проблемы. Завтра мне скажут: «Переходи на электропитание», – соглашусь я или нет?
Хорошо, я соглашусь (недалеко ушел от Каплинского, люблю эксперименты). А остальные? Подавляющее большинство нормальных людей?
Я рассказал о своих сомнениях шефу; он пожал плечами, ушел к себе и вернулся через четверть часа с бумагой, исписанной каллиграфическим почерком. «Приобщите к своей коллекции цитат и изречений», – сказал шеф. Это была выписка из статьи Биноя Сена, генерального директора Совета ООН по вопросам продовольствия: «Голод – самый давний и безжалостный враг людей. Во многовековой истории человеческих страданий проблема голода с годами не только не ослабевает, но становится все более насущной и острой. Проведенные недавно обследования показали, что в настоящее время в целом большая чем когда-либо часть человечества ведет полуголодное существование… Перед нашим поколением стоит великая, возможно, решающая задача. Все будущее развитие человечества зависит от того, что предпримут сейчас люди…»
– Лично для вас, – сказал шеф, – мы будем выращивать коров. Надеюсь, вас не шокирует, если коров будут выращивать методом электропитания? И не гамлетствуйте, вам неслыханно повезло. Вы закинули удочку на карася, а попался такой кит…
Может быть, в самом деле нет проблемы? Электропитание войдет в жизнь постепенно, не вызвав особых потрясений… Нет, тысячу раз нет! Мы меняем конструкцию человека. Как это отразится на человеке? На обществе? На всей кашей цивилизации, построенной применительно к данной конструкции человека?
Не было времени разобраться во всем, потому что вдруг пришла телеграмма от Осоргина-старшего: корабль собран, можно испытывать.
Я взял билеты на самолет и заехал за Михаилом Семеновичем. Он не очень удивился.
«А, к морю?… Что ж, я свободен». Он снова думал о чем-то своем.
* * *
– Как вы считаете, Михаил Семенович, хорошо или плохо так менять человека?
Он сразу насторожился.
– В каком смысле?
– В прямом. Человек, который не ест, биологически уже не человек. Это другое разумное существо. Так вот, хорошо это или плохо для самого человека? Можно сформулировать иначе: счастливее ли будет такое существо сравнительно с обычным человеком?
– А почему бы и нет? Ничего вредного в электропитании нет. Наоборот. Должна раз и навсегда исчезнуть по крайней мере половина болезней. Продолжительность жизни увеличится лет на пятнадцать-двадцать. Человек станет крепче, выносливее. Уменьшится потребность в сне…
– Еда доставляет и удовольствие. Вот вы поставили столик и ждете, что стюардесса принесет обед…
– Привычка, – смущенно пробормотал Каплинский. – Только привычка. Я могу еще два дня не… ну, не заряжаться. Вообще еда доставляет удовольствие только в том случае, если мы хотим есть.
Он оглянулся по сторонам и тихо спросил:
– Послушайте, а что если все-таки… ну… немного закусить? Чтобы не привлекать излишнего внимания.
Как же, можно подумать, что электроды на лысине не привлекают внимание!
– А вы не будете искрить?
Он обиженно фыркнул.
– Ну! Конечно, нет. В случае чего я замкнусь на массу самолета, провод у меня в кармане… Вот и ваша очередь. Превосходно! Смотрите, какая привлекательная рыбка.
– Вы говорите, Михаил Семенович, что это привычка. Может быть, сказать иначе: человек приспособлен к такому образу жизни? Собственно, это второй вопрос. Не нарушается ли естественный образ жизни человека? Не отрываемся ли мы от природы? Можете взять и мою рыбу, я ел перед отлетом.
– Спасибо. Все-таки аэрофлотовцы хорошо это организуют, молодцы, вы не находите? А что до естественного образа жизни… Ах, мой дорогой, естественно человек жил в лесу. Давным-давно. Как говорили классики, до эпохи исторического материализма. Ну конечно! – Он даже отложил вилку, так понравилась ему эта мысль. – Конструкция человека приспособлена к условиям, которые давно уже исчезли. Более того: конструкция эта рассчитана на неизменные условия. А мы создали меняющуюся цивилизацию. Мир вокруг нас быстро меняется, и мы тоже должны меняться. Это и будет естественно. Куда запропастилась соль, хотел бы я знать…
– А общество? Вот ваша соль.
– Общество выиграет. Необходимость в труде не исчезает, никакой катастрофы не произойдет. Но мы, наконец, перестанем работать на пищеварение. Человек, в сущности, прескверно устроен. Ну куда годится машина, которая поглощает в качестве топлива бифштексы, колбасу, сыр, масло, пирожные?… Всего и не перечислишь! Скажите, вы никогда не думали, что добрая половина нашего производства – это сложный передаточный механизм между природными ресурсами и, простите, животом человека? Сельское хозяйство… Тридцать четыре процента людей заняты в сельском хозяйстве, вот ведь какая картина. Сельское хозяйство, рыболовство, пищевая промышленность, дающая главным образом полуфабрикаты, затем транспортировка и продажа продуктов и, наконец, непосредственное приготовление пищи. Видите, какой гигантский механизм, сколько шестеренок… Надо учесть еще и промышленность; значительная часть ее работает на сельское хозяйство. Словом, нет топлива дороже нашей пищи.
Допив компот, он стал аккуратно собирать грязную посуду.
– Похоже, мы заварили славную бучу, – благодушно сказал он. – Оторваться от природы, вы говорите? Вот именно – оторваться… Когда-то люди оторвались от пещер, от леса: думаете, это было легко? А оторваться от берега и уйти в открытый океан на утлых каравеллах – это легко? Оторваться от Земли, выйти в космос – легко? Инерцию всегда трудно преодолевать.
Вот и Каплинский говорит об инерции. Да, сильна инерция!
Нет ни одного довода против электропитания – и все-таки не могу освоиться с этой идеей. Слишком уж она неожиданна. Ну, синтез пищи или какие-нибудь пилюли – это не вызвало бы сомнений.
– Вы, мой дорогой, напрасно трусите, – продолжает Каплинский. – Знаете, есть такое отношение к науке: хорошо бы, мол, получить побольше всего такого – и чтоб безопасненько, с гарантией блаженного спокойствия. Мещанство чистейшей воды. Науку вечно будет штормить – только держись! И хорошо. Человек в общем создан для бури.
А если прямо спросить Каплинского: «Чего вы, собственно, добиваетесь? В чем ваша суть?» Нет, на этот раз лучше пойти в обход.
– Ну, а ваши эксперименты? – говорю я. – В чем их конечная цель?
– Цель? – нерешительно переспрашивает Каплинский. – Есть и конечная цель. Боюсь только, она вам покажется наивной… Видите ли, общество построено из отдельных «кирпичиков» – людей. Как в архитектуре: из одного и того же материала можно построить различные здания. Плохие и хорошие. Но даже для гениального архитектора есть какой-то предел, зависящий от свойств материала. Понимаете? И вот мне кажется, что общество далекого будущего должно быть построено из «кирпичиков» более совершенной конструкции.
Что ж, это и в самом деле наивно. Аналогия абсолютно неправильная. Общество, говорю я Каплинскому, – это такое «здание», которое обладает способностью совершенствовать составляющие его «кирпичики». Нужно ли еще перекраивать биологическую конструкцию человека?
Он не отвечает. Кажется, он к чему-то прислушивается. На его лице появляется виноватая улыбка.
Так и есть: Каплинского опять искрит.
* * *
Я сижу в малиновой «Молнии», за широкой спиной Осоргина-старшего. На коленях у меня трехэтажный термос; на том берегу нас ждет Осоргин-младший, и в термосе – праздничный завтрак.
Мы торжественно отметим удачные испытания. Если они будут удачны, разумеется.
«Гром и молния» едва заметно раскачивается. Под корпусом возятся двое парней в аквалангах, проверяют датчики контрольных приборов. Осоргин-старший щелкает тумблерами и недовольно ворчит. Время, мы теряем драгоценное время! В рации шумят взволнованные голоса:
– Николай Андреич, осталось двадцать минут! Слышите? Говорю, двадцать минут осталось, потом трасса будет закрыта…
– Что там у вас, папа? Ты слышишь меня? Почему задержка?
– Николай Андреич, рыбаки запрашивают…
Нам надо проскочить Каспий – от берега к берегу, – пока на трассе нет кораблей. «Гром и молния» не может маневрировать.
Он просто понесется вперед, как выстреленный из пушки.
Солнце, поднялось уже высоко, припекает, а мы в теплых куртках. И этот термос, черт бы его побрал! Я ничего не вижу: впереди – Осоргин, с боков – скалы, а назад не повернуться, мешают ремни.
«Гром и молния» стоит у входа в узкий залив. Мы – как снаряд в жерле заряженной пушки. Когда все будет готово, у берега, позади нас, подорвут две сотни зарядов, расположенных так, чтобы дать направленный кумулятивный взрыв. И тогда в заливчике поднимется гигантская волна цунами. Она рванется к нашему кораблику, подхватит его и…
И если верить расчетам Осоргиных, понесет через море. Мы пойдем со скоростью около семисот километров в час, вот когда пригодятся теплые куртки.
– Николай Андреич, порядок, мы – к берегу!
– Привет Володе, Николай Андреич!
Это аквалангисты. Я их не вижу, проклятый термос не позволяет приподняться. В рации – сплошной гул голосов: кричат, торопят, о чем-то напоминают, что-то советуют…
Интересно, что сейчас делает Васька? Отсюда и письма не отправишь. Ладно, вот выберемся на тот берег… Выберемся?
По идее, у того берега мы должны «соскочить» с волны, а если это не удастся, Осоргин отцепят планер, и мы с разгона уйдем в небо.
«В молодости я брал призы в Коктебеле, – сказал Осоргин. – Поднимемся, опустимся, подумаешь!» Разумеется, очень даже просто Летайте волноходами – только и всего…
– Вы готовы, Николай Андреич? Начинаю отсчет времени.
– Начинай, голубчик, начинай.
«Гром и молния» – надо же придумать такое название! Представляю, как это будет. выглядеть в отчете. Шеф меня съест. Ладно, скажу, что были названия похлестче. В самом деле, был же самолет «Чур, я первый!». Зато идея должна шефу понравиться. Направленное цунами – в этом действительно чувствуется двадцать второй век. Отсюда, из жерла залива, вырвется, волна высотой метров в пять. Фронт волны, если верить расчетам, что-то около пятидесяти метров. В открытом море водяной бугор станет ниже, но скорость его увеличится, а у противоположного берега волна поднимется на высоту пятиэтажного дома.
Наглая все-таки идея – ухватиться за волну. А впрочем, когда-то люди ухватились за ветер – и это, должно быть, сначала тоже казалось наглым. Прав Каплинский: человек создан для бури.
А какая сейчас тишина! Замерли облака в голубом небе.
Замерло море. Улетели чайки, утром их было здесь много. Молчит Осоргин-старший. Тихо, очень тихо.
– Пятьдесят секунд.
О чем я думал? Да, об этой идее. Теперь она кажется такой простой, такой очевидной. Почему же раньше никому не приходило в голову, что можно ухватиться за гребень цунами? Вероятно, все дело в том, что в открытом море волны не связаны с перемещением воды. Вода поднялась, вода опустилась – тут нет движения вперед, это так очевидно…
Гипноз очевидности. Да, каждая частица при прохождении волны описывает замкнутый круг. Частица остается на месте, а наш корабль скользит по этому кругу вперед, как по конвейеру на цилиндрических катках.
– Тридцать пять секунд.
Подумать только, как это было давно: библиотека, ночная улица, неоновая реклама Аэрофлота…
Прошла половина жизни. Ну, не половина, так треть. Жизнь становится интереснее и, по идее, требует все больше времени. Один выходной в неделю, два выходных… Вот если бы удалось решить третью задачу…
– Пятнадцать.
– Четырнадцать.
Неудачно я тогда ответил шефу. Спроси он меня сегодня, чего я добиваюсь и в чем моя суть, я сказал бы иначе. Сказал бы за всех нас – и за себя, и за Осоргиных, и за Кандинского, и за того, кто сейчас бьется над третьей задачей. Мы хотим, сказал бы я, ускорить очеловечивание человека. Мы знаем, что это долгий, в сущности бесконечный, процесс, потому что нет пределов возможности человека становиться человечнее. Нам чужда истеричность («Ах, все плохо!» и «Ах, все хорошо!»), оправдывающая или прикрывающая ничегонеделание. Мы работаем. Мы знаем, что никто не сделает за нас эту работу.
– Семь.
– Шесть.
– Пять.
Хочу увидеть волну. Слишком сильно затянуты ремни, но я обернусь, как-нибудь обернусь. Почему так тяжел этот термос?
Вот он, дальний берег залива.
На желтых, источенных прибоем скалах никого нет, все в укрытии.
Море… Золотое зеркало моря.
Как много солнца в заливе!
До взрыва – две секунды…

Владимир Фирсов
Только один час
Человек стоял на высоком берегу, крутой откос которого сбегал к самой воде. Дальше, за серебряной дугой реки, поднимались гигантские здания, а выше, на густеющей синеве неба, светилось ослепительной белизны облако, край которого был тронут багряным отсветом заката. Самое странное заключалось в том, что за всем этим прекрасным миром, который лежал сейчас перед ним, не было ничего. Он возник ниоткуда, как бы выхваченный из неизвестности внезапной вспышкой света.
Человек медленно огляделся.
Что-то до боли знакомое почудилось ему в плавном изгибе берега.
Он попытался вспомнить, но память, до этого верно служившая ему, отказывалась повиноваться.
На мгновение это обеспокоило – его. Однако нереальность всего происходящего была настолько сильна, что он тотчас же забыл о своем беспокойстве, поглощенный зрелищем необычного мира.
Взволнованный, он поднес ладони к лицу и с удивлением увидел на своих руках плотные перчатки из неизвестного ему материала. Тогда он осмотрел себя всего. Странная одежда – легкий костюм какого-то удивительного покроя, удобная обувь, отдаленно напоминавшая ботинки…
Над вершинами деревьев рассыпался серебристый смех. Человек поднял голову. Изящными стрекозами над ним мелькнули две легкие фигурки на прозрачных крыльях. Взявшись за руки, они парили в вышине. Потом стремительно скользнули вниз, к воде. Счастливый смех еще звучал несколько секунд, потом стих.
Он снова посмотрел вдаль и понял: точки в синеве, похожие на стаи птиц, были людьми – такими нее, как и эти двое.
Большой красновато-желтый лист с зубчатыми краями бесшумно отделился от ветки и мягко лег на траву. Он поднял его и вдруг ощутил, что знакомый колер вызывает в нем безотчетную тревогу. Золотые осины, алеющие клены, пылающие рябины напомнили ему, что наступила осень. От этого в душе шевельнулся страх, и причина его лежала где-то там, за черным провалом памяти. Сейчас не могло быть осени!
Он стоял и слушал, а солнце исчезало за горизонтом. В наступающих сумерках глаза различили далекий рубиновый огонек, вознесенный к пылающему облаку заостренной иглой древней башни.
Справа, где излучина реки уже подернулась сиреневым туманом, из-под воды один за другим появлялись разноцветные шары. Поднимаясь высоко над крышами, они лопались с мелодичным звоном.
Шаров становилось все больше, их звуки слились в тревожную мелодию.
От небольшой группы людей, стоявших шагах в двадцати, отделился высокий седой мужчина.
Услышав шаги за спиной, человек на обрыве обернулся.
– Здравствуйте, Ганс, – сказал подошедший и протянул ему руку.
Ганс неуверенно улыбнулся, прислушиваясь к красивому голосу незнакомца. Беспокойство росло.
– Кто вы? – спросил он и замолчал, пытаясь погасить растущую внутри тревогу.
Разноцветные шары слились в одно пылающее солнце, и теперь в небе горели сразу два светила – одно закатное, багряное, другое – все время меняющее свой цвет. От этого по листьям, по траве, по лицам пробегали синие, зеленые, фиолетовые, золотые отблески, и одинокое облако с алым краем тоже становилось синим, зеленым, фиолетовым, золотым. По-прежнему горел вдали рубиновый огонек, но теперь Ганс различил, что он имеет форму звездочки, а рядом горит другая, третья, четвертая… Он понял, где находится, и с удивлением взглянул в лицо стоящего рядом с ним человека, взглянул в глаза, грустные, ласковые и тревожные. Увидел в них себя, разноцветное поющее солнце, стоэтажные невесомые здания, рубиновые звезды Кремля.
Память вернулась к нему.
Это было до того чудовищно, что он едва не потерял сознания.
Мутный поток ненависти, страха и боли захлестнул его с головой, ослепил, сдавил горло. В ужасе отшатнулся он от человека, в лицо которого только что смотрел.
– Что с вами, Ганс? – быстро спросил тот, пытаясь удержать его.
– Нет! – сказал Ганс, отступая. Лицо его исказилось. – Нет! Нет! Не-е-ет!..
Стена была самой обыкновенной – гладкая стена, выложенная ослепительно белым кафелем.
Комната была тоже самой обыкновенной – насколько может казаться обычной комната, на которую смотришь, прижавшись щекой к шершавым плитам пола.
Удивительно, как в этом ярко освещенном чистеньком помещении может рождаться столько невыносимой боли.
В нескольких сантиметрах от его лица по белой плитке медленно сползала капля крови. Одним глазом он следил за ее неторопливым движением. Второй глаз, затекший от удара прикладом, почти ничего не видел. Теперь, когда сознание снова вернулось к нему, он знал, что ничего не сказал и не скажет. Он понимал, чего ему это будет стоить, и, пользуясь минутной передышкой, лежал тихо, экономя силы.
Но долго отдыхать ему не дали.
– Встать! – срывающимся голосом закричал обер-лейтенант Кранц, и внезапная боль от улара по почкам сотрясла тело человека.
Мюллер неодобрительно посмотрел на обер-лейтенанта. Допрос – это прежде всего работа. Если каждый раз так взвинчивать себя, через неделю попадешь в сумасшедший дом.
Человек, лежавший сейчас на полу, был схвачен с оружием в руках. За ним гнались долго и все-таки упустили бы его, если бы он сам, уже ускользнув от преследователей, не решил дать бой гестаповцам. В отчаянной схватке он убил троих и одного тяжело ранил, после чего хотел подорвать себя вместе со схватившими его солдатами гранатой, которая, однако, не взорвалась.
Можно было догадаться, что он пожертвовал собой, прикрывая отход кого-то другого, чью жизнь он считал более ценной, чем свою собственную; но кто был этот второй, куда и с каким заданием шел, оставалось неизвестным.
Мюллер был уверен: пленный скоро заговорит. Допрос уже вступил в ту стадию, на которой не выдерживают даже самые упорные. Жаль, что обер-лейтенант вдруг сорвался и в припадке ярости начал бесцельно избивать, пленного.
Мюллер был художником своего дела, и грубая работа всегда претила ему. Он глубоко изучил самые тонкие нюансы сложного искусства ведения допроса. Он умел провести человека через все круги ада, когда боль достигает, кажется, уже немыслимых вершин, и тем не менее в следующее мгновение становится еще сильнее.
Он разыгрывал сложные симфонии допроса, никогда не повторяясь, всегда находя новые сочетания болевых гамм, наиболее подходящих для данного индивидуума.
Многолетний опыт позволял ему точно дозировать воздействие боли, соразмеряя ее с силами допрашиваемого. Убить человека не сложно. Гораздо труднее заставить его жить именно тогда, когда он мечтает о смерти, как о неземном счастье.
…Вмешательство Кранца испортило все дело. Два-три лишних удара, и допрос можно будет считать законченным.
Мюллер не знал, что обер-лейтенант проклинает миг, когда он самонадеянно высказал генералу Гофману свое предположение о втором разведчике. «Значит, вы упустили его, – задумчиво сказал генерал, глядя куда-то сквозь Кранца. – Заставьте говорить пленного или отправляйтесь на Восточный фронт…»
– Встать! – снова закричал обер-лейтенант, пиная ногами распростертого перед ним человека, Тот со стоном поднялся, держась за стену. Руки скользнули по белому кафелю, оставляя багровые полосы. Ногти с пальцев были сорваны в самом начале допроса.
Человек не думал о предстоящей пытке. Он пытался подсчитать, сколько часов прошло с момента его пленения. О том, что связной все-таки ушел, он знал с самого начала допроса. Возможно, ему уже удалось дойти до цели и сверхсекретный план нового немецкого наступления сейчас лежит перед советскими генералами. Но, может быть, его что-нибудь задержало в пути? Значит, остается молчать, стиснуть зубы и молчать; это сейчас будет самым трудным, почти невозможным.
«Если бы они знали, кто сейчас, перед ними», – подумал он.
Много лет назад он был депутатом рейхстага и, следовательно, неприкосновенным лицом. Мысль эта показалась ему такой нелепой, что он криво улыбнулся разбитыми губами. И обер-лейтенант Фридрих Кранц, тщетно ожидавший увидеть на лице пленного страх и услышать мольбы о пощаде, совершенно осатанел.
Он знал, что Гофман не забывает своих обещаний, и эта мысль привела его в дикий ужас. Кранц уже видел себя под гусеницами советского танка – раздавленным, втоптанным в грязь на одной из бесчисленных зимних дорог, по которым откатывались к границам Германии разбитые части вермахта. А ему бешено хотелось жить, и ради сохранения своей драгоценной жизни он готов был вешать, пытать, расстреливать…
Если бы это помогло, он, наверное, бросился бы на колени перед упрямым коммунистом, который, вдруг качнувшись, стал медленно оседать на пол камеры…
Кранц подошел к зарешеченному окну и медленно достал пачку сигарет. Три спички сломались одна за другой, и только на четвертый раз, с трудом уняв дрожь в пальцах, он прикурил.
Ему было душно. Он просунул руку сквозь прутья решетки и распахнул раму. В комнату ворвалось белое облако пара, перемешанного со снегом. И одновременно Кранц услышал далекий гул. Это била советская артиллерия. За спиной обер-лейтенанта вызванный Мюллером врач возился над телом разведчика. Постукивали какие-то инструменты. Наконец врач поднялся и стал протирать руки ваткой. По комнате разнесся запах спирта.
– Не дотянет и до ночи, – буркнул он.
Кранц не пошевелился, только внутренне похолодел. У него словно что-то оборвалось внутри, и он вдруг понял, что Гофману не придется выполнять свою угрозу.
– Запри его в подвал, – не оборачиваясь, приказал он Мюллеру, когда врач вышел. – Утром повесить на площади с плакатом «Дезертир». Вчера из второй роты дезертировал солдат. Он еще не пойман.
Обер-лейтенант Фридрих Кранц даже в последний час своей жизни оставался дисциплинированным служакой, пекущимся о выполнении воинского долга.
– Оттуда, из подвала, мы и взяли вас, – сказал профессор Свет. – Для техники двадцать пятого века это не представляет особой трудность.
Изумрудное солнце, плывшее над городом, начало стремительно менять свою окраску. Как будто брызги аквамарина упали на его поверхность и расцвели огненными васильками. Легкий перезвон серебряных колокольчиков прокатился в вечернем воздухе, затем огненные колонны пронизали небосвод и слились в колыхающуюся завесу.
– Что это такое? – машинально спроси Ганс, думая о чем-то другом.
– Сегодня Праздник Неба. В этот день школьники впервые улетают на Марс, – ответил профессор.
Минута прошла в молчании.
Профессор незаметно посмотрел на часы, и в глазах его мелькнуло беспокойство.
– И все-таки я не понимаю… – нерешительно произнес Ганс.
– Не задумывайтесь над этим, – быстро сказал Свет. – Дело не в технических деталях, хотя они и очень интересны. Я не инженер, а историк, специалист по древней истории коммунистического общества. Я изучаю двадцатый век, поэтому мне поручено встретить вас – первого человека, совершившего путешествие в будущее.
– Но почему я? – спросил Ганс. – Что вы знаете обо мне?
– Поверьте, выбор был сделан не случайно. Я напомню некоторые эпизоды из вашей биографии, чтобы убедить вас в этом. Вы родились в 1901 году в семье потомственного немецкого рабочего. Отец ваш был одним из функционеров социал-демократической партии Германии и умер в тюрьме от туберкулеза. Это случилось как раз в те дни, когда в России произошла революция. Узнав о смерти отца, вы поклялись продолжать его дело. С тех пор вся ваша жизнь была посвящена делу пролетариата. Боевое крещение вы приняли шестого декабря 1918 года, когда в группе спартаковцев принимали участие в подавлении контрреволюционного мятежа в Берлине. Тридцатого декабря состоялся Учредительный съезд Компартии Германии. Вы участвовали в его работе и познакомились там с Карлом Либкнехтом. Вскоре в Баварии была создана Советская республика, и вы бились за ее независимость вплоть до последнего дня. Первого мая 1919 года вы были ранены, схвачены и на три года брошены в тюрьму. В 1923 году вы помотали Тельману организовать восстание в Гамбурге – восстание, преданное соглашателями. В 1932 году Коммунистическая партия Германии послала вас депутатом в рейхстаг. Но в феврале следующего года вас арестовали. Последовали долгие допросы, избиения… Палачей интересовало, где скрывался Тельман, но они не узнали от вас ничего. Был приговор – десять лет каторжных работ. Однако через четыре года вам удалось бежать во Францию. Оттуда вы уехали в Испанию и сражались в Интернациональной бригаде. После падения республики вы приехали в СССР, а осенью 1941 защищали Москву. Вас разыскал старый товарищ по партии и предложил работу в немецком тылу. Блестяще выполнив несколько трудных и ответственных заданий, вы каждый раз благополучно уходили от гестапо, абвера и СД. Но в январе 1945 года вы были схвачены и после долгих пыток повешены.
Ганс удивленно посмотрел на собеседника, не решаясь задать основного вопроса.
– Пойдемте, Ганс, – сказал профессор. – Я покажу вам Москву. По дороге я буду рассказывать.
Он обнял Ганса за плечи, и они пошли к извилистой лестнице, сбегавшей в неясный сиреневый полумрак. Люди, стоявшие в отдалении, двинулись за ними.
– Кто они? – спросил Ганс.
– Это те, кто доставил вас сюда. Интрохронолетчики и… – Свет на секунду замялся, подыскивая слово, – и медики.
– Почему они не подходят? – удивился Ганс, замедляя шаги.








