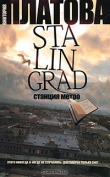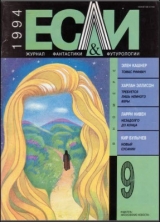
Текст книги "Журнал «Если», 1994 № 09"
Автор книги: Кир Булычев
Соавторы: Харлан Эллисон,Элджернон Генри Блэквуд,Ларри Нивен,Кирилл Королев,Эллен Кашнер,Елеазар Мелетинский,Анатолий Акимов,Карина Мусаэлян,Наталия Сафронова
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
– Вот это да! – восторженно закричал Собачко.
– Закройсь! – потребовал Салисов. Однако русалкам закрываться было нечем. Единственная одежда диких русалок – речные водоросли да ночной туман.
Шорох камышей, куда отступили испуганные окриком русалки, был не слышен из-за шума вертолета, который снизился над озером, пустив по нему концентрические волны. Вертолет сместился к берегу и замер у самой земли. Из него выскочил кавалерийского вида человек в милицейской фуражке и розовом аргентинском плаще. Он держал в руках стопку бумаг.
– Это документы! – кричал он, стараясь перекрыть шум вертолета. – До-ку-мен-ты!
Приказывая жестами вертолету убираться, Салисов раскрыл бумаги и принялся проглядывать их.
Вертолет покрутился над озером, отлетел в сторону и завис над соснами.
– Тут мне прислали план местности, утвержденный райисполкомом, – объявил Салисов. – Можете полюбоваться, Стендаль.
Стендаль подошел к Салисову, они стали смотреть на чертеж, а водяной, которому было тоскливо и которого мучили подозрения, постарался вползти на берег, но тело его было таким мягким и скользким, что пришлось оставить его наполовину в воде.
– Видите, что здесь обозначено? – спросил Салисов, указав пальцем на квадрат неподалеку от озера. – Читайте:
– Развалины усадьбы помещика Гуля, – прочел Стендаль.
– Показывайте, где развалины.
– А зачем они вам?
– А затем, что там будет построен нами дом отдыха и развлечений для трудящихся из-за рубежа. Именно в этом культурном заведении, где девушки-русалки получат заодно и среднее образование, они будут плодотворно трудиться и отдыхать.
– Как трудиться? – нехорошее предчувствие охватило Стендаля.
– Они будут оказывать нашим клиентам разного рода услуги, – улыбнулся Собачко. – За валюту.
Тут кусты у берега раздвинулись и оттуда вылетел кипящий справедливым гневом Удалов.
– Какие еще услуги! – кричал он. – Это же невинные дети лесов и морей! Я в милицию заявлю, я до Москвы дойду!
– А вот и явление третье, – сказал Собачко. – Мелкий преступник Корнелий Удалов, взявшийся за восемьдесят долларов отвести нас на ваше озеро, дорогие русалки. Деньги он прикарманил, а нас завел в болото. Как это называется?
Русалки отозвались из камышей отдельными негромкими возгласами ужаса и отвращения, а Удалов принялся выворачивать карманы и кричать:
– Да я доллара в жизни не видал! Нужны мне ваши доллары!
Салисов провел пальцем воображаемую линию и последовал по ней – воображаемая линия вела к спрятанным в лесу руинам замка Гуля.
Стендаль попытался преградить ему дорогу, но человек в милицейской фуражке ловко отбросил несчастного молодого отца приемом каратэ.
Такая же судьба постигла и Удалова.
Вертолет опустился пониже, как бы страхуя своих хозяев. Русалки вышли из озера и любопытствующей толпой робко следовали за Собачко. Собачко отстал немного, приблизился к Римме и легонько провел ладонью по ее бедру. Ощущение чешуи ему не понравилось, и он сказал:
– Во, экзотика!
Римма громко рассмеялась. Маленькие изящные жабры, похожие на вторые ушки, затрепетали.
– Ах ты, мой налимчик! – проговорила она.
С шумом и треском прорвавшись на прогалину перед руинами, Салисов остановился, не скрывая торжества.
– Вот тут, – сказал он, – мы воздвигнем гостиницу-казино под названием «Салисания»! Сюда будут прибывать «денежные мешки».
– Мешки? – удивилась одна из молодых русалок. – Зачем нам мешки? Мы хотим любви.
– Помолчите, вы мешаете мне думать! – оборвал ее Салисов. – Ну, где же техника и живая сила? Почему не завозят кирпич?
– Когда же строить будете? – упавшим голосом спросил Удалов. Чувство неминуемого поражения охватило его. Он понимал, что с появлением казино погибнет не только озеро, не только будут совращены и пойдут по рукам невинные русалки, но рухнет и весь мир Великого Гусляра.
– Немедленно. Вот постановление городской администрации, вот документы на акционирование, приватизацию и ваучеризацию.
Документы выглядели настоящими. Загадочно было, когда дельцы успели получить их, если еще час назад и не подозревали, как добраться до озера с русалками?
Но надежды на подлог и последующее разоблачение были тут же развеяны. Из окошка низко спустившегося вертолета высунулся председатель комиссии по приватизации. Он грозил сверху Удалову и пронзительным голосом, перекрывая шум винтов, кричал:
– Всё законно! Я проверял!
– Ты лучше технику сюда гони! – крикнул Собачко. – Быстро!
Салисов подошел к заросшему лазу, ведущему в развалины и спросил:
– А там что?
– А там ничего! – слишком громко откликнулся Стендаль и этим выдал себя.
– А мы посмотрим, – сказал Салисов, подзывая жестом человека в милицейской фуражке и вторым жестом посылая его в развалины.
Стендаль ринулся наперерез, но новый поворот событий остановил его.
Из черного лаза, согнувшись втрое, но не потеряв при этом гордого достоинства потомка одновременно германской и русской аристократии, вышел, сверкая моноклем в левом глазу, граф Шереметев по матери, а по отцу великий ихтиолог Нижней Саксонии Иван Андреевич Шлотфельдт.
– Прошу остановиться, – сказал ихтиолог, и все послушно остановились.
Стендаль, Удалов и русалки потому, что были знакомы с Иваном Андреевичем, приехавшим в Гусляр, чтобы оказывать помощь русалкам, а Салисов и его сообщники потому, что почувствовали в голосе, акценте и движениях Ивана Андреевича настоящего европейского джентльмена. Перед такими наши мошенники почему-то до сих пор тушуются.
– Видите? – спросил Иван Андреевич, поднимая перед собой объемистую книгу, которую Удалов поначалу принял за Библию и решил, что Шлотфельдт решил обратиться к Богу как к последнему защитнику русалок.
Никто не ответил. Все понимали, что ихтиолог задает риторический вопрос.
Ростом ихтиолог был очень высок, носил бороду и усы, как Николай Второй, и было в его повадках нечто строевое и даже конногвардейское.
– У меня в руках есть «Красная бух»! Вы понимаете?
Все, кроме русалок, понимали, что значит «Красная бух». Это означает «Красная книга», куда записывают всех редких и вымирающих животных.
– В этой бух записано следующее: Русалка есть легендарное сусчество, которое уже есть вымереть во всем мире и если не вымирать, то последний экземпляр охранять в настоящий заповедник, а никакой частный сектор ни-ни! Ферботтен!
– Ну это мы еще посмотрим, – нагло ответил Салисов, который пришел в себя после первого шока. – Это, может, в вашей Бенилюксе русалок не осталось, а мы еще с ними побалуемся. Побалуемся, девочки? – обратился он к столпившимся сзади русалкам. Их зеленая нагота казалась жалкой и превращала их в часть леса. Русалки дрожали, потому что не привыкли стоять на холодном ветру.
– Летят! – закричал человек в милицейской фуражке. – Наши летят!
И впрямь со стороны Вологды строем шли грузовые вертолеты, к которым были привязаны балки и швеллера, стропила, сетки с кирпичом.
Небо окрасилось белыми пятнышками парашютов: спускались архитекторы, сметчики, счетчики, бухгалтеры и прочие работники проектных организаций, которые, приземлившись на берегу и не обращая внимания на обнаженных зеленоногих русалок, тут же принялись раскладывать столы, разбивать палатки и платить профсоюзные взносы.
– О, найн! – воскликнул граф Шереметев. – Так дело не пойдет!
И тут всем пришлось стать свидетелями зрелища, подобного которому никому еще видеть не приходилось. Вверх по речке Скагеррак, со стороны большой реки Гусь, видно, проникнув во внутренние воды России по Северной Двине или через Мариинскую водную систему, поднимая носом белый бурун, ворвался с песнями и гудками сверкающий белой краской, стройный и решительный корабль международного экологического общества «Гринпис».
– Спасибо, – тихо произнес Иван Андреевич Шлотфельдт, – вы приплыли даже быстрее, чем я ожидал. Ни одна из русалок еще не обесчещена, никто не успел вымереть, хотя эта судьба грозила всем.
С этими словами тайный резидент «Гринпис» по Российской Федерации сбросил белый халат и твидовый пиджак, и обнаружилось, что он облачен в скромный траурный костюм, который не снимал с того дня, как в экологически грязной речке погибла последняя говорящая золотая рыбка.
Испуганные появлением корабля проектанты во главе с Салисовым и Собачко погрузились в вертолеты и умчались в областной центр, чтобы там с помощью интриг, подкупа и угроз добиваться строительства казино с публичным Домом для русалок.
– Мы еще вернемся, сионисты проклятые! – кричал с неба Салисов.
Некоторые русалки были разочарованы, потому что ждали любви и приключений. Что поделаешь – примитивные создания! Другие, поумнее, радовались сохранению привычного образа жизни. Хотя всем было понятно, что даже создание заповедника для русалок не спасет их от порочного влияния цивилизации.
Многие русалки были потрясены видом корабля и его экипажа – молодых людей в траурных одеждах, словно черных рыцарей возмездия. Русалки зазывно улыбались молодым людям и звали их купаться. Тем временем более взрослые и разумные представительницы русалочьего племени проводили краткое совещание с профессором Шлотфельдтом. Всем было ясно, что даже создание заповедника для русалок в озере Копенгаген не решает проблемы – слишком уж близко и доступно озеро для подозрительных личностей. Единственный выход заключался в срочной эвакуации племени в дикое нехоженое место. Рассматривалось несколько вариантов: Бразильская сельва, озеро Лох-Несс, а также заповедные леса к востоку от Архангельска.
Пока кипел горячий спор, Удалов, заметивший отсутствие Стендаля, решил заглянуть в погреб помещика Гуля и узнать, как себя чувствуют Маша и ее двадцать шесть дочек.
Погреб встретил его пустотой и тревожной тишиной.
– Миша, где ты?
Никакого ответа.
– Маша, отзовись!
Тишина.
Удалов ощупью добрался до темного угла, где только что скрытый ветками и тряпьем стоял бак с мальками. Но и бака не было – лишь мокрая щебенка под ногами.
Впереди был подземный сумрак – Удалов сделал несколько осторожных шагов, ступая по кирпичам и пыли, отодвинул доску – ив глаза ударил зеленый свет лесной чащи. К свету вели стесанные кривые ступени. На них темнели пятна воды. Кто-то волочил здесь бак, понял Удалов. Хорошо бы не враги – Миша этого не переживет.
Мокрые следы вывели Удалова к заросшей нехоженой тропинке, а та, через полсотни метров, к речке Скагеррак, той самой, что вытекает из озера Копенгаген и впадает в реку Гусь.
На берегу сидела и рыдала Маша. Возле нее валялся опрокинутый бак.
На коленях возле Маши стоял Миша Стендаль, нежно и неумело гладя ее темные зеленоватые волосы, и тоже плакал.
Удалов подождал с минуту, не желая прерывать горе друзей. Но потом все же поинтересовался:
– Что за беда стряслась?
– Я хотела… – ответила сквозь слезы молодая русалочка, – я хотела дочек спасти. Они же… эти… работорговцы, они бы их захватили.
– И что же ты сделала? – в ужасе спросил Удалов, уже догадываясь о страшном ответе. – Ты их убила, чтобы не достались врагам?
– Да ты что, Корнелий Иваныч, – испугалась русалочка, даже плакать перестала.
– Она их в речку выплеснула, – печально ответил Стендаль. – Уплыли мои девочки.
– Но они же могут заблудиться, простудиться, попасть в зубы щуке!
– Не терзайте мою душу, – ответила русалочка.
– Я думала, лучше смерть на свободе, чем жизнь в зоопарке.
– Это я ее научил, – горько, но не скрывая гордости за возлюбленную, сказал Стендаль. – У русалки должны быть высокие принципы.
Они замолчали и стали смотреть на быструю веселую воду узкой речушки.
– Может, их выловят, – сказал Удалов. – Ты скажи своим подругам, чтобы поискали.
– Нет, туда нельзя! – закричал Стендаль. – Там их поймают и отдадут в вертеп разврата!
– Нет, наши временно победили. Сейчас обсуждается проблема, куда эвакуировать русалок, чтобы скрыть их от коммерческих структур…
– Неужели… – но Стендаль оборвал себя. Он-то знал, что в нашей действительности справедливость торжествует лишь сугубо временно, и потом за это приходится дорого расплачиваться.
– Ну, может, сколько-нибудь поймаете, – сказал Удалов.
– Правильно! – к Стендалю постепенно возвращалась способность мыслить. – Ты возьмешь тех дочек, которых удастся отловить! Я останусь здесь, и мы с Удаловым будем каждый день ходить здесь с бреднем. Правильно, Корнелий?
– Только не каждый день, – робко возразил Удалов, но Стендаль его не слышал. Он был готов нестись в город покупать бредень для ловли мальков-русалочек.
– Ой! – прервал его мысли отчаянный крик Маши.
Удалов со Стендалем обратили взоры на середину речки, где из воды высунулась голубая пришлепка – голова пана Водограя, его белесые глаза смотрели бессмысленно и нагло, в открытой пасти желтели щучьи зубы. В толстой блестящей конечности он держал маленькую русалочку, которую только что поймал, и, не скрывая торжества, подносил ее ко рту, чтобы сожрать.
Замолкнув, Маша стрелой кинулась к воде и нырнула, подняв фонтан до неба. А так как речушка была всего метров шесть шириной, то вода в ней покачнулась и оголила сизое пузо водяного. Тот потерял равновесие и промахнулся мимо пасти – русалочка ударилась о его ухо, и в тот момент русалка Маша боднула Водограя и вырвала дочку, а когда водяной выскочил, чтобы погнаться за ускользнувшей добычей, подоспевший Стендаль долбанул водяного по студенистой голове осиновой дрыной так, что голова его ушла в плечи, на ее месте образовалась круглая впадина, подобная небольшому лунному кратеру.
В таком виде водяной, как заснувшая медуза, медленно и безвольно поплыл по течению. Удалов крикнул с берега:
– Ты его не до смерти?
Маша, которая нежила, гладила, согревала дочку, ответила за Стендаля:
– А он бессмертный… к сожалению.
Оставив дочку Стендалю, Маша нырнула в речку и поплыла по течению, надеясь догнать и перехватить хоть сколько-нибудь из дочерей, а Удалов отправился обратно к озеру, где уже началась погрузка русалок на белый корабль союза «Гринпис». Некоторые русалочки, поднимаясь на борт, сразу же начинали соблазнять экологов, но капитан строго осаживал пассажирок.
Удалов понял, что устал от всей этой колготни.
Незамеченный, он пошел по тропинке обратно к городу.
Настроение у него было плохое. Ведь история не знает обратных дорог.
Наталия Сафронова
В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ
Вот уже более двух десятилетий любители фантастики «со стажем» время от времени посещают Великий Гусляр. Вместе с его жителями они испытали множество невероятных приключений, чаще веселых, иногда немного страшноватых, но всегда, как было принято говорить в те времена, с «жизнеутверждающей» концовкой.
Что, впрочем, отнюдь не помогало литературной судьбе рассказов: каждый с большим трудом пробивался сквозь игольное ушко цензуры – то ли по причине интонации, то ли вполне угадываемого фрондерства автора и его едва спрятанной насмешки над очередными успехами строительства светлого будущего.
Откуда же теперь невеселые ноты в последней на нынешний день истории о наших давних знакомых?
Да и прав ли автор, грустно иронизируя над «рыночными» реалиями провинциального города?
Наш корреспондент решила сверить свои впечатления с наблюдениями К. Булычева, побывав в Нижнем Новгороде. Бывший Горький, конечно, помасштабнее Великого Гусляра, однако именно ему выпало стать рекламной вывеской «реформаторской мысли» в провинциальной России.
Что замечаешь с первого взгляда? Город кажется то ли притихшим, то ли слегка усталым, как всегда бывает после всплеска эмоций или ссоры. Буквально накануне «Дня принятия декларации о государственном суверенитете» город слушал симфонию протеста – заводские гудки и сирены включили «Красное Сормово», «Лазурь», «Полет», «Кварц», «Эталон» (ох, и красивые все названия). Оказавшаяся не у дел нижегородская оборонка «говорила» с властями. Оборонка всегда все знает заранее: как раз в эти дни президент страны готовил указ о сокращении армии и военного заказа.
День независимости пришелся на воскресенье, и правительство решило дать еще народу «отгул» в понедельник. Спрашивается, в радость ли людям дополнительный выходной, если многие давно уже заняты неполную рабочую неделю или отправляются начальством в отпуска, разумеется, неоплачиваемые?
Не так много народу собралось на торжества, проходившие в Нижнем под девизом «Виват, Россия!». Чтобы поднять энтузиазм горожан, власти решили подкрепить духовную часть чем-то земным. Местная газета «Губерния» сообщила накануне праздника на первой странице прямо под фотоэтюдом – светловолосый отрок с крестиком на груди – о том, что «предусмотрена торговля продовольственными и другими товарами». Однако, согласитесь, стимул не очень… Особенно если зарплату получаешь от случая к случаю, как об этом напомнили гудки и сирены. Еще года три назад стимул мог бы сработать, тогда с товарами, всякими, было туговато, зато зарплату платили всем, в точно отведенные для этого дни. Теперь же на Большой Покровской (бывшей Свердлова, улице центральной, вроде московского нового Старого Арбата) в первом городском частном магазине одних сыров – сортов шесть. Но, видимо, не по карману…
Прохаживались по центру туристы, слышалась английская речь, присматривались гости к расписным деревянным поделкам (и подделкам) астрономической цены. И совсем как на Арбате слегка заросшие творцы предлагали глянцевитые картинки: ландыши, березки, лукошки с ягодами и все такое – для отдохновения взора. Недалеко от магазина хрипловатый баритон, усиленный микрофоном, ностальгически пел про поручика Голицына и корнета Оболенского. Собрал он слушателей мало. Горожанам было не до ностальгии: к середине июня на огородах и садовых участках еще не кончили сажать картошку – весна в этом году очень задержалась.
Нижний Новгород – место историческое. Городу без малого восемь веков, стало быть, сколько сменилось за это время поколений нижегородцев! Каждому поколению город дается как бы во временное пользование – со всеми домами, улицами, мифами, традициями, этим прекрасным видом на место слияния великих русских рек Волги и Оки. И каждое поколение стремится оставить городу что-то свое, сохранить память о своей жизни. Конечно, память может остаться разная.
Кажется, только недавно мы начали понимать эту непрерывность во времени и, устрашенные недавним горьким опытом, хотим избежать нового разрушения «до основанья». И Нижний усвоил уроки прошлого, поэтому остались на своих местах памятники основателю государства и его имя в названиях улиц, заводов. Словно позируя перед фотоаппаратом с большой выдержкой, замерли участники маевок, борцы с самодержавием. Темного литья фигуры, непроницаемые лица.
Только вот не так прост этот Нижний Новгород. Основатель-то оказался в пространстве между зданием Нижегородской ярмарки, которая есть нынче капитализм в действии, и бизнес-центром с рекламами банков, концернов. Правая рука вождя, на них обращенная, словно указует: правильной дорогой идете, тов… господа! А где оказались участники первой маевки? Скульптурная группа была поставлена на фоне городского парка имени Ленинского комсомола. Парк переименовали, назвав неожиданно «Швейцарией». Трудно сказать, почему. Может, связано это с представлениями о русской Швейцарии, может, потому, что некогда вождь начинал делать революции из Женевы? Ход мысли тех, кто парк переименовал, неизвестен. «Швейцария», и все.
Замечено, что памятники в Нижнем и раньше вели себя довольно странно (будете в городе, посмотрите, например, куда указывает правая рука Валерия Чкалова; монумент стоит рядом с кремлем, на Откосе), и нет уверенности, что не выкинут еще чего-то эдакого.
А что если вдруг захочет «лететь вперед», как прежде, «наш паровоз», что в натуральную величину, самый настоящий, стоит на одной из площадей? Или еще того не легче – двинется со своего постамента танк. Может ведь прийти танку «в голову» что-то из славного боевого прошлого, и не захочет он больше стоять памятником. Самому себе. Хотя место почетное, рядом с кремлем, историческими святынями.
Такова память о нас, которую оставим потомкам.
Разгорелись было споры, когда открывали Музей АД.Сахарова в квартире дома в Щербинках, где Андрей Дмитриевич с женой жили во время горьковской ссылки. Дом стоит на пересечении улицы Военных комиссаров (подходящее название) и проспекта Гагарина. Решили переименовать улицу, назвать ее именем Сахарова. Говорят, что воспротивился здешний народ. Рабочий район, люди получили от советской власти первые в жизни отдельные квартиры. «Что нужно было этому Сахарову?»
Вдова его музея не признала, квартира, увеличенная за счет других, из которых выселили жильцов, напоминает обстановкой средней руки гостиницу. Дух временных ее хозяев-уэников никакие явлен здесь. Жив ли дух комиссаров? Бог весть, но преступники, как везде, здесь оживились. И по-прежнему зажигаются над тремя кирпичными башнями, что открывают проспект Гагарина, метровые буквы: «СЛАВА РОДИНЕ ОКТЯБРЯ».
Не будем ничего комментировать, первый взгляд – взгляд быстрый.
КАСЬЯНОВ И ДРУГИЕ
Молодому губернатору Нижнего орешек достался крепкий. Область по сути – крупнейший арсенал, со сложной системой ведомственного подчинения многих предприятий. Попробуй здесь проводить конверсию! А проблемы закрытых долго от посторонних глаз городков, вроде, Арзамаса или Дзержинска? Никто знать не знал, ведать не ведал, что там поделывают в своих лабораториях ученые люди из Арзамаса, пока не были явлены миру их «слезы». Ядерщики, знаете ли, остаются без работы, могут их купить третьи страны. Что касается Дзержинска, здесь скоро и покупать будет некого. Жители, так сказать, дематериализуются – зона экологического бедствия, город нашпигован химией. Другая забота – прокормить область, что вовсе уж невозможно при нынешнем состоянии колхозов и совхозов.
Нижний шел сначала тем же путем, что и вся Россия, не имея четкой и ясной концепции реформ, стыдясь называть вещи своими именами. Довольно часто употреблялось известное сочетание «с человеческим лицом», которое годится хоть к чему: социализму, капитализму, высокой политике. Как и в других регионах, бродила идея самостоятельности. В январе этого года «Нижегородские новости» под рубрикой «официально» опубликовали Устав Нижнего Новгорода. Преамбула звучала торжественно: «Мы, жители Нижнего Новгорода, сознавая свою ответственность… стремясь к возрождению…» и т. д. Проект так и остался проектом и стоил карьеры авторам.
В конце концов начало что-то вырисовываться, в город хлынули разные эксперты – предложили помощь. Так возник Нижегородский эксперимент: комплексная программа реформ, отработка разных моделей экономического поведения в условиях перехода к рынку. Собственно, этим и занят сейчас Нижний. А что люди?
Татьяна Н. работала после окончания Нижегородского политехнического института конструктором измерительных систем. Тоже военный заказ. Сейчас более трех месяцев в административном отпуске, поскольку на предприятии не платят зарплату. Трудовая книжка, впрочем, там остается – считается, что так сохраняют кадры оборонки. Что делает? Работает «на фирме». Перевозит бутылки из пунктов стеклотары, иногда и принимает их. Новое лицо, непривычное для известного в народе «рынка услуг», Татьяна становится популярной. Вежлива, точно отсчитывает стоимость бутылки, не, оставляя, как другие, в коробке полтинник. Платит фирма много больше того, что Татьяна получала как конструктор.
О здешней конверсии много пишут. В ее концепции: избежать безработицы, учесть интересы каждого работника; создано более 130 конверсионных программ, на реализацию которых выделено из бюджета области 30 миллиардов рублей. Но иногда происходит непонятное, как с предприятием Татьяны Н. Здесь могли бы наладить выпуск антенн, детских игрушек, поредевший коллектив хотел «акционироваться». Но директор, съездив в Москву, объявил, что тогда центр полностью прекращает финансирование. Искренен ли директор (зарплата директоров таких мифических предприятий остается приличной), зачем нужно сохранять статус-кво Москве, куда смотрит департамент по делам конверсии в Нижнем?.. Вопросы можно продолжать, а пока Татьяна и многие другие живут как живут. Плохо.
Новые бедные охотно делятся своими проблемами. Лет десять назад считалось неловким говорить о заработке, тем более низком: в некотором роде достаток – мерило человека. Теперь, только начав разговор «за жизнь», услышишь такое… Возможно, так люди пытаются психологически защититься, выместить досаду на то, как повернулась жизнь. А может, влияют бесконечные опросы – людям понравилось давать интервью?
Оказывается, при социализме «отлично жили, все имели», получая 80 рублей.
Впрочем, позицию эту разделяют не все. И Зинаида Яковлевна Касьянова Из поселка «Совхозный» Балахнинского района в том числе. Работали с мужем от зари до зари, чтобы поднять пятерых своих сыновей. Теперь двое – Вячеслав и Юра – фермеры. Главный – Слава, хотя учился меньше Юрия, три курса сельскохозяйственного. Юрий уже инженер, отвечает головой за технику в семейном хозяйстве.
Земельной реформе недавно была посвящена одна из передач Владимира Познера. Губернатору Нижнего пришлось отбиваться от оппонентов: ставилось в вину то, что как раз последний год составляло смысл жизни Касьяновых, лишало сна и отдыха. Таков удел реформаторов. Что касается противной стороны, говорит она всегда с позиций самых высоких. Дескать, земля – божий дар, как можно ее продавать? Русскому крестьянину чужды собственнические настроения, колхозы и совхозы – как раз для него. Зачем России фермеры? Все это нам навязывает хитроумный Запад, который спит и видит сделать страну сырьевым придатком. Помнится, Борис Немцов ответил запальчиво:
– Реформа земельная разрабатывалась отечественными учеными. И если они могли сделать это с англосаксонской тщательностью – тем лучше.
Касьянов знает, как «божий дар» попорчен прежними нерадивыми хозяевами. Не один год уйдет, чтобы восстановить землю. Слава Богу, при разделе ее не достались Касьяновым болота. Как сложилась фермерская земля? При ликвидации совхоза мать и отец получили свои доли, отдали сыновьям. Поначалу они входили в ассоциацию акционерных товариществ, которую возглавил бывший директор совхоза Валерий Шатов. Потом решили выделиться. Так возникло крестьянское фермерское хозяйство «Касьянов».
Начинали с малого. На первых гектарах посадили картофель, урожай продали, выручив несколько миллионов. Ушли эти миллионы на выкуп у односельчан их земельных наделов – не все ведь хотели и могли обрабатывать землю. Так собралось у Касьяновых 360 гектаров, и у матери в шкафу – гора долговых обязательств. Касьянов должен платить своим пайщикам дивиденды.
Не новый бедный – новый русский. 360 гектаров, 40 миллионов кредита под 213 процентов годовых. Своего дома пока нет, с женой и трехлетней дочкой живут в соседнем поселке в однокомнатной квартире, которую уступил брат жены. Во время посевной или уборочной мало времени суток. Неделями не выезжают с поля. Соорудили маленький домик, «щиток», там постели, печурка. Когда стали нанимать помощников, устроили в несколько ярусов нары. Компьютер? Конечно, фермеру он нужен, но пока по карману калькулятор. Касьянов сам себе и бухгалтер. Одни налоги надо расписать по 15 адресам (о суммах он деликатно умалчивает), приходится возиться с бумагами ночами. Ходит Касьянов с «дипломатом»; по городской моде еще сумочка на ремне у пояса. Толков, красив. Мать замечает, как раздался в плечах, стал увереннее и спокойнее. От работы-то…
Немного об англо-саксонской тщательности, которую помянул губернатор. Может, и возможна таковая на уровне макросхем, когда делается общий чертеж, эскиз. Жизнь, однако, вносит, как говорится, поправки, порою вовсе неожиданные, в самые тщательные схемы. К тому же тщательность ведь и нравственная категория. Сделать как следует, с тщанием – сделать на совесть и по совести. Отвыкли от этого давно в совхозе.
А вот насчет собственнических настроений все в порядке. Народ говорит просто: воруют.
Делили в этом хозяйстве технику, постройки, организовали аукцион. Касьянов заранее прикинул, что им потребуется, взял для покупки кредит в банке. Ну и как? Сам Касьянов отвечает кратко:
– Неудачно сыграли на аукционе.
А я уже знаю, что за этим «неудачно». Был, пока ждали братьев с поля, откровенный разговор с Зинаидой Яковлевной. Она до сих пор этот аукцион забыть не может. Оплатили технику заочно, поставил Шатов только галочки в списке лотов. Когда пошли смотреть, многое оказалось в нерабочем состоянии. Постояла техника до весны, исчезли таинственным образом детали. Матери фермеров впору было становиться детективом. Нашла она все же «клад»: кто-то схоронил украденное в яме для забоя скота. Было и так: поехали братья регистрировать купленный на аукционе трактор, а движок на нем поставлен краденый, давно в милицейском компьютере значится. Несколько месяцев разбирались, но, видимо, кто надо меры принял. Воры-то свои. Только вот нельзя Касьяновым на этом тракторе работать. Хитро заверчено. Атак, пока не поджигали, не стреляли.
Вячеслав Касьянов не хочет заниматься политикой. Попробовали от фермеров послать своего депутата в Земское собрание – не выбрали. Все собрание из сотрудников районных администраций, в недавнем прошлом – советов.
КОНВЕРСИЯ ДУХА
Впрочем, осуществление планов Касьянова, как и многих других, зависит не только от политики. Есть такое понятие – «общественное мнение», его складывают многие составляющие. Простим слабым и усталым сетования на жизнь, попробуем понять неразумеющих. Сложнее – с другими. В число новых бедных (конечно, относительно бедных, нередко чересчур старательно свою бедность подчеркивающих) попало много представителей интеллигенции. Нижний Новгород – не исключение, о чем говорит пример той же Татьяны Н. Однако она не слишком живописует ужасы нового своего положения. В ее рассказе больше юмора. В самом деле, интеллигентный человек.
Однако среди интеллектуалов есть немало готовых свои обиды перевести в режим тотальной критики происходящего. Само собой забылось, что долгие годы интеллигенция служила интересам определенной партии, одновременно тихо, а то и мысленно, критикуя то, что делалось. Вроде бы договорились на ведьм не охотиться (особенно об этом пеклись сами «ведьмы»), но ведь в прежнем своем качестве многим оставаться стыдно. В Нижнем хороших умов много. И работали эти умы часто на войну, создание оружия массового уничтожения. На темы морали особенно не рассуждали: отвлекало от рассуждений решение технических задач и наличие первых отделов.
Наверное, не случайно пару лет назад бывший генерал КГБ А.Стерлигов выбрал Нижний Новгород для проведения учредительного съезда Русского национального собора. Его задача – «утверждение национальной идеи спасения и преображения Отечества» – оказалась созвучна настроениям некоторых интеллектуалов. В этом году в Нижнем собрался Первый международный славяноевразийский конгресс, в котором участвовали многие представители нижегородской интеллигенции. В адрес нынешней власти с трибуны конгресса раздавались такие обвинения, которые и не снились генералу Стерлигову. Ловко меняя местами причины и следствия, трактовали ставшие недавно известными факты. Разве не знали бывшие руководители, что происходит в Дзержинске? Теперь вина легко перекладывается на других, да еще с новой искусной фразеологией: геноцид славянского населения. Судя по отчетам, в выражениях участники конгресса не стеснялись.