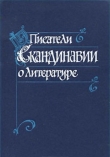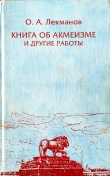Текст книги "Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929"
Автор книги: Казимир Малевич
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Ось цвета и объема*
Опубликована в журнале «Изобразительное искусство», Пг., 1919, № 1, с. 27–30.
В отличие от критического пафоса статьи «О музее» в данной работе излагалась позитивная программа Малевича по устройству художественного собрания нового типа. Выработанные инициатором супрематизма основы построения в большой степени реализовались впоследствии в деятельности петроградского Музея художественной культуры, из лона которого вырос Государственный институт художественной культуры (Гинхук), руководимый Малевичем в 1924–1926 годах. В статье «Ось цвета и объема» обращает на себя внимание четко проводимое автором разграничение между целями и задачами «музеев художественной культуры» и «музеев живописной культуры».
(1) Третьяковская галерея была создана московским коллекционером, купцом П. М. Третьяковым и подарена им Москве в 1892 году.
(2) Выдающийся московский меценат-собиратель С. И. Щукин создал одну из лучших в мире коллекций европейской живописи начала XX века. Частная галерея Щукина была открыта для посетителей; после Октябрьской революции галерея была национализирована, ее собрание легло в основу Государственного музея нового западного искусства, разгромленного в 1948 году. Часть щукинской коллекции вошла в состав Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург, тогда Ленинград), часть – в собрание Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва).
(3) Полемика с Бенуа, идейным противником крайне левых течений в искусстве, в особенности супрематизма, прошла через все публицистические работы Малевича. Здесь он продолжил традицию «отца российского футуризма» Д. Д. Бурлюка, ярого обличителя ретроградства маститого мирискусника (в апреле 1910 года Бурлюк издал анонимную полемическую листовку «По поводу художественных писем г-на А. Бенуа»; затем им была выпущена брошюра «Галдящие бенуа и новое русское национальное искусство» (СПб., 1913); полемика с Бенуа окрасила основные общественные выступления Бурлюка 1912–1913 годов).
Непосредственным поводом для вступления в полемику Малевича явилась резко критическая рецензия Бенуа на «Последнюю футуристическую выставку картин „0,10“ (ноль-десять)» (Бенуа Александр. «Последняя футуристская выставка» // Речь, Пг., 1916, 9 января). Малевич впоследствии часто прибегал к вольному цитированию и пересказу этой статьи в своих публицистических работах (см. статьи в газете «Анархия» (1918), в еженедельнике «Жизнь искусства» (1923). В мае 1916 года родоначальник супрематизма написал ответ – открытое письмо Александру Бенуа, которое, однако, нигде не было опубликовано (оригинал хранится в Рукописном отделе ГРМ, ф.137, д.1186, л. 1–3; целиком письмо впервые опубликовано Тр. Андерсеном в переводе на английский язык в изд.: Malevich, vol. 1, р. 42–48.).
(4) Положения статьи Мережковского «Грядущий Хам» (вошла в одноименную книгу, СПб., 1906), продиктованные ужасом перед гибелью культуры, в 1910-е годы получили дальнейшее развитие. «Грядущий Хам» для писателя воплотился в собирательном облике футуриста, а футуризм в целом был объявлен «новым шагом грядущего Хама» (Мережковский Д. Еще шаг грядущего Хама // Русское слово, М., 1914, 29 июня). Ниже в настоящем тексте Малевич аппелирует именно к этой статье Мережковского.
(5) Симультанизм (от французского simultané – одновременный) – название направления в искусстве, получившего название от «симультанных» композиций, впервые созданных французской художницей русского происхождения Соней Делоне-Терк (1885–1979). Соня Делоне использовала принципы беспредметного искусства, так называемого орфизма («симультайного кубизма»), разработанного ее супругом, французским живописцем Робером Делоне (1885–1941). Название «орфизм» для живописи Делоне придумал французский поэт и теоретик искусства Гийом Аполлинер (1880–1918), подчеркивая в своей характеристике орфизма первенствующую роль цвета в создании организма картины, где динамика движения и музыкальность ритмов выражались с помощью закономерностей взаимопроникновения основных цветов спектра и взаимопересечения криволинейных поверхностей.
О поэзии*
Опубликована в журнале «Изобразительное искусство», Пг., 1919, № 1, с. 31–35.
Собственная теория беспредметного искусства, создаваемая Малевичем с середины 1910-х годов, распространялась на все виды творчества – живопись, поэзию, музыку; исповедуемый художником синкретизм искусств глубинными корнями был связан с символизмом начала века.
Взгляды Малевича на поэтическое творчество развивались в тесном общении с русскими поэтами, кубофутуристами и будетлянами. Особенно близок он был с А. Крученых – совместная работа над постановкой футуристической оперы «Победа над Солнцем» имела решающее значение для Малевича. Освобождение слова от предметности, образа, логики и смысла – возникновение заумной, транс-рациональной, алогической поэзии футуристов – послужило одним из импульсов в становлении живописного супрематизма. Малевич сам создал несколько заумных стихотворений – четверостишие в конце статьи «О поэзии» принадлежало также ему (оно приведено по машинописному оригиналу статьи, любезно предоставленному В. И. Ракитиным).
Супрематизм. Из «Каталога Десятой Государственной выставки»*
Печатается по тексту из «Каталога десятой Государственной выставки. Беспредметное творчество и супрематизм» (ВЦВБ <Всероссийское центральное выставочное бюро>. Отдел изобразительных искусств Народного комиссариата по просвещению). М., 1919.
На X Государственной выставке «Беспредметное творчество и супрематизм» (апрель 1919, Москва; участники – В. Аграрых (В. Ф. Степанова), А. А. Веснин, Н. М. Давыдова, И. В. Клюн, К. С. Малевич, М. И. Меньков, Л. С. Попова, А. М. Родченко, О. В. Розанова (посмертно) произошло открытое размежевание супрематизма и нарождавшегося конструктивизма, не обладавшего пока терминологическим определением. В каталоге выставки были опубликованы декларации почти всех участников (кроме Веснина и Давыдовой; в случае Розановой были использованы отдельные высказывания из ее опубликованных статей). Оппонентами супрематизма, объединившимися под лозунгом «беспредметное творчество», выступили Родченко, Степанова (В. Аграрых), Попова, Веснин. В противовес полотнам Малевича «белое на белом», экспонировавшимся впервые, Родченко выставил холсты «черное на черном». Среди супрематистов также наблюдался раскол: лишь Меньков остался безоговорочно верным лидеру; в манифесте Клюна содержались выпады против супрематизма (см. примеч. 4 к статье «К приезду вольтеро-террористов из Петербурга» в газете «Анархия»: наст. изд., с. 340–341).
Выставка явилась последним совместным выступлением представителей двух основных линий в русском авангарде.
(1) Неточное название двух первых брошюр Малевича – «От кубизма к супрематизму» (Пг., 1916) и «От кубизма и футуризма к супрематизму» (М., 1916).
(2) Имеется в виду «Последняя футуристическая выставка картин „0,10“ (ноль-десять)» (декабрь 1915 – январь 1916, Петроград).
О новых системах в искусстве*
Публикуется по тексту книги, изданной в Витебске в 1919 году.
Первое большое теоретическое сочинение Малевича, написанное летом 1919 года в Немчиновке, было напечатано в декабре 1919 года в Витебске. Кроме основного текста, датированного 15 июля 1919 года, в состав книжки были включены «Установление А» и два высказывания, сопровождавших воспроизведение Черного квадрата.
Брошюра была напечатана литографским способом учащимися Витебского Народного художественного училища (подмастерьями артели художественного труда при Витебских свободных мастерских) под наблюдением и руководством Л. М. Лисицкого. Вступление-эпиграф к книжке, «Установление А» и два завершающих постулата под изображением Черного квадрата были скорописью исполнены на литографском камне самим Малевичем. Книга сопровождалась иллюстрациями – автолитографиями Малевича; обложка (гравюра на линолеуме) была создана Лисицким.
В 1920 году в Петрограде Отдел Изо Наркомпроса издал брошюру Малевича «От Сезанна до супрематизма. Критический очерк», в которую вошли несколько больших фрагментов витебской книжки «О новых системах в искусстве», соединенных в самостоятельный текст. В настоящем издании текст брошюры «От Сезанна до супрематизма» выделен курсивом.
(1) Имеются в виду следующие статьи: Осоргин М.А. О пляске вакханок // Русские ведомости, М., 1916, 13 ноября; Бенуа Александр. «Последняя футуристская выставка» // Речь, Пг., 1916, 9 января.
В газете «Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (М., 1919, № 84, 18 апреля, с. 2) была помещена статья Георгия Устинова «Коммунизм и искусство», в которой резко критиковалась политика Наркомпроса в области искусства и литературы. Автор, рецензируя четвертый номер газеты «Искусство» (М., 1919, 22 февраля), в частности заявил: «Но и этого блестящего номера достаточно для того, чтобы с безошибочной точностью определить, какой компанией руководится это возмутительно-шарлатанское издание». Газета «Искусство» (М., 1919) была органом Отдела Изо Наркомпроса.
(2) Автопортрет Сезанна (1880-е годы), находившийся в собрании С. И. Щукина, хранится ныне в ГМИИ.
(3) Неточное название первой брошюры Малевича «От кубизма к супрематизму», изданной осенью 1915 года.
(4) С. И. Щукину принадлежали две из двадцати картин Клода Моне, где был изображен Руанский собор в разное время суток («Руанский собор в полдень», 1894; «Руанский собор вечером», 1894; обе ныне в ГМИИ).
(5) В собрании С. И. Щукина было несколько кубистических работ Пикассо на тему обнаженного женского тела. Судя по описанию, Малевич имел в виду картину «Дриада» (1908), известную под названиями «Большая дриада», «Обнаженная в лесу» (в собрании Щукина она именовалась также «Нагая женщина с пейзажем»). Этот холст ныне хранится в Гос. Эрмитаже.
(6) П. Пикассо. Человек с кларнетом. 1911–1912. Х., м. Частное собрание, Париж. Репродукция этой картины была помещена на обложке книги: Грищенко А. «Кризис искусства» и современная живопись. Вопросы живописи. Выпуск 4-й. М., 1917.
(7) «Установление А в искусстве» – 15 ноября 1919 года Малевич написал своеобразный свод правил-законов для своих последователей, будущих членов Уновиса, где декретировал введение в искусство нового измерения – «пятой меры, экономии». «Новый экономический порядок», объявленный в первой витебской книге, означал, по Малевичу, «что всякое действо совершается через энергию тела, а всякое тело стремится к сохранности своей энергии, а потому всякое мое действо должно совершаться экономическим путем». Понятие «экономия» стало одним из стержневых понятий в малевичевской теории новейшего искусства; супрематизм расценивался своим родоначальником как самая «экономичная» художественная система, в основании которой лежал наиболее «экономический» пластический элемент – прямая, след движущейся точки в пространстве.
Супрематизм. 34 рисунка*
Публикуется по тексту книги, изданной Уновисом в конце 1920 года в Витебске литографским способом. Статья предваряла альбом из 34 литографий, воспроизводивших основные супрематические сюжеты Малевича.
(1) Статья Малевича под названием «К чистому действу» была помещена в Альманахе Уновис № 1; в том же Альманахе было анонсировано: «Готовится к печати <…> К. Малевич. О чистом действе» (Альманах Уновис № 1. Витебск, 1920. Отдел рукописей ГТГ, ф.76/9). Отдельного издания под заголовком «Чистое действо» или «О чистом действе» на сегодня обнаружить не удалось.
(2) Не установлено, о какой работе Малевича идет речь; ни брошюры, ни статьи с таким названием нет.
К вопросу изобразительного искусства*
Публикуется по тексту книги, изданной Государственным издательством в Смоленске в 1921 году.
В Смоленске работал филиал Уновиса, руководимый живописцем Владиславом Стржеминским (1893–1952) и скульптором Катаржиной Кобро (1898–1951), впоследствии виднейшими польскими художниками-авангардистами. Малевич, Лисицкий и другие члены творкома (творческого комитета) Уновиса активно сотрудничали со своими смоленскими коллегами.
Судя по тексту, в данной брошюре была опубликована лекция, прочитанная Малевичем во время одного из визитов в Смоленск (так, о состоявшейся 21 октября 1920 года лекции Малевича в Смоленске было сообщено в издании «Уновис. Листок Витебского Творкома № 1» от 20 ноября 1920 года).
Основные положения смоленской брошюры сосредоточены на вопросах становления новой художественно-педагогической системы, призванной воспитывать мастеров современного искусства – создание такой системы было одной из актуальнейших проблем новой художественной школы, возникающей в те годы как в России, так и в Европе.
О партии в искусстве*
Статья опубликована в литографском выпуске «Путь Уновиса. Издание Центрального Творкома Уновиса», Витебск, 1921, № 1, январь, с. 1–5.
Впервые переиздана в «Бюллетене Фонда К. С. Малевича» (публикация, подготовка текста и примечания Т. В. Горячевой), М., 1995 (в печати).
Работа К. С. Малевича, опубликованная в «Пути Уновиса», подразделялась на три части. В первой анализировались проблемы «партийности» в социальной и художественной жизни, актуализированные общественной ситуацией; трактовка Малевичем этих вопросов легла в основу идеологического обеспечения деятельности витебского объединения «Утвердители нового искусства», Уновис (об Уновисе см. комментарий к нижеследующей статье). Второй раздел, озаглавленный «О гармонии, создании вещи и власти ритма над художником», разрабатывал самостоятельную тему, не связанную с проблемой «партийности в искусстве». После него в выпуске была помещена подпись «К. Малевич»; за ней следовало двенадцать кратких высказываний лидера Уновиса, объединенных заголовком «Если» и носивших установочно-лозунговый характер. Все три текста, смонтированные в цельный блок, отделялись от последующих материалов выпуска графической линейкой. Компановка текстов Малевича в издании «Путь Уновиса» была аналогична построению его книги «О новых системах в искусстве», заключавшейся положениями-призывами «Установления А в искусстве».
(1) Малевич уподобил «главу просвещения» (наркома Народного комиссариата по просвещению А. В. Луначарского), ищущего «культуру с фонарем», древнегреческому философу-моралисту Диогену, пытавшемуся, по преданию, днем с зажженным светильником найти натурального, неиспорченного человека.
(2) Малевич имел в виду разгон Учредительного собрания, произведенный большевиками 6 (19 н. ст.) января 1918 года.
(3) «Манифест Коммунистической партии», написанный в 1848 году К. Марксом и Ф. Энгельсом, был первым программным документом научного коммунизма.
(4) В декабре 1919 года в Москве вышло в свет издание «Художественная жизнь. Бюллетень Художественной секции Народного комиссариата по просвещению». В первом номере журнала была помещена статья А. В. Луначарского «Художественная задача Советской власти», а также статьи других авторов, освещавшие работу отделов Художественной секции Наркомпроса. Малевич, по всей вероятности, предполагал выступить с программной статьей в первом номере печатного органа Наркомпроса; он, очевидно, получил отказ редакции, мотивированный отсутствием места (именно в первом номере «Художественной жизни» вслед за материалами общего характера была опубликована статья Игоря Грабаря «Раскрытие памятников живописи» (с.8-10), посвященная реставрации икон владимирско-суздальской школы).
(5) Педагогическая система Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ), открывшихся осенью 1918 года в Москве и Петрограде, была ориентирована на утопический идеал возрожденческих коммун и строилась по профессионально-цеховому принципу: художник-мастер руководил воспитанием учеников-подмастерьев, избравших его в качестве наставника; каждая мастерская работала по индивидуальной программе и на основе собственной методики ее руководителя. Эта система, функционировавшая в течение двух лет, сравнительно скоро обнаружила свою недостаточность. В 1920 году в результате проведенной реформы художественного образования на базе ГСХМ возникли Высшие художественно-технические мастерские (Вхутемас). В основу новой художественной педагогики были положены методы, воплотившие идеи объективных закономерностей пластического формообразования. Вхутемас состоял из восьми факультетов, занятиям на которых предшествовало обязательное для всех студентов обучение на Общем (Основном) отделении («испытательном» в тексте Малевича). После прохождения формально-аналитических дисциплин Основного отделения учащиеся поступали в специальные мастерские того или иного художника-руководителя. Определение «технические», добавленное к названию художественного вуза, свидетельствовало о том, что наряду со станковыми видами изобразительного творчества в его стенах появилась установка на развитие производственного искусства («фабричного», по терминологии Малевича).
(6) Малевич остро ощущал свою преемственность в развитии новейшего искусства, начиная отсчет от импрессионизма; в мае 1916 года он писал в письме к А. Н. Бенуа: «И я счастлив, что лицо моего квадрата не может слиться ни с одним мастером, ни временем. Не правда ли?
Я не слушал отцов, и я не похож на них. И я – ступень. <…>
В искусстве есть обязанность выполнения его необходимых норм. Помимо того, люблю я их или нет.
Нравится или не нравится – искусство об этом вас не спрашивает, как не спросило, когда создавало звезды на небе» (Письмо К. С. Малевича А. Н. Бенуа. Май 1916 г. Рукописный отдел ГРМ, ф.137, д.1186).
Уновис*
Статья опубликована в журнале «Искусство», Витебск, 1921, № 1, март, с. 9–10, с пометкой редакции: «Печатается в дискуссионном порядке». Переиздана при жизни Малевича в сб. «Советское искусство за 15 лет. Материалы и документация». М. – Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933. С. 120–124.
Объединение, вошедшее в историю под именем Уновис (аббревиатура от названия «Утвердители нового искусства»), зародилось в конце 1919 года в стенах Витебского Народного художественного училища. Окончательное название оно получило 14 февраля 1920 года. Наиболее активными членами витебского Уновиса, пропагандировавшими и развивавшими художественные и теоретические взгляды Малевича, были преподаватели училища Л. М. Лисицкий (1890–1941), В. М. Ермолаева (1893–1938), Н. О. Коган (1889–1942), студенты Н. М. Суетин (1897–1954), И. Г. Чашник (1902–1929), Л. М. Хидекель (1904–1986), Л. А. Юдин (1903–1941) и другие.
В глазах Малевича Уновис был инструментом преображения реальности; по мысли лидера, деятельность этой «новой партии» должна была охватывать все сферы бытования искусства – от утилитарного оформления мира вещей до выработки новой художественной и общественной философии.
Идеи «коллективного творчества», исповедуемые членами объединения, были реализованы в создании «единых экспонатов Уновиса» (без указания авторства отдельных произведений, в том числе и принадлежавших Малевичу), представленных в 1920–1923 годах на витебских, московских, а также берлинской (Первая русская художественная выставка, 1922) и петроградской (1923) выставках. Под маркой Уновиса были выпущены как теоретические работы Малевича, так и ряд изданий, включавших разнообразные произведения членов Уновиса.
Витебский Уновис прекратил свое существование в связи с отъездом Малевича и группы его единомышленников из города в начале лета 1922 года. В Петрограде деятельность Уновиса совместилась с многосторонней работой, проводимой всеми отделами и подразделениями Государственного Института художественной культуры, которым руководил Малевич.
Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика*
Публикуется по тексту книги, изданной Уновисом в Витебске в 1922 году. В конце текста помещена авторская дата его создания, 1920 год.
Трактат «Бог не скинут» состоит из первых 33 параграфов второй части основного философского сочинения Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность», законченного 19 февраля 1922 года. В рукописи вся вторая часть этого труда, насчитывающая 45 параграфов, посвящена Михаилу Осиповичу Гершензону (1869–1925), сыгравшему значительную роль в философском развитии Малевича (рукопись хранится в архиве Малевича в Стейделик Музеуме, Амстердам, инв. № 4). Книга Гершензона «Тройственный образ совершенства» (М., 1918) оказала определенное влияние на разработку Малевичем собственной теории тройственного пути к Богу как абсолюту через Искусство, Церковь, Фабрику.
Трактат стал единственным философским сочинением Малевича, изданным прижизненно. Его публикация вызвала резко отрицательные рецензии; так, теоретик и идеолог конструктивизма Борис Арватов заявил: «…я неоднократно указывал, что супрематизм – это злейшая реакция под флагом революции, т. е. реакция вдвойне вредная. Левое искусство в лице его подлинно революционной группы (конструктивизм) должно беспощадно оборвать ту нить, которая связывает его еще с супрематизмом. После откровенного выпада Малевича даже сомневающиеся, даже близорукие сумеют под маской красного квадрата разглядеть черное лицо старого искусства. Малевичу нечего делать с левыми, – пусть он найдет себе место там, где его с удовольствием примут в рядах догнивающего индивидуалистического, доведенного до полного соллипсизма эстетства» (Арватов Б. К. Малевич. Бог не скинут (Искусство. Церковь. Фабрика). Изд. Уновис. Витебск. 1922 г. Стр.40 // Печать и революция, М., 1922, № 7, с. 343–344).
Текст витебской брошюры Малевича был впервые переиздан в составе всей книги «Супрематизм. Мир как беспредметность», выпущенной в переводе на немецкий язык в 1962 году в Кёльне.
Русский музей*
Опубликована в еженедельнике «Жизнь искусства», Пг., 1923, № 16 (891), 24 апреля, с. 13–14.
Статья была подписана искаженной фамилией «К. Иелевич» (в следующем номере еженедельника ошибка была признана и исправлена). Данное обстоятельство имело неожиданный резонанс: Н. Н. Пунин опубликовал полемический ответ на статью «т. Иелевича, никому не известного новоявленного защитника старого музееведения», увидев в тексте «молодого наемника старых музееведов» хитроумный план: «…чтобы в корне разрушить самую возможность обновления старых музеев, этим освещенным традицией Голиафам следует просто поглотить маленькие музеи художественной культуры, приняв к себе весь их матерьял» (Пунин Н. Кому они мешают? // Жизнь искусства, Пг., 1923, № 19 (894), 15 мая, с. 15–16).
(1) Московский Музей живописной культуры (1919–1929) не имел своего постоянного помещения, его собрание переводили из одного места в другое. Условия хранения работ зачастую были ужасающими; так, Малевич в один из своих приездов в Москву из Витебска счел необходимым подать гневное заявление: «В АК ИЗО. Заведующему АК ИЗО тов. Альтману.
От центрального Творкома Уновис.
Протест.
Известно ли Вам о варварском обращении Государства с произведениями Новых Искусств. Если известно, то какие меры приняты для охраны произведений; уже неоднократно наблюдается, что Государство с Новыми Произведениями совершенно не считается и выбрасывает их из комнаты в комнату; до сих пор не может представить помещение под Музей. Сегодня опять выброшены произведения из Музея Жив<описной> Культуры, свалено все в одну кучу, от чего разрушаются работы. Очевидно, что Государству они не нужны, иначе оно бы стремилось их сохранить так, как сохраняет Екатерининские Тюфяки. Новые произведения являются творческим трудом, и мы выносим протест и требуем принять меры к охране такового.
Член Центрального Творкома УНОВИС
К. Малевич.
9/V-21 г. Москва».
(Российский государственный архив, ф.2306, оп.23, д.58, л.35).
АК ИЗО – Академический центр, отдел изобразительных искусств. Музейный отдел Наркомпроса в результате реформ 1921 года был подчинен Главнауке. Заведующим АК ИЗО стал Н. И. Альтман.
(2) Фонд – имеется в виду Музейный фонд современного искусства московского Отдела Изо Наркомпроса (Государственный художественный фонд), который с лета 1918 года закупал произведения современных художников; Музейное бюро Отдела Изо распределяло затем эти произведения по столичным и провинциальным музеям. Музейное бюро было ликвидировано в марте 1921 года, поступления в фонд прекратились еще раньше из-за недостатка средств.
«Extra dry» (денатурат)*
Статья опубликована в еженедельнике «Жизни искусства», Пг., 1923, № 18(893), 8 мая, с. 17–18.
Полемический ответ Малевича на статью Н. Радлова «К истокам искусства» (Жизнь искусства, Пг., 1923, № 1,3 января, с. 16–17).
(1) Малевич цитирует по памяти; в статье Радлова: «Они – великие художники, потому что они полнее и глубже миллионов других людей воспринимали жизнь, умели чувствовать и умели передавать это чувство другим» (указ. соч., с. 17).
(2) В статье Радлова: «Под шутовским колпаком, которым с угрожающей значительностью, воображая его от времени до времени шлемом Минервы, размахивал Маринетти, оказался пустой череп великосветского ловеласа» (указ. соч., с. 16).
(3) Малевич вольно цитирует 11-й пункт «Манифеста футуризма» Маринетти (1909) в переводе Г. Тастевена. См.: Тастевен Г. Футуризм (На пути к новому символизму). С приложением перевода главных футуристских манифестов Маринетти. М.: Ирис, 1914. С. 7–8 «Приложения».
(4) Малевич вольно пересказывает отдельные положения статьи А. Бенуа; правильный текст: «Читатель скажет мне, что не стоит обращать внимание на эти шалости и провокации (речь идет о листовке с манифестами, распространяемой на выставке „0,10“. – A. Ш.), что все это есть лай моськи в известной басне Крылова. Но мне кажется, что в наше время этот лай уже не просто одно забиячество, а нечто более знаменательное. Да и сам слон стал таким старым-старым, дряхлым-дряхлым, что, глядишь, он свалится и уже больше не встанет. И в такие минуты агонии лай моськи становится чем-то жутким и грозным; да и не моська уже это, а какая-то страшная недотыкомка, которая вот-вот и вскочит слону на затылок и вопьется в него глубоко, до самого мозга. <…>
И, разумеется, скучно на выставке у футуристов потому, что все их творчество, вся их деятельность есть одно сплошное отрицание любви, одно сплошное утверждение культа пустоты, мрака, „ничего“, черного квадрата в белой раме. Только что одни заняты пока ломом и окрошкой, а другие уже и с этим покончили („последняя выставка“), покончили вообще с миром, пришли к какой-то „самоцели“, иначе говоря к полной нирване, к полному морозу, к полному нулю. Как тут не почувствовать скуку, особенно если утрачен секрет тех заклятий, после которых это наваждение и беснование может рассеяться, переселиться в стадо свиней и исчезнуть в пучине морской?
Откуда бы, откуда бы достать эти слова заклятия? Как бы произнести тот заговор, который вызовет на фоне черного квадрата снова милые, любовные образы жизни?» (Бенуа Александр. «Последняя футуристская выставка» // Речь, Пг., 1916, 9 января).
(5) В статье Радлова: «Полвека назад яд вошел в самое сердце искусства. Полвека назад, когда впервые вместо виноградного сока вдохновения, фантазии, экстаза Дионис хлебнул extra-dry денатурата точных наук, искусство, ослепшее и обезумевшее, ринулось в пропасть материализма» (указ. соч., с. 16).
(6) Зорвед (зрение+ведание, зоркое ведание) – новое направление в русском искусстве 1920-х годов, разработанное Матюшиным и его учениками (Б.В., Г.В., М.В. и К. В. Эндерами, Н. И. Гринбергом). В основании теории «расширенного смотрения», на которой базировалось новое направление, лежала концепция «высшего измерения», генетически восходившая к проблемам «четвертого измерения» («четвертое измерение» – популярная в 1910-е годы идея, развитая в сочинениях П. Д. Успенского; см. примеч. 2 к тексту Малевича из «Тайных пороков академиков»: наст. изд., с. 329).
Прорыв к «новому мироопределению», усиленный специальными тренировками воображения и глаза, должен был, по мысли зорведов, привести к новой пластической реальности, получившей название «нового пространственного реализма» (см.: Матюшин М. Опыт художника новой меры // Харджиев Н., Малевич К., Матюшин М. К истории русского авангарда. Стокгольм,1976. С. 159–187; а также: Povelikhina A. Matjushin’s Spatial System // The Structurist. 1975/76, no. 15/16).
Примечательно, что художественный лозунг «Зорвед» был обнародован Матюшиным на заседании в Музее художественной культуры 13 апреля 1923 года – Малевич в настоящей статье, опубликованной менее чем через месяц, помещает зорведов в один ряд с признанными авторитетами в авангарде – кубистами, футуристами, супрематистами.
Супрематическое зеркало*
Манифест напечатан в еженедельнике «Жизнь искусства», Пг., 1923, № 20 (895), 22 мая, с. 15–16. Фрагмент манифеста опубликован в журнале «ЛЕФ», М., 1923, № 3, июнь-июль, с. 183. Помимо манифеста Малевича в том же номере «Жизни искусства» были помещены «Декларация „Мирового расцвета“» П. Филонова, «Декларация» П. Мансурова, декларация «Не искусство, а жизнь» М. Матюшина, представлявшая собой манифест Зорведа (см. комментарий к предыдущей статье).
Последний опубликованный манифест Малевича; написан к открытию «Выставки картин петроградских художников всех направлений. 1918–1923», с 17 мая развернутой в залах Академии художеств в Петрограде. На выставке был представлен коллективный экспонат Уновиса – живопись и графика «от кубизма до супрематизма»; экспозиция Уновиса увенчивалась двумя чистыми холстами. В каталоге выставки данный уновисский экспонат назывался «Супрематическое зеркало» и служил иконическим аналогом главному выводу Малевича, закрепленному в манифесте.
Ванька-встанька*
Статья опубликована в еженедельнике «Жизнь искусства», Пг., 1923, № 21 (896), 29 мая, с. 15–16. Ранее не переиздавалась.
Полемический ответ Малевича на статью С. Исакова «Церковь и художник» (Жизнь искусства, 1923, № 14 (889), 10 апреля, с. 19–20). В свою очередь С. К. Исаков поместил отклик на статью Малевича: С.И. <Исаков С.К.> Хорошо ли придуман «Ванька-встанька» // Жизнь искусства, Пг., 1923, № 23(898), 12 июня, с. 7–8.
(1) Шесть пунктов, выделенных Малевичем в качестве тезисов для ответа, в статье Исакова излагались следующим образом: «Гораздо поразительнее то, что наблюдаем мы у себя. Тут разлад между чутьем, толкнувшим наших „левых“ художников в первые же дни Октябрьской Революции пойти нога в ногу с пролетариатом, всемерно помогая ему в деле крушения старых идолов, и между тою идеологической отрыжкой, что как икота перед сонной болезнью охватила их, едва события позволили спокойно перевести дух; разлад этот наводит на раздумье. Художник Маневич (опечатка в журнале. – А. Ш.), все годы революции не за страх, а за совесть работающий с Советской властью, казалось бы, исключительно трезвенный, здоровый, жизненный, разрабатывающий подлинные основы, на которых будет строиться пролетарское искусство, обнаруживает такую же идейную неустойчивость, как и немецкие попутчики революции. И для него не „бытие определяет сознание“, а художник-творец, облекающий в форму хаос эмоций. Недоговоренная философия Абсолюта. Недаром выпустил он весьма сумбурную книжечку „Бог не скинут“.