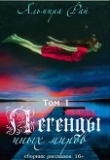Текст книги "Сердитый бригадир"
Автор книги: Израиль Меттер
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Когда пришло время чертить на доске, он повернулся спиной к классу, но тотчас же вспомнил, что именно в таком положении легче всего нарушается дисциплина; делая чертёж, он поминутно оборачивался. Как назло, тряпка оказалась плохо выжатой, доска была чересчур мокрой, мел скользил по ней с душераздирающим писком, а линии получались рахитично бледные. Он с испугом увидел вдруг, как Тоня Куликова прижала ладони к ушам – неужели оставалось всего десять минут до конца урока!
Торопливо доведя запись теоремы до конца, он вдруг радостно сообразил, что ведь Тоня Куликова не выносит скрипа…
«Дура! Вот я ей покажу! Зачем она меня путает?»… – подумал он.
Прохаживаясь поперёк класса от стены к стене, он видел, словно в зеркале, что движения его стали плавными и уверенными. Было приятно, что, когда он шёл налево, глаза всех учеников поворачивались за ним налево, а когда сворачивал вправо, взгляды ребят следовали за ним неотступно.
Если бы ещё удалось хоть на минуту присесть на стул, победа была бы полной!..
– А сейчас, – громким голосом сказал Миша, – мы посмотрим, как вы усвоили доказательство этой теоремы.
И он сел.
Вызвать надо было кого-нибудь из намеченных по конспекту, но уже минут десять, как казалось Мише, ему не давало покоя хмурое лицо одной ученицы, там, в дальнем конце класса. Это лицо как-то странно притягивало его, хотя он старался не смотреть на него.
«Вот я сейчас её и вызову», – решил Миша.
Быстро прикинув в уме план расстановки парт, он хотел вспомнить её фамилию, – она не вспоминалась. Тогда, посмотрев на неё в упор, он сказал:
– Ну вот, например, попросим вас выйти к доске.
Следя за направлением его взгляда, весь класс обернулся, лицо ученицы, к которой Миша обратился, стало зло удивлённым, и тут же он мгновенно понял, что вызывает к доске методистку Маю Петровну…
Содрогнувшись от своей ужасной ошибки, Миша хотел было извиниться, но поднялась вдруг и пошла к доске, словно именно её и вызывали, Зоя Столярова (третья колонка у двери, пятая парта, левая сторона).
Миша знал, что это была лучшая ученица в классе, и видел по её доброму, умному и жалостливому лицу, что она хочет его выручить, но он так же хорошо знал, что вызывать к доске лучших учениц не полагается; так поступают недобросовестные учителя, если на их урок приходят обследователи из гороно.
Зоя уже бойко стучала мелом по доске, доказывая теорему, когда на первых партах поднялся вдруг лёгкий шум, ученики задвигались, шум донёсся и из коридора; шёпот пронёсся по классу, и Миша понял, что прозвенел звонок, которого он не услышал.
Сознавая, что теперь всё пропало и вряд ли ему поставят хорошую оценку за проваленный урок, он сказал Зое Столяровой:
– Садитесь, пожалуйста. Вы доказали теорему правильно, но я вас не вызывал.
Затем он быстро продиктовал классу номера задач, которые следовало решить дома.
У дверей к нему подошла Тоня Куликова.
– Ты только, пожалуйста, меня не жалей! – дрожащими губами сказал Миша.
Она испуганно на него посмотрела: у него было белое лицо и потный лоб. Обогнав её, Миша пошёл по коридору, ни на кого не глядя. У лестницы он замедлил шаг: на нижней площадке, окружённый плотной толпой учеников, стоял Николай Павлович. Сверху было видно, как он пытался продвинуться к ступенькам, и толпа ребят, не расступаясь, подавалась вслед за ним. До Миши донеслись громкие голоса:
– Николай Павлович, что вы ему поставили?
– Честное слово, мы хорошо поняли!
– Поставьте ему пять, Николай Павлович!..
Миша быстро свернул в сторону и взбежал по лестнице наверх; здесь, на пустынной тёмной площадке, он простоял всю перемену.
После звонка он спустился в учительскую. Обсуждение урока началось тотчас же. Студенты сидели за большим столом; практиканту полагалось говорить первым.

Держась за спинку стула и глядя на большой крюк, на котором висела рама с расписанием, Миша сказал:
– Я провалил урок.
Мая Петровна постучала толстым карандашом по столу.
– Конкретнее, Новожилов. Нас интересует анализ урока, а не ваши эмоции.
– Да что ж тут анализировать, – уныло ответил Миша. – Потерял связь с классом, лиц не видел, звонка не услышал, приготовленный материал не успел изложить…
– Всё? – спросила Мая Петровна.
– Всё.
Он устало, боком опустился на стул.
Мая Петровна открыла блокнот.
– Выступление Михаила Кузьмича Новожилова, – сказала она, – было самокритичным, но недостаточно конкретным. Я позволю себе остановиться на целом ряде деталей…
С холодным жаром, свойственным молодым методистам, она начала разбирать детали урока, пересыпая свою речь излюбленными выражениями: «Я позволю себе» и «Я мыслю себе». Фразы её были какие-то шарообразные, они словно выкатывались из её маленького круглого рта и лопались тут же над столом, как пузыри.
Миша исподлобья, украдкой поглядывал на Николая Павловича. Учитель дёргал свои густые выцветшие брови и тихонько покашливал; этого жеста и этого звука Миша побаивался ещё в седьмом классе.
– Позвольте! – гудящим голосом сказал вдруг Николай Павлович. – Я не понимаю, что происходит… Ты в самом деле убеждён, что дал плохой урок? – Возмутившись, он обратился к своему бывшему ученику на «ты». – Да я временами любовался тобой!.. Великолепно объяснил теорему, свободно расхаживал по классу, умудрился сесть на стул, ведь ты даже улыбался, чёрт возьми!
– Урок всё-таки не спектакль, – тонко заметила Мая Петровна.
– Хороший учитель всегда немножко артист, – резко сказал Николай Павлович; увидев её испуганное лицо, он вежливо добавил: – Между прочим, это придумал не я, а Макаренко… Что касается звонка, Миша, то действительно, он застал тебя врасплох. Но ведь я на своём первом уроке выпалил весь приготовленный материал за пятнадцать минут и остальные тридцать стоял и таращил глаза на детей!.. Брр! Даже вспомнить страшно…
– Аналогичный случай был во вторник в шестой группе, – кивнула головой Мая Петровна.
– Теперь насчёт конспекта, – продолжал Николай Павлович; он подумал секунду, очевидно, выбирая выражения. – Насчёт клеточек и всякой там терминологии… Это всё очень нужные вещи. Необходимейшие! – сердито прогудел он. – Да главное-то не в этом… Перед вами на партах сидят люди, и какой бы ты предмет ни преподавал, ты для них учитель жизни, а это ни в какие клеточки и ни в какую терминологию не умещается… А мы ужасно любим всякую чепуху! «Первая колонка у окна», «вторая колонка»… Да не колонки это, а дети! И извольте любить их, узнавать их не по номеру парты, а по душе, по сердцу, по характеру…
Глядя влюблёнными глазами на своего старого учителя, Миша испытывал такое острое, захлёбывающееся чувство благодарности к нему, какое бывает только в юности. И, как это бывает в юности, ему захотелось быть во всём похожим на Николая Павловича: обладать таким же гудящим голосом, завести желтоватые трёпанные брови, научиться так же закладывать винтом ногу за ногу, угрожающе покашливать, – приобрести привычки, которых, к сожалению, у Миши ещё не было. Он уже забыл свои переживания в классе. И уже не важна была ему оценка урока. Он чувствовал, что и Николай Павлович хвалит его, в общем-то, наполовину зря, лишь бы досадить методистке; борьба шла поверх него, поверх его жалкого, неумелого урока.
И, несмотря на то, что именно так он думал о своём уроке, по мере того, как учитель говорил, Миша вырастал в собственных глазах. Ему казалось, что он понял вдруг то, о чём так нескладно и так редко думал.
В мелкой институтской суетне, в стремлении сдать сессию, дотянуть до стипендии он забывал о том, ради чего жил. Как много глупых и тусклых слов он произносил в общежитии, на собраниях, в аудитории! Какие мелкие чувства его волновали!..
Ему представилась неведомая школа; она стояла почему-то в снегу, трещат дрова в классной печке, распахивается свежевыструганная дверь, он входит в класс… И дальше открывается мир, где нарушены все обыденные пропорции…
– Я попросила бы вас, Михаил Кузьмич, – услышал он оскорбительно-вежливый голос методистки, – участвовать в обсуждении вашего урока. Улыбки здесь совершенно неуместны.
3
Вечером он пошёл к Наташе. На душе у него было легко, он даже съехал, как в детстве, по перилам лестницы. Внизу стоял комендант общежития в своей неизменной кепочке, надвинутой на глаза, и в ярко начищенных сапогах. Комендант грозно крикнул:
– Товарищ студент!
Но Миши и след простыл.
Он шёл по улице, раскатываясь на ледяных дорожках и сбивая бородатые сосульки с подоконников первых этажей. С грохотом обрушивался лёд в водосточных трубах; в краткие секунды городского затишья слышались вдруг журчанье воды и крики воронья.
От этого грохота, журчанья и птичьих тревожных криков Мише было весело; ему казалось, что у него внутри тоже что-то обрушивается; он шагал в распахнутом пальто, и ему представлялось, что идёт по улице сильный, мускулистый молодой человек, которому всё позволено и который всем необходим. Его распирало от приветливости к людям. Он жалел старушку, испуганно остановившуюся на краю тротуара; она пошла через мостовую, едва передвигая ноги. Миша смотрел ей вслед и никак не мог понять, почему ей не удаётся шагать проворнее.
Какой-то прохожий спросил у него, как пройти на Петроградскую сторону, и Миша долго вдохновенно объяснял ему, что сперва будет такая-то улица, потом Марсово поле, мост, Петропавловская крепость. Кировский проспект. Прохожий уже отошёл на несколько шагов; Миша крикнул вдогонку:
– Там ещё мечеть красивая!
Навстречу двигалась нахальная франтоватая компания; она загородила весь тротуар, но Миша не уступил ей дороги, а врезался в середину и пошёл дальше, как ни в чём не бывало. Лохматый парень нагнал Мишу, схватил его за плечо и повернул к себе.
– Мальчик, – сказал парень, – по губам захотел?
Миша посмотрел на него добрыми весёлыми глазами.
– Так вы же идёте, как лошади!
Он так искренне рассмеялся, что парень недоумённо открыл свой глупый рот, помигал ресницами и повернул к друзьям.
Необыкновенно легко думалось о Наташе. Вспоминались школьные вечера, казавшиеся тогда такими значительными. Мишина школа помещалась в одном здании с женской Наташиной. Огромная с аркой дверь соединяла два актовых зала. Эта дверь была заколочена крест-накрест досками и заперта с двух сторон на висячие замки. В праздники два директора – мужской и женской школы – договаривались о совместном вечере.
И вот зажигался яркий свет в двух актовых залах; играли два оркестра; бегали по коридорам нахмуренные и нарядные члены двух родительских комитетов; торговали лимонадом два буфета. И наступало, наконец, то мгновение, о котором давно мечтали старшеклассники. С двух сторон заколоченной двери, держа в руках ключи, в сопровождении школьных сторожей, которые несли топоры, приближались две директриссы. Отдирались с визгом доски, щёлкали ключи в ржавых замках, и двери распахивались настежь.
Секунду длилась пауза, словно порог был заговорённый, затем толпа мальчишек, подталкивая друг друга, вкатывалась в женский актовый зал, где, дрожа от нетерпения, чинно прогуливались с безразличным видом девочки…
Потом он танцевал с Наташей, и две школы знали, что он смертельно влюблён в неё…
Восьмой, девятый, десятый классы… Внезапная, непривычная пустота после аттестата зрелости. Ещё стоял школьный гул в ушах, а школы уже не было.
Потом они лихорадочно готовились к экзаменам в институт. Убористым почерком, на маленьких клочках папиросной бумаги, Миша написал ей восемьдесят шпаргалок по всем предметам. На Марсовом поле прыщавые пронырливые подростки торговали предполагаемыми темами экзаменационных сочинений. Он скупил их по пять рублей за штуку и принёс Наташе.
Ошалев от обилия возможностей, она металась, не зная, куда подавать заявление. Он робко уговаривал её идти в педагогический. Она поступила в институт холодильной промышленности.
Встречаясь с Наташей, Миша видел, что они отдаляются друг от друга. Ему казалось, что он виноват, что это происходит от его занятости, оттого, что ему всегда некогда. С детских лет он привык прощать ей так много, что ока уже и не могла его надолго обидеть. Он словно прирос к ней.
Нынче, идя к Наташе, он особенно сильно укорял себя: из-за пустой ревности они не виделись две недели. Подумаешь – положила руку на рукав Димкиной шинели!.. Миша нарочно мысленно называл малознакомого курсанта Димкой: это ставило их в те дружеские простые отношения, которые исключали подлость и конкуренцию.
Смешно же требовать от Наташи, чтобы она ни с кем не виделась. Феодализм какой-то, честное слово! Он чуть было не рассмеялся оттого, что нашёл удачный научный термин, определяющий его глупое поведение в кино. Где-то в глубине души у него пошевелилась тревога, но теперь она уже не разъедала его, он не давал ей распрямиться.
Первое, что Миша увидел, войдя в прихожую Наташиной квартиры, была чёрная курсантская шинель и морская фуражка на вешалке.
Словно тёмное, облако нависло над прихожей. Он почувствовал, будто становится ниже ростом, что-то съёжилось у него внутри. Не появись Наташа на пороге своей комнаты, он, пожалуй, удрал бы тотчас.
– Здравствуй, пропащая душа! – весело сказала Наташа.
Она была в каком-то новом красном платье, на высоких каблуках, – хотелось зажмуриться, как от яркого света, глядя на неё.
В углу комнаты, в старом разбитом кресле сидел курсант Дима. У него была странная манера, здороваясь, изо всех сил пожимать руку, как силомер в парке культуры и отдыха. Миша выдержал это крепкое рукопожатие. Наташа стояла рядом.
– А я уж спрашивал, куда ты девался, – сказал Дима.
– У него характер такой: он любит исчезать…
И оттого, что Наташа произнесла эту фразу знакомым небрежным тоном, его охватило холодное, упрямое спокойствие. Он сел на диван и уверенно заложил ногу за ногу. Никакая сила не сдвинула бы его сейчас с места. Он вдруг почувствовал, что должен сидеть здесь насмерть – это его право и обязанность.
Ожесточение, охватившее Мишу, сперва мешало ему участвовать в разговоре. Он слушал шутливую болтовню Димы, поглядывая на его простодушное подвижное лицо. Ему хотелось бы увидеть моряка Наташиными глазами. Он знал таких парней и по институту, и по школе и иногда немножко завидовал им, – их располагающей к себе лёгкости. Сейчас зависти не было.
Он вспомнил, как моряк в первый день их знакомства сказал, что любит бывать у Наташи. «У неё дом хороший. Только вот увольнительную редко дают»…
И, глядя на Диму, он думал, как же мало тому нужно от Наташи. Вот сидит он со своей увольнительной в кармане, смеётся, ему весело, знаком он с Наташей какой-нибудь месяц, не страдал, не мучился, а она смотрит на него блестящими глазами. Взять бы её за руки и сказать шёпотом: «Ведь я же люблю тебя с седьмого класса!..» Ему казалось, что, если он отыщет такие слова, которые объяснили бы ей всю силу его любви, она пошла бы за ним, не раздумывая.
Он начал внимательно вслушиваться в то, что говорил моряк; тот доплёл какую-то смешную историю, начало которой Миша пропустил, и потом сказал:
– А ты чего такой сердитый?
– Я? – удивился Миша. – На кого мне сердиться?
– Может, на меня? – пошутил Дима.
– Нет, – ответил Миша. – Просто задумался.
– Я давным-давно читала какую-то легенду, – сказала Наташа, – про человека, у которого были волшебные очки. Наденешь их – и сразу видно, что думают люди… Вот бы иметь такие стёклышки!
– Зачем? – спросил Миша. – Думать разучились бы… Самое интересное – представлять себе, какой характер у человека, чего он хочет…
– Очки всё-таки вернее, – сказал Дима. – Вранья меньше было бы.
– Плохо, если его надо выводить стёклами. Чтобы человек говорил правду, нужно ему верить, любить его…
– Ну вот, например, я тебе верю, – тряхнула головой Наташа. – Откуда же мне знать, о чём ты думаешь?
– Со мной просто. Если иметь в виду не мелкие мысли, а главную.
– И всё-таки я не знаю, о чём вы оба сейчас думаете.
– Со мной просто, – повторил Миша. – Я думаю о тебе.
Она посмотрела на курсанта; тот смутился и, чтобы скрыть смущение, рассмеялся.
– Чепуха какая-то! Даже рассказывать не о чем… Ну их к богу, эти очки!..
Он встал и прошёлся по комнате. Миша видел, что Наташа следит за движениями моряка, но это почему-то не причиняло ему боли. Он был рад, что некоторое время длилось молчание: оно словно подчёркивало значительность сказанного им. День был необыкновенно длинный: в него вошло всё, чем он жил.
Когда, уходя, они вдвоём прощались с Наташей, она вдруг сказала:
– Какие вы всё-таки разные!
– Разные – хорошие или разные – плохие? – спросил Миша.
Оглядев их обоих – курсанта, молодцевато затянутого в шинель и бывшего мальчика Мишу, – она ответила:
– Разные – разные.
Из окна её комнаты ещё долго было видно, как две знакомые фигуры шли через пустую площадь; под фонарями они становились ясными, потом расплывались и возникали уже дальше такими же чёткими, но меньше ростом.
И Наташа горестно подумала, как просто всё было в школе: казались вечными звонки на урок, классные собрания, милые подруги, всезнающие учителя; казалось, что всё это навсегда.
А Миша уже совсем не такой, как был, и обо всём ей надо думать наново.
Сердитый бригадир
1

Женя приехала в Молдавию в сорок восьмом году. Мать умерла в войну, когда Жене было пять лет. Она прожила в детском доме до тех пор, пока отец, отвоевав, не вернулся домой, в Ленинградскую область; только через полгода ему удалось разыскать дочь.
Они жили под Лугой; отец заведовал районным отделением связи, или попросту почтой. Ему было тяжело жить в том доме, где когда-то вела хозяйство молодая жена, и он просил начальство перевести его в другое место, лучше всего куда-нибудь на юг: дочь прихварывала в ленинградском климате.
Его перевели в молдавское село Р.
Село было не маленькое, дворов на полтораста; крестьяне только второй год как объединились в два колхоза: «Красный садовод» и «Ворошилов». Попадались здесь еще и единоличники; их всегда можно было узнать по заезженным клячам, впряжённым в рассыпающиеся телеги, и по упрямому, насупившемуся лицу.
В центре села на базарной площади, окружённый замшелой каменной стеной, стоял монастырь. Его колокольню было видать ещё из Тирасполя, километров за пятнадцать. На воротах монастыря висела мраморная доска с надписью, рассказывающей, что он выстроен в 1909 году по высочайшей милости царя Николая II. От этой надписи сейчас стыдливо отворачивались даже пыльные монахи в пропотелых рясах. Были года три назад в этом монастыре и молодые послушники-сироты, но настоятель, скорбя, жаловался на текучесть: накануне пострига все отроки удрали в Кишинёв, в ремесленные училища.
На этой же площади, в самом центре, против монастырских ворот висел на столбе репродуктор; он жил, как соловей. Даже столб, на котором он висел, был не столбом, а деревом: в селе Р. только год назад поставили телеграфные столбы; их вырубили в лесочке на берегу Днестра и врыли в землю; но то ли климат здесь был особенный, то ли земля благодатная – столбы стали прорастать, появились в двух – трёх местах тоненькие веточки, на них затрепетали робкие листья.
По воскресеньям над базаром в безоблачной молдавской выси происходил поединок между монастырём и репродуктором. Бой завязывался с самого утра; базар по многу раз переходил из рук в руки, и наконец монастырь сдавался, воздев свою беспомощную колокольню вверх.
На первый взгляд казалось, что все преимущества на стороне монастыря. Ему было много лет, у него был опыт старого хитреца и обманщика, он был красив, у него в этом селе были большие связи.
Начинали бой грохочущие колокола – орудия главного калибра. Перебивая и налезая друг на друга, они угрожающе и назойливо повторяли одно и то же.
И вдруг раздавался весёлый человеческий голос:
– С добрым утром, товарищи!
С этого приветливого восклицания разгоралось неравное, жестокое сражение.
Село Р. не районный центр. Газеты приходят сюда во второй половине дня из Бендер и Тирасполя. Под столбом, на котором живёт соловей-репродуктор, скапливаются люди. Гудят толстые колокола. Вступают в строй подголоски. Высокими, пронзительными голосами сплетниц они набрасываются на диктора. Люди переминаются с ноги на ногу, виновато-досадливо косясь на колокольню: виновато, ибо они не откликаются на её зов, досадливо – звон мешает им слушать, что делается в стране и на земном шаре…
Вот в это-то село и переехала двенадцатилетняя Женя из Лужского района Ленинградской области.
Она легко сходилась с людьми и быстро обжилась на новом месте. Её новые друзья не выезжали дальше Тирасполя или Бендер, а Женя много раз бывала в Ленинграде и иногда злилась на себя за то, что не может достаточно ярко рассказать о жизни большого города. Она была самой старой пионеркой в своей новой школе. По дороге в Молдавию она проезжала Москву и стояла минут пятнадцать на Комсомольской площади, против станции метро; мимо проходили люди, проносились машины, одна за другой, в несколько рядов, – их было так много, что у Жени закружилась голова.
Жила она с отцом рядом с почтой. Несложное хозяйство Женя привыкла вести давно; готовила обед на два дня и кастрюли летом на ночь опускала на верёвке в колодец, а зимой выносила в сени.
Узнав своего отца поздно, она полюбила его не только привычной любовью дочери, но ещё испытывала к нему благодарность за то, что он, наконец, нашёлся. Он тоже встретился с ней уже тогда, когда у Жени был кое-какой жизненный опыт; все годы войны, тоскуя по семье, он представлял себе дочь тем беззаботным ребёнком, с которым ему пришлось расстаться в июне сорок первого года. И отец и дочь старались вознаградить друг друга за долгие годы разлуки.
Они не произносили каких-нибудь особенно нежных слов, отношения у них были серьёзные. Может быть, даже по своему положению в семье Женя была выше отца. От неё зависел быт, хозяйство, и отец слушался её в домашних мелочах. Он отдавал дочери свою получку, оставляя себе только на папиросы. Иногда Женя подсовывала ему в карман какие-нибудь сэкономленные деньги; отец делал вид, что не замечает этого.
Когда у него изнашивались вещи, одежда или обувь, Женя шла с ним в сельпо и выбирала то, что было нужно ему и возможно по их средствам. Она заставляла его внимательно примерять ботинки, щупала рукой, не жмёт ли, и даже говорила:
– А теперь пройдись. Ну, как, хорошо? Удобно?
Иногда настойчиво просила его:
– Пожалуйста, не донашивай носки до таких дыр. Как немножко протёрлось, снимай сразу, я заштопаю.
Зимой на почте легко справлялись со своей работой, а летом, в страдную пору, приходилось туго: появлялось в селе много приезжих, привозили из Бендер огромные брезентовые мешки с письмами, чаше верещал коммутатор, – рук не хватало.
Ещё под Лугой Женя привыкла помогать отцу, и здесь, в Р., в свободное от занятий время она старалась выпросить для себя мелкие служебные поручения. Сортировать письма и стучать штемпелем по конвертам было не так уж интересно, а вот заменять телефонистку на коммутаторе Жене нравилось. Эта работа была ей по душе, и делала она её, пожалуй, не хуже, чем настоящая телефонистка, которая одновременно принимала на почте переводы и посылки.
С полу ей было не достать до штепселей, и поэтому приходилось стоять на стуле, что сперва очень смущало её, но потом она привыкла. Наушники и микрофон рассчитаны на взрослых: всё было велико для Жениной головы. Как она ни подгоняла ремешки, приборы сползали на сторону.
Жители села постепенно привыкли видеть девочку на коммутаторе. Забегая на почту, они говорили ей те слова, которые и положено говорить телефонистке, когда надо срочно получить разговор.
Иногда толпились перед барьером несколько человек и все наперебой просили разными голосами:
– Как там Бендеры: отвечают?
– Женя, будь человеком, дай мне срочно райпотребсоюз!
– Женечка, мы же вчера пармен начали снимать, мне же тара нужна!..
Бывало, что в это же время звонили из монастыря и бархатный голос настоятеля заполнял трубку:
– Не откажите в любезности соединить меня с кишенёвским собором.
Маленькие руки летали по коммутатору, как воробьи. Правая вертит ручку индуктора, левая вставляет и вынимает штепселя. Женя работала с жаром. Волнение клиентов передаётся и ей.
– Бендеры!.. Бендеры!.. Да что ты, заснула?
– Райпотребсоюз, отвечайте «Красному садоводу»!..
– Кончили? Надо совесть иметь. У людей пармен начали снимать!
– Товарищ настоятель, сейчас даю Кишинёв… Попросите, пожалуйста, чтоб у вас на колокольне потише звонили, совершенно невозможно работать…
Она знает всё, что делается в районе. Имена отличников урожая, фамилии лодырей, прогульщиков, цифры, проценты, планы – всё это проходит через её руки. Далеко не каждому в районе известно, что ей двенадцать лет. Это позволяет Жене разговаривать по телефону очень независимым тоном. Да и не только по телефону…
Бывает, что ещё с порога человек слышит пронзительный Женин голос:
– До каких пор вы будете задерживать сводки? Уже три раза из района звонили.
– Товарищ Чубаров, что ж у вас яблоки осыпаются? Неужели трудно было, как в «Ворошилове», подпорки поставить?
– Мы, Женечка, ставили, – извиняющимся тоном говорит рослый бритоголовый председатель «Красного садовода». – Ветер, понимаешь, ночью поднялся, их и осыпало.
– Сколько яблок побило! – сурово выговаривает Женя.
– Так мы ж не нарочно…
– Теперь, небось, придётся пускать всё на компот?
– На компот, на варенье, на повидло, – вздыхает Чубаров.
Женя любит и компот, и варенье, и повидло, но она говорит:
– Безобразие какое!
2
В тот год урожай винограда и яблок был необыкновенно велик. Он спутал все планы уборки: яблоки поспевали раньше срока, поздние сорта наступали на ранние, да и самое количество фруктов ошеломляло людей. Казалось, что на деревьях нет листьев: настолько они были усеяны яблоками. Гнулись подпорки, некоторые стволы раскалывались пополам от тяжести ветвей.
Всё чаще по утрам земля была усыпана «падалкой» – опавшими за ночь яблоками, – их не успевали собирать; они лежали поначалу свежие, жёлтые, краснобокие, золотистые, затем на них начинали появляться пятна, в воздухе стоял густой, дурманящий запах.
В «Красном садоводе» работали с раннего утра до поздней ночи. Всё, что положено было сдать государству, давно сдали, а деревья стояли отяжелевшие от плодов, и казалось, не будет конца уборке.
Чубаров часто звонил из правления колхоза в район и передавал сводки.
Женя хорошо знала голоса своих абонентов и даже по тону научилась распознавать их настроение. Уже дней десять подряд она слышала, как Чубаров глуховатым, севшим голосом сообщает в Бендеры столбцы цифр. Однажды после очередного звонка она спросила:
– Кончили?
Слышно было, как Чубаров вздохнул в трубку, а потом ответил:
– Кончил.
– А вы не расстраивайтесь, дядя Петя.
Чубаров помолчал, потом спросил:
– В «Ворошилове» сколько убрали?
– Восемьдесят три процента.
– Ну вот видишь, а ты говоришь, – не расстраиваться. Мы ещё до семидесяти не дотянули.
– У вас же народу меньше, – попробовала успокоить его Женя.
– Старая песенка, – сварливо сказал Чубаров, словно не он был председателем колхоза, а Женя.
– Что же теперь делать? – спросила Женя.
– Главное, чтоб ветра не было… А ты, собственно, кто такая, чтоб у меня отчёт спрашивать?
Женя не поняла, шутит он или говорит серьёзно. Она обиделась:
– Я вам всегда Бендеры вне всякой очереди даю. Мне вас нисколько не жалко. Мне яблок жалко.
– Для тебя, племянница, на всю зиму хватит, – уныло пошутил Чубаров. – Приходи завтра в кладовую, угощу.
– Очень нужно! Как будто я для себя! В «Ворошилове» вон восемьдесят три убрали, а у вас до семидесяти никак не дотянут.
– Ну, это, знаешь, не твоё дело! – рассердился вдруг всерьёз Чубаров. – Каждая девчонка будет указывать!.. Давай мне ещё раз Бендеры!
Он услышал, как что-то зашуршало и защёлкало в трубке, а затем тоненький Женин голос сказал:
– Бендеры!.. Бендеры!.. Тоня, дай первого секретаря райкома товарища Глущенко…
– Ты что делаешь? – испуганно спросил Чубаров. – Мне Глущенко не надо, мне исполком надо…
Но в трубке снова защёлкало, и послышался далёкий голос бендерской телефонистки:
– Товарищ Глущенко? Вас вызывает «Красный садовод».
– Привет, Николай Михайлович, – сразу вспотев, сказал Чубаров.
– Здравствуйте. Давненько не звонили. И всё не поймать вас, товарищ Чубаров.
– Да я, Николай Михайлович, на месте не сижу. Бегать приходится высунув язык.
– А вы не высовывайте, – посоветовал Глущенко. – Без этого легче. Как у вас дела?
– Помаленьку движутся. С государством рассчитались…
– А посвежей сведения есть? – спросил секретарь.
Чубаров секунду помолчал, стискивая трубку в руке:
– Плохо дело, товарищ секретарь. Не управляемся с уборкой.
– Это я тоже слышал.
– Народу у нас маловато. А уродилось, сами знаете, сколько.
– Интересно, – сказал Глущенко. – Получается, товарищ Чубаров, что плохой урожай вам больше подходит, чем хороший?
Чубаров молчал. И вдруг вместо его хрипловатого голоса Глущенко услышал тоненький голосок телефонистки:
– Можно в воскресенье субботник устроить.
– Это кто предлагает? – спросил секретарь.
– Я предлагаю. С коммутатора. И не обязательно только в воскресенье. Сейчас вон какие длинные дни: можно двадцать раз успеть уроки сделать.
– Какие уроки? – не понял секретарь.
– Странно! – сказала Женя. – Какие бывают уроки? По арифметике, по письму, чтению…
– Николай Михайлович, – вмешался в разговор Чубаров. – Это почтаря дочка. Она у нас в школе учится.
– В каком классе?
– В будущем году перехожу в пятый, – быстро сказала Женя, боясь, как бы Чубаров не ответил, что она сейчас учится в четвёртом. – У них в «Красном садоводе» тары хватает: во второй бригаде тысячу двести ящиков позавчера под яблоки и груши привезли, а первая бригада может пока в ушатки складывать…
– А виноград как? – спросил Чубаров не то секретаря, не то Женю.
– Виноград может подождать, – ответила Женя. – Растрёпу вы уже сняли, а европейские сорта могут повисеть.
– Что скажете, товарищ Чубаров? – спросил Глущенко.
– Цифры она говорит правильные, – ответил Чубаров. – А насчёт винограда недопонимает. Европейские сорта должны всю зиму лежать, их надо снимать не совсем поспевшими…
– Я не об этом говорю, – перебил его секретарь. – Могут вам школьники реально помочь?
– Конечно, могут! – крикнула в трубку Женя. – Дядя Петя, у вас же вчера лимонный кальвиль извели на сухофрукты!
– Не трещи, – попросил её Чубаров. – Без тебя знаем!
Он сказал секретарю, что сегодня же созовёт правление артели, а Глущенко пообещал к вечеру приехать в село и зайти в школу.
3
Женя поднялась в этот день до света. Она долго ворочалась, поглядывая на окно – в то место, где должен был появиться просвет между занавеской и рамой. Оттуда, из окна, доносились изредка ночные звуки: вздыхала корова, привязанная на ночь во дворе; гремела цепью собака, и по звону цепи можно было догадаться, что собака чешется; повизгивал беспокойный поросёнок, и сразу вслед за этим раздавалось строгое хрюканье свиньи: она как будто уговаривала его спать; он затихал, а потом снова начинал возиться.