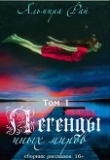Текст книги "Сердитый бригадир"
Автор книги: Израиль Меттер
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Израиль Моисеевич Меттер
Сердитый бригадир


Очки

Никогда нельзя было заранее сказать, что именно взбредёт Сёмке в его дурацкую башку. У него был мерзкий характер: он очень любил выпячивать своё «я». Вероятно, он чувствовал свою незаменимость, и от этого в Сёмке развилось такое самомнение, что весь наш коллектив ничего не мог с ним поделать.
Я-то лично всегда говорил, что нужно поменьше вокруг него танцевать, но старший мастер, Павел Герасимович, авторитетно грозился:
– За Сёмку, ребята, вы мне отвечаете головой!
И приводил цифры, во сколько Сёмка обошёлся училищу. Но я его всё равно буквально не переваривал. Особенно после того, как он покалечил Тузика. Если бы меня тогда ребята не удержали, я бы этого Сёмку измолотил. Они меня оттащили на озеро и стали поливать водой; у меня зубы скрипели, говорят, я на психического был похож. Потом мне уж ребята рассказывали, что Павел Герасимович велел за мной следить: он боялся, что я Сёмке в рацион нам чаю толчёного стекла.
Тузика мы выходили, нам девочки помогли из группы овощеводов, но только он до сих пор волочит заднюю правую ногу. И это бы ещё ничего, – бывают и люди инвалиды, – но главное – он стал какой-то пуганый. Раньше у него хвост был бубликом, а сейчас всегда поджатый, и на это больно смотреть. Ходит такой печальный, голову свесит до земли и всё озирается, вздрагивает. Он раньше во сне всегда рычал, потому что щенкам снятся взрослые сны, а пожилым собакам, наоборот, видится детство, поэтому они во сне повизгивают. А теперь у него в голове всё спуталось…
Я не очень-то люблю, когда собака лижет руки хозяина. Мне кажется, что это её немножко унижает. Поскольку собака – друг человека, то друг не может быть рабом. Пёс должен слушаться человека, как старшего товарища. Тузика мы так и воспитывали. Он у нас был добрый, но гордый и обидчивый. А после истории с Сёмкой у Тузика в душе что-то поломалось. Он стал жить так, как будто его окружали враги. И хвост он опускал для того, чтобы показать, что он навсегда сдался.
Некоторые ребята совершенно махнули на него рукой. Володя Сатюков, из группы животноводов, сказал:
– Самое противное – смотреть на чужое унижение.
Он даже предложил продать Тузика в медицинский институт для опытов. Потом, когда нас уже разняли, Володька утёр расквашенную губу и признался:
– Насчёт продажи я, конечно, хватил… А даром его вполне можно отдать.
Он вообще-то парень не злой, Володька, но только ему кажется, что если животное не доится или не даёт шерсти, то его можно пускать на мыло.
Мы с ним сколько раз спорили. Я говорю:
– Как же ты собираешься обращаться с животными, если ты их не любишь?
– Целоваться, во всяком случае, не собираюсь, – говорит Володька. – Моё дело – взять от коровы побольше молока.
– А как она не даст?
– Не даст молока, возьму котлеты, – смеётся Володька.
Он вообще у нас на скотном дворе старается всё делать исключительно по-научному. И ласки принципиально не признаёт.
– Это всё сопли, – говорит Володя Сатюков.
Но он однажды здорово сел в лужу.
От Туфельки Валя Катышева всегда таскала по три ведра в день, а Володька в свою смену стал приносить по полведра, и то не каждый раз.
Павел Герасимович вызвал их двоих, спрашивает:
– В чём дело, Сатюков?
– Моя точка зрения, – отвечает Володя, – что у неё недостаточно массированное вымя.
– А вы как располагаете, Катышева? – спрашивает Павел Герасимович.
Валя Катышева у нас шепелявит. Она поэтому разговаривает осторожно, выбирая такие слова, чтобы там не было буквы «ш». Валя говорит:
– Вот новости! Туфелька давно раздоена.
– В чём же тогда суть? – спрашивает Павел Герасимович. Валя вся покраснела и говорит:
– Без песен она молоко зажимает.
Володька, конечно, разбушевался и даже стал обзывать Валю, но Павел Герасимович остановил его и говорит:
– Между прочим, Сатюков, такие случаи на практике бывают.
Они пошли в коровник, Валя взяла подойник со скамейкой, протягивает Володе.
Он пристроился, набрал в руку вазелина, стал массировать вымя. Корова стоит спокойно, хвостом бьёт мух. У Володьки аж пот выступил на лбу. Начинает доить… Пустой номер. Нету молока. Начисто.
– Картина ясная, – сказал Павел Герасимович. – Теперь вы, Катышева.
Садится Валя на скамейку, чешет корове бок, чтобы она успокоилась, и тихонько затягивает:
Гори, гори, моя звезда!
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда!..
Корова перестала бить мух, повернула голову на голос, слушает. Володька Сатюков крутит носом.
А Валя поёт.
– Почём билеты в оперу? – спрашивает Володька.
Тут она как взялась за вымя, молоко как ударит в подойник – и пошло, и пошло… Павел Герасимович тут же авторитетно сказал:
– Вот, Сатюков, что значит индивидуальный подход к живому организму. Такую же картину мы имеем с Сёмкой. Белов, Константин, попрошу тебя снять очки.
Я снял свои очки, понимая, что мы сейчас пойдём мимо Сёмки. Дело в том, что он ненавидит очки. От них он становится как припадочный. Сёмке три раза в жизни вставляли кольцо в ноздри. И все три раза это делал наш кузнец в очках. С тех пор у Сёмки в голове буквально всё мутилось, когда он видел очки.
Вообще-то у нас в училище из-за него было уже много неприятностей. Но Павел Герасимович очень ценил его за породу. После того как Сёмка поднял на рога очкастого заведующего чайной и закинул его за дрова, стоял вопрос о переводе Сёмки в другой район. Но Павел Герасимович повсюду ездил и доказывал:
– В крайнем случае выгоднее перевести завчайной, чем племенного быка.
В конце концов и сам пострадавший забрал свою жалобу: училище заплатило ему за порванный пиджак, а суда он боялся: были свидетели, что Сёмка поднял его, когда завчайной лежал нетрезвым на территории нашей усадьбы.
Сейчас, когда мы проходили мимо Сёмкиного стойла, он положил свою короткую, грузную морду на перекладину и зло переминался с ноги на ногу. Чёрная шерсть на его гладком каменном туловище лоснилась. Я-то лично не уважаю такую тупую силу, восхищаться тут особенно нечем. Не велика заслуга покалечить нашего доброго Тузика. Сила есть – ума не надо. Но Павел Герасимович, наверное, придерживался другого мнения. Он сказал, проходя мимо Сёмки:
– Красавец!
– Сёмка стрельнул в него маленькими бешеными глазками и промычал: «Поговори, поговори у меня!..»
Мы все с благодарностью посмотрели на толстую цепь, которая, свисая из кольца в бычьем носу, обматывала его переднюю ногу.
Не думал я, что в тот же вечер мне придётся встретиться с Сёмкой на воле.
Пошли мы с Володей Сатюковым накосить клевера для молодняка. Сперва было здорово жарко, а потом солнце стало униматься. В наших северных местах земля остывает быстро, особенно в низинах: туда раньше всего заползает холод и гонит с земли пар, туман. Косили мы и а взгорье, на холме. А холм спускался к маленькому озерку. Берега у него были тряские, топкие: станешь на траву и трясёшься, как на пружинном матраце.
Клеверу на холме было не так чтоб много: только полакомиться телятам. Над ним гудели и ныли пчёлы. Мы лежали на скошенной траве. Рядом на кусте висела густая паутина. Она была выткана в форме правильного многоугольника, словно паук решал трудную геометрическую задачу. Я сказал об этом Володе. Он удивлённо на меня посмотрел:
– Неужели ты можешь думать о такой чепухе?
Володя попал в моё самое больное место: я действительно часто замечал, что думаю о разной ерунде. Мне уже давно хотелось научиться думать на серьёзные темы. И, главное, уметь высказывать свои мысли. На наших комсомольских собраниях это просто была мука: я совершенно не умел выступать. Иногда ещё у меня получалось, когда я разозлюсь, когда с кем-нибудь несогласен. А если человек говорит правильно, то добавить я уже ничего не мог и только жалел, что это не я догадался сказать.
Сейчас, лёжа на скошенном клевере, я искренне пожаловался Володе на этот свой недостаток. Мы не были близкими товарищами, но недавно я расшиб ему губу из-за Тузика, и теперь мне невольно захотелось показать, что нисколько на него не сержусь. Выслушав меня, Володя сдвинул брови домиком и сказал:
– Ты знаешь, это странно. По-моему, на собрании гораздо легче говорить, если ты согласен с предыдущим оратором.
– Почему? – спросил я.
– Потому что ты развиваешь и продолжаешь его правильные мысли. Представь себе, я делаю доклад по какому-нибудь вопросу. Ведь я же готовлюсь, читаю литературу, советуюсь со старшими… А ты вышел и рубишь с кондачка!
Я начал было ему возражать, но у него вдруг сделались круглые глаза: он смотрел поверх моей головы.
– Здрасьте, пожалуйста! – перебил меня Володя и поднялся с травы.
Я обернулся, перекатившись через спину.
К нам шёл Сёмка.
– Сними очки, – быстро сказал Володя.
Теперь Сёмка был совсем близко. Мы видели, что из ноздрей у него медленно каплет наземь кровь: очевидно, он вырвал кольцо из носу и удрал. На ходу он тряс головой, не замечая нас.
– Пожалуй, пройдёт мимо, – сказал Володя.
Сёмка огибал холм ниже того места, где мы косили. Боль и злость гнали его куда глаза глядят.
– Вот чёрт! – выругался Володя. – Ведь он же сейчас утонет в трясине…
Сперва мы заметались на одном месте, не зная, как помочь беде, а потом бросились к быку.
– Сёмка! Сёмка! Сёмка! – кричали мы на бегу.
Он даже не обернулся. До топи оставалось метров сто. Мы догнали быка, забежали с двух сторон вперёд и фальшиво-ласковыми голосами попытались его задержать:
– Сёмочка, Сёма!..
Он пошёл на нас, как танк. Мы брызнули врассыпную. Судя по тому, что у Володи лицо было испуганное, я, вероятно, тоже представлял собой неважную картину.
– Надо бежать за помощью, – торопливо сказал Володя.
– Но кто-нибудь из нас должен остаться и задержать его, – сказал я.
– Само собой разумеется, – сказал Володя. – Я мигом домчусь…
И вот я остался с Сёмкой.
Пока мы рассуждали, он ушёл ещё метров на шестьдесят вперёд. Я хорошо знал берег этого подлого озерка: стоило Сёмке пройти мимо одинокой сосны, как в десяти шагах он провалился бы.
И тут я вспомнил про свои очки. Нацепив их на бегу дрожащими руками, я отчаянно заорал:
– Стой, Семён! – и оказался перед самым его окровавленным носом.
Он поднял голову.

Мне и сейчас ещё становится жутко, когда я вспоминаю его морду. Увидев мои очки, он так рассвирепел, что мне показалось, будто у него из ноздрей повалил пар. Всё это продолжалось одно мгновенье. В следующую секунду я уже мчался прочь, слыша за собой тяжёлый топот и сопенье Сёмки.
Я не знаю, что должен чувствовать человек, находясь в смертельной опасности. Я лично ничего не соображал и не чувствовал. И кажется, я что-то кричал от страха, но слов не помню.
Он меня уже настиг, ткнувшись носом в мою развевающуюся гимнастёрку, но тут я увидел сосну и метнулся за неё. Сёмка тяжело проскочил мимо и тотчас остановился. Задыхаясь, я взобрался на дерево. Это была молодая, совсем не толстая сосна, а сучья у неё были и подавно тонкие. Мне бы в жизни на неё не взобраться, если бы не ужас, который меня гнал наверх, к небу.
Услышав треск ломающихся подо мной сучьев, Сёмка повернул своё бронебойное туловище, увидел меня и заревел от ярости. Сосна задребезжала от его рёва.
Он подбежал к дереву, остановился, забил копытом оземь и, наклонив голову, ударил своим каменным лбом по стволу.

Меня сильно тряхнуло. Исцарапав себе лицо, живот и руки, я прилип к сосне и чудом удержался… Невесёлое это дело – висеть в метре над такой тупой, злобной скотиной, как Сёмка!
Но всё это ещё пустяки, самое худшее было впереди.
Минут через десять ему надоело бушевать подо мной, и он пошёл прочь.
Сперва я было обрадовался, слез с дерева, стал обтирать кровь со своих саднящих царапин. Однако, посмотрев вслед удаляющемуся Сёмке, я чуть не заплакал: он снова пёрся к болоту!
Ох, как я его ненавидел!.. Но что же мне было поделать, когда я знал, что училище заплатило за него такие громадные деньги.
Побежав за ним следом, я стал швырять в него палки и камни. Я обзывал его такими словами, что, наверное, если бы наши девочки их услышали, никто бы из них не стал со мной дружить.
А Сёмка всё шёл и шёл к трясине.
Тогда мне пришлось снова забежать вперёд и показаться ему в своих очках. И опять я летел, не чувствуя под собой земли, а эта дрянь топотала за моей спиной своими ножищами, мечтая достать меня и разнести в клочья.
Не знаю, сколько времени всё продолжалось и сколько раз я удирал от него, взбираясь то на одно дерево, то на другое. Теперь-то я могу сознаться, что даже плакал: от злости, от усталости и от страха. Когда прибежал Павел Герасимович с нашими мастерами и рабочими, мы оба уже устали – и Сёмка под сосной, и я на сосне.
Его довольно легко увели, обмотав цепью рога. А я сказал, что должен полежать на траве и отдохнуть. Мне стыдно было являться в училище в таком растерзанном виде.
Назавтра у нас было общее собрание. Обо мне говорили, что я поступил, как настоящий комсомолец.
Володя Сатюков тоже выступал. Он присоединился к предыдущим ораторам.
Первый урок
1

Он пришёл как-то в субботу вечером к Наташе и встретил её во дворе: она шла под руку с высоким стройным моряком. Они чему-то смеялись, когда поравнялись с Мишей.
– А это мой друг детства, Мишка Новожилов, – представила его Наташа.
– Дима Пахомов, – протянул руку моряк.
Что-то привычно кольнуло Мишу в сердце, но он так давно и так часто испытывал муки ревности, что стыдился и умел подавлять их.
– Мы налево, а тебе куда? – нетерпеливо спросила Наташа, когда они втроём дошли до ближайшего угла.
– Пожалуй, я тоже пойду налево, – сказал Миша.

Он шёл рядом молча. Моряк рассказывал о том, как в прошлое воскресенье чуть было не выиграл в училище гонку на швертботе. Наташа всё время смеялась и таким странным ненатуральным смехом, что Миша несколько раз покосился на неё.
«Что это она? – удивлялся он. – Ничего ведь смешного в этом рассказе нет…»
В одном месте он не понял морских терминов и спросил Диму, что значит «оверштаг». Тот начал было охотно объяснять, но Наташа перебила его и сама закончила объяснение таким тоном, словно Миша спросил нечто в высшей степени элементарное, что уже граничит с неприличием.
Ему тоже захотелось рассказать что-нибудь интересное, и, воспользовавшись паузой, он рассказал, как вчера была его очередь в общежитии готовить на всю комнату обед, а он положил макароны в холодную воду и они совершенно раскисли. Ребята страшно ругались, только студент-румын, который живёт с ними в одной комнате, вежливо хвалил, радуясь, что ему хватило для этого русских слов.
Миша отлично помнил, как всё это было смешно вчера и с какой благодарностью он смотрел на румына, но сейчас, рассказывая, он никак не мог добраться до конца и тоже смеялся ненатуральным смехом.
Моряк слушал внимательно, но глаза его были похожи на глаза врача из студенческой поликлиники, того самого врача, который считал, что студента нельзя оставлять наедине с градусником.
Очевидно, желая выручить Мишу, Наташа, не дожидаясь конца рассказа, погладила его вдруг по голове и сказала:
– А наш Миша совершенно не умеет рассказывать анекдоты.
– Это не анекдот, – смутился Миша. – И я их никогда не рассказываю, потому что не запоминаю.
В фойе кинотеатра, куда они попали в тот вечер, Миша ходил по одну сторону Наташи, а Дима по другую. В большом стенном зеркале было видно, какая она красивая и какой крепкий, статный блондин этот моряк. Поглядев на себя в зеркало, Миша тоже выпрямился и снял с головы мятую кепку. Он подумал, что со следующей стипендии надо будет непременно купить новый галстук.
Они втроём подошли к стойке буфета, и Дима взял из вазы три большие шоколадные конфеты. Миша полез в задний карман брюк, где лежали деньги их студенческой коммуны, и, на ощупь выбрав бумажку в двадцать пять рублей, потянул её, положил на стойку перед буфетчицей и попросил три плитки дорожного шоколада. Моряк купил ещё мороженого, а Миша – две бутылки лимонада.
Потом они сидели рядом в тёмном зале, и Миша сбоку увидел, как Наташа положила свою руку на рукав курсантской шинели моряка. Плитка шоколада стала мягкой и тёплой в Мишиной ладони. На экране кто-то сперва ходил по комнате, потом откуда-то взялся поезд, затем прошло стадо коров, всё было несвязано; ему захотелось встать и незаметно уйти – так захотелось, что уже на мгновение показалось, будто он, пригнувшись, идёт по проходу, – но вместо этого он досмотрел картину и отвёз на такси сперва Наташу, а затем и моряка.
Когда Наташа выходила из машины, Дима крикнул ей вдогонку:
– Бабке передавай привет!..
Она помахала рукой и исчезла в подворотне.
«Вот уже и бабушке кланяется», – с горечью подумал Миша.
Машина отъехала, моряк уселся поудобнее и спросил:
– А ты в общежитии живёшь или дома?
– В общежитии.
Мише стало полегче оттого, что курсант обратился к нему на «ты».
– Я вообще дома никогда не жил, – сказал Дима. Он, очевидно, хотел добавить что-то ещё, но вдруг пристально посмотрел на Мишу и спросил: – А ты чего деньгами бросаешься? У тебя батька есть?
– Нет.
– А мать?
– Тоже нету.
Курсант дотронулся до плеча шофёра и сказал:
– Останавливайте. Мы приехали…
Миша думал, что они действительно подъехали к училищу, но, когда вылез, увидел, что машина затормозила у моста. Курсант хотел расплатиться, но Миша опередил его.
– Передо мной-то чего щеголять? – спокойно сказал курсант, пряча деньги в карман.
– Никто и не щеголяет, – обиделся Миша.
Они пошли через мост. В сущности, ему не нужно было идти этой дорогой, но, идя рядом с Димой, он словно не расставался ещё с Наташей. Ему хотелось, чтобы Дима заговорил о ней, и хотя, возможно, из этого разговора выяснились бы какие-нибудь болезненные для Миши подробности, всё-таки это было бы яснее и лучше, чем так…
– Дело хозяйское, – примирительно сказал курсант. – Ты в каком институте?
– В педагогическом.
– Это надо нервы иметь, – сказал Дима. – У нас в детдоме была одна учительница, я ей до сих пор пишу… И как только у неё сердца на всех хватало!.. Я так считаю: учитель и врач – это самые человеческие профессии. Я бы им столько платил, чтобы никто столько не получал… Но уж и спрашивал бы с них!.. Если человек по своей совести не подходит для этой профессии, он может много народа покалечить на всю жизнь…
– Дело не только в совести, – сказал Миша. – Дело ещё в способностях, в призвании…
– Как тебе сказать? – остановился Дима. – Тут главную роль играет натура человека. С плохой натурой, будь она трижды способной, а лучше не лезть в доктора или в педагоги. Вообще, я тебе скажу, я по комсомольской работе знаю: разбирают чьё-нибудь дело, а оно не укладывается в протокол. И так сформулируешь и этак, а точнее всего было бы записать: «Дрянной парень. Натура дрянь. Характер паршивый»…
– Это тоже не точно, – сказал Миша. – Нужно знать, какая именно черта характера плохая. Нечестный человек – это одно, плохой товарищ – другое, худо относится к девушкам – третье…
– Ты Наташу давно знаешь? – быстро спросил Дима.
– С седьмого класса.
– А я недавно… У неё дом хороший…
– То есть как дом? – спросил Миша.
– Ну, семья… Я у них люблю бывать… Только вот увольнительную редко дают… Ну, я пришёл. Будь здоров.
Он изо всех сил пожал Мишину руку, улыбнулся и вошёл в здание училища…
По дороге к общежитию Миша Новожилов старался вспоминать о Наташе только плохое. Шагая по вечернему городу, он упрямо вспоминал, не давая себе опомниться, словно заучивал наизусть, всё то, что ему в ней не нравилось. К этому усилию над самим собой он привык уже давно.
«Легкомысленная, легкомысленная»… – настойчиво повторял он про себя, делая большие шаги и не глядя по сторонам, чтобы не отвлекаться. – Учится неважно… Грубая… Петь не умеет, слуха нет. В волейбол плохо играет…»
Стараясь вызвать в себе раздражение против неё, он уже думал всякую чепуху, понимал, что всё это чепуха, но защищался ею как попало. И когда казалось уже, что воздвигнута высокая толстая стена из недостатков Наташи, эта стена стала вдруг прозрачной и уплыла, как театральный занавес, куда-то вверх, а за ними появилась живая, необыкновенно ослепительная Наташа.
И тогда сам Миша представился себе жалким и несчастным. Шли вокруг, навстречу и рядом, прохожие, они были все подряд счастливые, и Нева была счастливая, а он один шёл нелюбимый и заброшенный.
Когда он пришёл домой, в комнате все спали, кроме румына; тот сидел за столом в майке, вокруг него лежали конверты и бумага.
– Пишу невесте, – шёпотом сказал румын. – Про макароны пишу…
Он тихо засмеялся. Миша молча быстро укладывался спать; румын спросил:
– А у тебя невеста есть?
– Есть.
– Скоро женишься?
– Не знаю.
– Как не знаешь? – удивился румын. – Ты любишь, она любит…
– Я люблю, она не любит, – ответил Миша, и ему стало страшно оттого, что он это произнёс.
Румын положил перо на стол, сделал большие глаза, наморщил лоб, как бывало с ним на трудной лекции, и сказал:
– Не понимаю. Объясни, Миша…
– Завтра. Спать хочется, – ответил Миша и накрылся одеялом с головой, чтобы не мешал свет и чтобы можно было думать в одиночестве.
Румын ещё посидел немножко, полистал словарь и написал невесте, что русский язык очень сложный и смысл самых простых фраз иногда ускользает от него, несмотря на то, что каждое слово в отдельности совершенно понятно.
2
Недели две он не ходил к Наташе и не звонил ей.
Было очень трудно миновать будку телефона-автомата, стоявшую в длинном институтском коридоре. Несколько раз за это время он входил в неё – здесь пронзительно пахло духами: в пединституте училось много девушек, – набирал Наташин номер и, когда она откликалась, зажимал микрофон в кулаке и слушал её голос, раздражённый его молчанием.
К счастью, подоспела в это время горячая пора студенческой практики. Для Миши она была особенно волнующей: его группа проводила практику в той самой школе, которую он три года назад закончил.
В седьмом «Д» классе мгновенно разнёсся слух, что один из уроков по математике будет давать Миша Новожилов, бывший ученик их школы.
Его очередь пришла не сразу. И покуда он вместе со своей группой студентов сидел в классе на задних партах (это называлось «пассивной практикой») и слушал урок, проводимый кем-нибудь из однокурсников, всё казалось ему несложным. Он легко улавливал промахи товарищей и даже порой удивлялся тому, что друзья не могут их избежать. Казалось бы, столько времени было потрачено на составление конспекта урока, подбор примеров и задач, столько раз всё это обсуждалось и согласовывалось с методистом, со школьным учителем, а вот поди ж ты, выходит девушка к преподавательскому столику, раскрывает классный журнал, и лицо её покрывается кирпичными пятнами, глаза становятся паническими и голос неузнаваемым.
К своему первому уроку он готовился тщательно. Всё было предусмотрено, даже возможный шум в классе и то, каким уничтожающим замечанием следует его унять.
В это утро он поднялся раньше, чем обычно, начистил в умывалке общежития туфли, аккуратнее, чем всегда, повязал галстук, пришил в две нитки болтающуюся на пиджаке пуговицу, вставил в карман авторучку и толстый красный карандаш. Брюки были выглажены за ночь под матрацем. В умывалке же он сперва сильно намочил волосы и зачесал их на косой пробор, но потом, решив, что с сегодняшнего дня начинается новая жизнь, переменил причёску и причесал волосы наверх.
Вспомнилась несколько раз за утро Наташа. Ничего огорчительного в этих воспоминаниях, к его удивлению, не было. Если бы под рукой был телефон, то в нынешнем состоянии духа Миша вполне мог бы ей позвонить как ни в чём не бывало.
Он уложил в портфель всё, что требовалось, а требовалось очень немногое – тоненький задачник, учебник и тетрадь, где был записан конспект урока. Портфель выглядел совсем пустым, и Миша сунул в него для виду толстый учебник психологии.
Он совсем не волновался. Вместо волнения его охватило чувство какой-то праздничности.
Стоя на площадке мчащегося трамвая, он словно принимал парад. Всё, что проносилось сейчас мимо, имело отношение к тому, что нынче он даст свой первый урок. Бежали через улицу школьники. Шли по тротуарам родители… На проводах над мостовой висели дорожные знаки: равносторонние треугольники, круги, прямоугольники; казалось, город приветствовал его, будущего учителя математики, развесив, как знамёна, геометрические фигуры…
В школьном гардеробе он разделся в том отделении, где полагалось раздеваться преподавателям. Рядом шумели ученики. Миша нахмурился. Ему не нравилось, что они шумят. Он не понимал, почему нужно так бурно сдавать свои курточки и пальто. Десять лет подряд всё это представлялось ему совершенно обыденным и необходимым, а нынче, в одно утро, он сразу перестал понимать это.
Проходя по коридору, где помещались десятые классы, Миша заметил, как двое старшеклассников курили в форточку. Смутившись, он хотел сделать вид, что не замечает их, но один из них, очевидно, нарочно громко сказал:
– Это Мишка Новожилов. Практикант. Ему сегодня в седьмом «Д» дадут жизни…
Он замедлил на секунду шаг, хотел придумать, что сказать им в ответ, но, не найдясь, быстро пошёл вперёд.
«Вот был бы на моём месте Макаренко!» – пронеслось у него в голове.
Настроение стало уже не таким праздничным, каким было с утра. Сворачивая на лестницу, он заметил в глухом конце коридора двух девочек-старшеклассниц: они о чём-то шептались и хихикали, глядя на него.
«Наверное, тоже обо мне, – огорчаясь, решил Миша. – Нет, лучше проходить практику в чужой школе»…
Подойдя к учительской, он приоткрыл дверь, спросил: «Разрешите?» – и тотчас же подумал, что сейчас уже можно этого не делать. За большим столом сидела худенькая седая учительница немецкого языка, Вера Евграфовна, и исправляла ученические тетради. Время было раннее, до звонка на первый урок оставалось с полчаса.
– Здравствуйте, Миша Новожилов, – сказала Вера Евграфовна, не подымая головы. – Ужасная морока с этими тетрадями!
Она подняла на мгновение маленькое аккуратное личико и быстро, но внимательно оглядела своего бывшего ученика.
– Волнуетесь?
И сразу же, не давая ему ответить, тихонько засмеялась.
– Ну-ну, так я вам и поверила!
Миша вспомнил вдруг, как несколько лет назад – кажется, в седьмом классе – Вера Евграфовна не могла попасть на свой урок, потому что он запер дверь класса на замок изнутри. Она стучалась, ребята, зажав руками рты, притихли и не отпирали. Потом пришёл завуч со слесарем. Потом было классное собрание. Потом он бегал смотреть в щёлку учительской, как Вера Евграфовна пила валерьянку…
И сейчас, через столько лет, душа его вдруг заныла от жалости к этой худенькой старушке, на уроках которой играли в военно-морской бой и очень громко и глупо острили… Ему захотелось сказать ей сейчас, что это он тогда запер дверь класса и, как ему казалось тогда, что это очень остроумно придумано, а сейчас ему стыдно и он боится, как бы ученики не поступили с ним точно так же. И оттого, что он представил себе орущий класс, бессмысленно разинутые рты и себя стоящим у преподавательского столика, у него тоненько задрожало что-то внутри и уже не переставало дрожать и биться до самого звонка.
Комната постепенно заполнялась учителями. Миша сел в угол у радиатора. Учителя разбирали из шкафчика классные журналы, делали в них пометки, разговаривали; увидев Мишу, они приветливо улыбались, говорили ему торопливо-ласковые слова. Он каждый раз при этом вскакивал и вытягивался.
До него доносилось всё издалека, но обострённый волнением слух улавливал каждое слово. Кто-то рассказал у стола, что долго не мог попасть в троллейбус, кому-то в воскресенье посчастливилось: были найдены первые подснежники; толстый учитель географии громко объявил:
– Товарищи, имейте в виду: в аптеке рядом появился боржом.
И Миша удивился, что они могут говорить о таких пустяках.
Минут за десять до звонка пришли, наконец, Мая Петровна, методист пединститута, и Николай Павлович – школьный учитель.
– Вот и молодец, Миша, что сидите здесь, – сказал Николай Павлович. – Привыкайте! А ваши студенты бродят по коридору и боятся сюда заглянуть. – Он потрепал его по плечу. – Всё будет отлично, только не старайтесь быть чрезмерно серьёзным…
– Главное, Новожилов, не идите на поводу у класса, – сказала Мая Петровна.
– Вот сколько лет преподаю, – развёл руками Николай Павлович, – а никак не могу привыкнуть к правильной методической терминологии. Как это у вас, Мая Петровна, называется, когда учитель входит в класс и говорит: «Здравствуйте, дети!».
– Организующий момент.
– Вот-вот… Я в прошлом году временно совмещал в двести тринадцатой школе, и там, знаете, получил восьмые классы. Прихожу в первый раз на урок, открываю дверь, здороваюсь, а в ответ несётся вопль: «А-а-а!» Они, оказывается, условились каждого нового преподавателя встречать таким звериным криком…
– Ну, и что из этого следует? – сухо спросила Мая Петровна.
Она укоризненно показала глазами на Мишу, давая Николаю Павловичу понять, что подобные рассказы при начинающем педагоге неприличны.
В это время длинно зазвонил звонок и Миша не услышал, что́ ответил Николай Павлович.
В коридоре к ним присоединились Мишины однокурсницы. Седьмой «Д» помещался ниже этажом. Когда спускались по лестнице, Миша попросил Тоню Куликову:
– Минут за десять до звонка ты, пожалуйста, потрогай себя за ухо, а то у меня часов нету… Надо успеть на дом задать…
Тоня закивала головой и, как всегда, быстро-быстро заговорила, но Миша уже не слушал её. Последний раз у него мелькнули фразы из подробного конспекта: «Тема урока… Цель урока»… «Здравствуйте, ребята»… «Что и требовалось доказать».
Мелькнул в памяти аккуратно вычерченный им план расстановки парт в классе: «Первая колонка у окна», «вторая колонка», «третья колонка у двери».
Процессия уже входила в класс. Студентки и методист Мая Петровна пошли налево к пустым задним партам, а Миша двинулся вслед за Николаем Павловичем к столику.
Николай Павлович представил ученикам Михаила Кузьмича Новожилова и сел рядом с Маей Петровной.
С «организующим моментом» получилось нелепо: учитель уже поздоровался с классом, и здороваться вторично было бы глупо.
Когда Миша начал говорить, ему показалось, что он снова обрёл спокойствие. Единственное, что его удивляло, – в классе как-то странно не было видно отдельных лиц учеников, они сливались воедино, как на групповой фотографии, словно не хватало времени отпечатать в сознании хотя бы одного из них. Да ещё удивительно было слышать со стороны свой голос: назидательно-ровный, лишённый привычных интонаций, точно Миша подражал кому-то.
«Всё-таки нельзя так, надо на кого-нибудь смотреть», – быстро подумал Миша. – Я, кажется, начинаю терять связь с классом…»
Усилием воли он заставил себя отыскать глазами в первой колонке у окна, на второй парте слева, Веру Соболеву. Секунду он смотрел на выражение её лица; она почему-то улыбнулась ему, он смутился, отыскал третью колонку у двери, нашарил Андрея Криницына и, впившись в него, говорил минут пять, утомив этим и Криницына и себя.