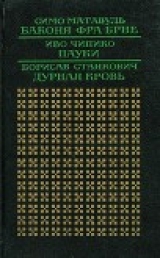
Текст книги "Пауки"
Автор книги: Иво Чипико
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Отец купил Цвете монисто, причем за продырявленные плеты платил газде Йово полноценными, а пошло их на монисто ровно две сотни.
Однажды Радивой сказал Цвете, что на девичий семик уведет ее из коло.
– Давно пора, с тех пор как умерла мать, у нас как в хлеву: некому держать дом в чистоте, мужчин обстирать. Я и отцу сказал, он согласен.
Девичий семик уже не сегодня завтра, а Цвета пока никому в семье не сказала о намерениях Радивоя. Наконец, поразмыслив, решила довериться Раде: с ним она чувствовала себя свободней, чем с другими, он самый обходительный в семье и к ней относится лучше других домашних. Цвета поджидала Раде на дороге, зная, что он непременно пройдет здесь, возвращаясь с дровами. Увидав Раде, пошла ему навстречу.
– Раде, брат, – пролепетала Цвета, глаза у нее налились страхом, ресницы дрогнули и опустились, – тебе не будет жалко, если Радивой в воскресенье уведет меня из коло к себе?
– Да пора бы, – ответил Раде. – Что ж, счастливо!
– Но я не смею признаться ни отцу, ни матери. Мне сказали, будто отцу не хочется окончательно потерять милость попа Вране… Мне-то ведь веру придется переменить, да и мать словно жалеет…
– Но мать ведь тоже из православной семьи, – заметил Раде, – и ничего с ней не случилось! – Раде засмеялся. – Сейчас по-нашему крестится…
– А я буду по-ихнему, – перебила его сестра, – бог один! Но ты, Раде, замолви словечко, тебя они скорей послушают!
В городе на девичий семик Радивой бешено пляшет в коло, потом выходит с Цветой из круга и танцует с ней отдельно. Он то весел, то чего-то злится, не дает себя переплясать, пляшет с ней, словно побился об заклад.
На городской площади слышится звяканье серебряных монист и топот тяжелых кованых башмаков; пот выступил на загорелых лицах, на солнце поблескивают расшитые бисером безрукавки. Вот распался и большой круг, а Радивой все еще танцует. Цвета устала, изнемогла, на ее счастье утихомирился и Радивой. Обнял ее.
Как раз в эту минуту к ним подошли два друга Радивоя, став по сторонам, крепко взяли их под руки и повели через площадь. Вдруг откуда ни возьмись появился среди площади порядком подвыпивший Петр, Цветин дядя, и преградил им путь.
– Куда ведете девушку? – спросил он.
– Оставь, дай людям спокойно идти своей дорогой! – бросил один из друзей Радивоя; а Радивой, не говоря ни слова, локтем оттолкнул Петра в сторону.
Петр вскипел:
– Не быть, парень, тому, что задумал! – и стал кричать, чтобы Радивой отпустил девушку.
Поднялась суматоха, вокруг них собралась толпа.
Радивой, обнимая Цвету за талию, протискивался сквозь толпу. Петр попытался его задержать, ему помогли кое-кто из односельчан, те самые парни, что враждовали с Радивоем из-за девушки.
Но друзья Радивоя поспешили на выручку, окружили его с Цветой и всей ватагой начали пробиваться вперед. Петр норовил их остановить, а пьяный вдребезги Павел, которому давно уже приглянулась Цвета, схватил девушку за руку, чтобы вырвать из объятий соперника; он давно уже ненавидел Радивоя за то, что тот опередил его.
– Пойдем со мной! На что сдался тебе Радивой?
– Уйди, уйди, говорю тебе! Зарежу! – разъярился Радивой и потянул девушку к себе.
Цвета, оказавшись между двумя озверевшими парнями в толпе народа, просто обезумела, глаза ее расширились, ресницы вздрагивают, а взгляд блуждает по толпе, как взгляд пойманной птицы в руках сорванца. Радивой крепко держит ее одной рукой, другой хватается за нож.
– Вот ее брат! – крикнул кто-то из толпы.
– Раде, братец! – едва вымолвила девушка.
– Что с вами? Люди!.. Чего навалились?..
– Слушай, племянник! – вывернулся Петр. – Уводит ее без ведома отца… Это нечестно!.. А вот Павел! Неужто, имея под боком такого парня, она может любить Радивоя?
– Брось, дядя, – спокойно говорит Раде, – пусть сама скажет, кого любит…
И спросил сестру:
– Цвета, ты кого любишь? Любишь ли Радивоя?
Испуганный взгляд девушки падает на Радивоя.
– Хочешь ли выйти за него? – спрашивает Раде снова.
– Хочу! – подтверждает сестра и придвигается ближе к Радивою.
– Правильно! – закричали друзья Радивоя, мигом взвели курки пистолетов – и треск выстрелов разнесся по городу… А толпа с женихом и невестой двинулась через площадь.
Раде сидит на камне и поглядывает, чтобы скот не забрался в лесной заповедник. Вот как нынче повелось, а бывало, скотина паслась без хозяина. Заставили власти соблюдать порядок, ничего не поделаешь – разорили разбойничьи штрафы лесничества; отец говорит, будто за один только год уплатил более пятидесяти талеров то за нарушения, то за причиненный якобы ущерб, а штраф назначают сколько в голову взбредет, и как это делается, никто в селе в толк не возьмет.
Поздно уже, пора гнать скотину с пастбища, хотя солнце еще замешкалось на отливающей медью листве Радиного леса. Время от времени сильные порывы северного ветра качают ветки и доносят с горы удары топора.
Раде, вспомнив о чем-то, встал с камня, направился к хлеву, взял недоделанное топорище и с таким увлечением принялся строгать его, что не заметил Машу, пока она не подошла к нему вплотную. Раде удивился – давненько они уже не видались. Сгибаясь под тяжестью мешка, она проговорила, посмеиваясь:
– Ходила на мельницу и заглянула к твоей жене – мы же давно с ней знакомы… Угадай-ка, – продолжала она, – зачем я к вам заходила?
– Зашла, и все…
– Угадай!
– Откуда мне знать ваши женские дела…
– Услыхала детский плач, – сказала Маша, растягивая слова, – и не могла совладать с собой, не поглядеть на него… Настоящий сокол! Завернула к тебе по дороге сказать об этом…
– Почему бы не быть ему соколом от такого отца! – улыбнувшись, промолвил Раде и встал, отложив в сторону топорище. – В будущем году будет другой, ей-богу, будет!
– А у меня никаких признаков! – с явным огорчением сказала Маша. – А после тех летних дней в горах… знаешь… ждала…
– Я тут ни при чем, – игриво перебил ее Раде. – Чего не было, могло бы случиться… Ну-ка, скинь торбу, отдохни!
Маша послушалась и, прислонившись к хлеву, стала рассказывать об отце Вране.
– Не дает проходу, а я его всякий раз надуваю… Вчера ждал на условленном месте, за церковной оградой… Ждет он там… а я, прикрыв дверь, подглядываю в щелку… Ха, ха! Но слушай, Раде, – перевела она разговор на другое, – стыдно только сказать…
– Почему? Говори!
– По дороге думала об отце Вране: может быть, он… – и оборвала на полуслове.
– Что?
– Был бы для меня подходящей. Все бы сделала, только бы стать матерью!
Раде окинул ее удивленным взглядом.
– Прости, Раде, – кается Маша, – прости! Избави бог, и что только в голову лезет! Откуда?.. И все зря, не люблю я его…
Сумерки медленно надвигаются, незаметно охватывают сначала ущелья и овраги, потом ползут к каменистым вершинам, которые уже посерели.
Маша и Раде на минуту умолкли, словно почувствовали близость осенней ночи.
Скотина ревела, возвращаясь с пастбища. Раде стал загонять ее в хлев. Волы с трудом протискивались в низкую дверь, самый крупный из них пригнулся, наклонил голову и прошел, не коснувшись рогами притолоки.
За скотом вошли и они. Раде набрал хворосту, развел огонь.
– Слушай, Маша, – сказал он, – неужто я бегал бы за тобой, как отец Вране, против твоего желания, а ты еще насмехаешься над ним!.. Как он только терпит?
– Сердится, но со мной отходчив: стоит мне погладить его жирную руку, тотчас смягчается… добреет…
– А муж знает?
– Какое ему дело, он все деньги копит… По судам таскается чужие тяжбы слушать… Знаешь, Раде, не будем его поминать…
– А почему?
– Видеть его не могу!.. Раньше еще так-сяк, с грехом пополам привыкла… А с тех пор как сошлись мы с тобою в горах, глаза бы мои на него не глядели! Даже не представляешь, до чего мне тяжко! Совсем чужим стал… противен он мне… Брось… – и подняла руку, словно защищаясь от чего-то.
Раде смотрел на нее, залитую светом костра, – щеки ее пылали, а приподнятая, красная как кровь верхняя губа – показалось ему – дрожала. Вглядевшись в ее голубые глаза, он уловил что-то тяжелое, свинцовое, мутное, глубокое, точно пенящаяся у брода река.
– Маша, – он вздрогнул, – держись, ты юнак!
– Что толку, коли нет детей? – ответила она, явно поглощенная этой мыслью. – Ах, стать бы матерью твоего ребенка, Раде! – И вдруг схватила его голову, прижала к груди… осыпала поцелуями… – Раде, прости! Не могу я без тебя… – Она вся дрожала, зуб на зуб не попадал, точно в лихорадке, и теснее прижималась к нему…
Огонь погас, скот улегся на покой, пережевывая жвачку, у двери подглядывал месяц… Раде вдруг встрепенулся и сказал:
– Поздно уже, Маша!
Она взвалила торбу и вышла. Раде проводил ее до самой дороги.
– Не осуди, прости, Раде, ничего не могу с собою поделать! – целуя его на прощанье, сказала молодка.
В ту ночь, когда Цвета убежала от Радивоя и в страхе примчалась домой, шел дождь. Мокрая, дрожащая от волнения, она подсела к догоравшему уже огню. Родители спали, а Раде с горящей лучиной в руке как раз вышел из хлева, где задавал волам корм. Узнав сестру, удивился, подумал, не случилась ли беда: что принесло ее в такое ненастье?
Тем временем поднялась и мать поглядеть, в чем дело, подал голос со своего ложа отец. Расспрашивают, что случилось, а Цвета только всхлипывает и в конце концов начинает горько рыдать. И ни за что не хочет объяснить, почему она прибежала, а когда Раде стал настаивать, пробормотала сквозь слезы:
– Не спрашивай, если ты мне брат, не гони меня к ним!..
– Но ты убежала? – допытывается Раде.
– Не спрашивай, умоляю…
– Оставь ее в покое, – вмешалась мать, – сама скажет… А ты, дитятко, ляг, успокойся!
– Ничего, мама, я так…
Наступило утро, жизнь шла своим чередом, как будто в доме ничего не произошло. Цвета взялась за привычную работу, и не будь у нее на голове вместо шапочки женская повязка-коврляк, никто бы и не подумал, что она уже замужем.
Но поздним вечером явился дядя Петр и, приветствуя Цвету, от имени Радивоя сказал ей в присутствии всех домашних:
– Зовет тебя Радивой, говорит, чтобы возвратилась.
Исполнив поручение, ушел.
Цвета не послушалась. Так прошло еще два дня. На третий внезапно нагрянул сам Радивой. Он застал семью за обедом, ели пуру; потеснившись, поставили ему скамейку рядом с Цветой. Смиляна протянула ложку и сказала:
– Возьми!
Ели молча, никто не проронил ни слова.
Потом мужчины подсели к очагу и закурили трубки, мать, дочь и невестка стояли тут же.
– Что с тобой, Цвета, зачем меня позоришь? – прервал молчание Радивой.
Цвета вздрогнула и затряслась всем телом, но не произнесла ни слова.
Раде, повременив, ответил за сестру:
– Не она тебя позорит, сам ты себя позоришь… Какой ты мужчина, если жена от тебя сбежала? Вот хотя бы она, – указал на Божицу, – ее хоть дубиной гони, и то не уйдет… Верно, Божица?
– А я чем виноват?.. Мы оба здесь, пускай сама объяснит, чего убежала. Я просто не знаю. А, скажем, если что и было между нами, так всякое случается между мужем и женой… Ну что ж, виноват я… вот пришел за ней, чтобы вернулась…
– Иди, Цвета! – сказал Илия.
Цвета прильнула к матери и, обняв ее, молит:
– Не отдавай меня, родимая… загубишь меня!.. – И зарыдала.
– Слушай, Радивой, – начала тихим голосом Смиляна, – моя Цвета – безобидная овечка: видишь, как напугана? Добрая она, как хлеб, что едим, работящая, как пчелка… Только из-за тебя, сынок, или из-за твоих домашних она и убежала, точно овечка, к своей матери.
– Почему же сама не скажет, что ей не по нраву? – повторил Радивой.
– Она, милый, стыдится, точно девушка… Я ее корю за то, что даже родной матери не откроется… спрашиваю с глазу на глаз, а она все твердит: «Не могу сказать, стыдно мне, мама!»
Радивой поднял голову и решительно, заявил:
– Цвета, кончай все это, идем со мной, не видать мне счастья, если не будет тебе хорошо!
– Иди, – подтвердил отец.
– Ступай, дитятко, раз уж все так хотят! – уговаривала мать. – Стыдно покидать человека.
– Скажи и ты, Раде! – попросил Радивой, и голос его звучал взволнованно.
– Я ей не запрещаю. – И, подумав, добавил: – Ступай, Цвета, ступай, сестра!.. А если невтерпеж станет, знаешь, где родилась.
Цвета испуганно озирается, ни на ком не останавливая взгляда. Все уговаривают возвратиться: и Раде, и мать, и отец, не идти же одной против всех?!
– Идем, – говорит она, заливаясь слезами.
Мать проводила ее на улицу и долго глядела вслед. Радивой шел впереди, ее дочь за ним.
…В ту ночь на посиделках у Петра судили да рядили: почему Цвета убежала от Радивоя.
– Кабы я раньше знал, о чем сейчас люди толкуют – да ведь не всякому слову верь, – ни за что бы не пошел с поручением Радивоя… ни за что… – вступил в разговор дядя Петр.
– А о чем толкуют? – прикидываясь неосведомленным, спросил Павел, высокий длинноволосый парень, тот самый, что хотел на девичий семик отнять Цвету у Радивоя.
– Мало ли о чем, – подхватил Петр, – только негоже на людях повторять, но я передаю, что слышал…
– О чем толкуют? – перебили его разом несколько голосов.
– Да вот, раз уж наседаете, ладно, скажу, хоть… Говорят, будто Радивой по ночам, как раз когда жена милее всего, – бьет Цвету: и ласкает, значит, и мучит всячески…
– А я слыхал, – подхватил Павел, – будто Войкан, свекор, насилует ее, когда пьяный… Конечно, кто знает? Все же говорят, будто однажды ночью, вернувшись из города пьяным, как стелька, а Радивоя не было дома, он потихоньку прилег к Цвете… и будто Цвета коротала ту ночь в кладовой и весь день просидела там же, пока Радивой не спустился с гор… Никому со стыда не сказала, что у нее со свекром приключилось.
– Как этому поверить? – заметил один из соседей.
– Почему не поверить? – отозвался пожилой крестьянин. – Всякое у людей бывает: и хорошее, и дурное. Случалось у нас и такое, правда, редко… А Войкан – вдовец, ну, спьяну и… добился своего!.. Вдовец как вдовец, ей-богу! Ха, ха, ха!
– А может, отец мстит сыну, – с серьезным видом заметил Павел.
– Послушаем и эти россказни! – удивился Петр.
– Слыхал про это и я… – с улыбкой сказал пожилой крестьянин, – ты прав, Павел.
– Если знаешь, рассказывай, послушаем! – подзадоривал его Павел.
– Да ведь ты первый начал…
– И я тоже знаю, о чем вы, – вмешался один из соседей, сгорая от желания послушать еще раз. – Должно быть, насчет того, что было с мачехой?
– Ха, ха, ха, конечно, о мачехе речь! – воскликнул Павел, сидевший точно на иголках. – Правда, говорят, не Радивой тут повинен.
– Это со своей мачехой, второй женой отца, что ли? – переспросил пожилой крестьянин, чтобы понятнее было слушателям.
– Ну да, с мачехой своей, – продолжал Павел. – Но я уже сказал, болтают, будто он не виноват. Она его к себе заманила, пока Войкан в городе пьянствовал. Дело было ночью, дождь, гроза, чертова баба и говорит Радивою: «Полезай ко мне, боюсь грозы!»
– Их! – заклекотал какой-то паренек. – Да и толстая она к тому же!..
– Расскажи все как было! – приставали некоторые из собравшихся.
– Как было?.. Как всегда бывает, когда солома подле огня… Конечно, огонь-то она, однако и он, чабанок, не промах…
– А что же отец, Войкан?
– Не валяй дурака!.. Зачем ему знать?
Крестьяне собрались уходить: огонь угасал. У очага под кабаницей застонала старая мать Петра, попросила сына подбросить дров.
– Сквозит откуда-то.
По другую сторону очага захрюкала проснувшаяся свинья. Тут же жевали жвачку коровы, а со двора налетал порывистый ветер, сотрясая расшатанную дверь, ударяя в спину стоявших крестьян.
Подбросили немного хворосту, пламя вспыхнуло.
– Послушай, Павел… – начал тот же пожилой крестьянин, он, по-видимому, все время думал все об одном, – уведи Цвету… сейчас подходящий случай…
– Человече добрый, да ведь ее снова забрал к себе Радивой…
– Кто сказал?
– Ну да, уговорили ее…
– Ненадолго, поверь мне! Если уж повадилась бегать, никому не остановить… Сами понимаете… Твоей будет Цвета, клянусь усами. – И он ухватился за свой длинный ус.
– Неужто, Павел, возьмешь ее, она же ведь сейчас по-православному крестится? – пошутил Петр.
– Отчего не взять, ей-право, люблю ее! И к вере старой вернулась бы… за милую душу… А если жена…
– Вот и потеряли бы мы одну православную, – сказал Петр, смеясь, Войканову соседу, тоже православному.
– И так их больше, чем нужно! – отозвался сосед, не вынимая трубки изо рта.
Илия давно уже подумывал обвенчать Раде с Божицей. Сейчас самое время, у Раде сын, никто теперь не запретит ему венчаться. А с отцом Вране лучше поладить, его как-никак надо остерегаться; правда, на суде он ничего не добился: суд снял с Раде обвинение в прелюбодеянии, но поп вряд ли на этом остановится, обязательно найдет какой-нибудь повод отомстить; недаром в старину сказывали: «От вора отобьюсь, от приказчика откуплюсь, от попа не отмолюсь».
А ведь как славно ладили они прежде с отцом Вране, пока Раде не увел Божицу. Илия был одно время церковным старостой и даже ради преподобного отца здоровался иногда с православными – «хвала Иисусу», чего раньше не водилось. Вообще говоря, поп не такой уж плохой человек, если рассуждать по пословице: «Весь мир под одну шапку не посадишь!» Да и где это видано!
Однажды вечером, когда люди уже разошлись с посиделок, Илия сказал сыну:
– Слушай, Раде, уважь меня: обвенчайся… покорись попу… больше тянуть нельзя…
– Я не против, – начал, улыбаясь, Раде, а продолжал уже серьезно: – Ты не знаешь, отец, как это теперь делается; полагается разлучить меня с Божицей на сорок дней, а то и больше… а кто ее заменит?
– Вон старуха согласна, она ведь к работе охоча…
– Охоча, коли надо, – отозвалась старуха. – Послушайся, сынок!
– Право же, Раде, дай бог тебе здоровья! – попросила и Божица.
– Хорошо, сделаю вам в угоду…
И обратился к жене:
– Что ж, Божица, придется тебе опять надеть девичью шапочку, а? Ведь для отца Вране ты мне не жена… Согласна?
– Как не быть согласной, – улыбаясь, ответила Божица.
И на следующий день Илия отправился к отцу Вране сговориться о венчании сына.
Священник, нахмурившись, разыскал книгу, снял очки, протер их и снова надел.
– Что это с тобою – молодой, а не видишь?
– Кто тебе сказал, что не вижу? – рассердился поп.
– Не сердись… я просто так…
– Вот, – сказал отец Вране, записывая что-то в книгу, – отмечаю день разлучения: с завтрашнего дня и до третьего оглашения. – И, подняв голову, строго добавил: – Пусть Божица возвратится к себе домой и заберет с собой зачатого в грехе ребенка.
– Возьмет его… – согласился старик, внимательно выслушав.
– А напоследок пускай Раде явится ко мне, я пошлю его на исповедь к епископу, только его преосвященство может примирить его с богом… Ты как полагаешь, а? Вечно по-своему делаете, как турки… А что происходит с этой несчастной, с Цветой? Мне сказали, будто она к монаху ходит, учится ихнему «Верую»… Эх, зачем только меня сюда послали?.. Будьте вы все прокляты!
– За что, отец, клянешь? – возразил Илия. – Испокон веку так у нас водится… Всякая вера, отец, от бога… К примеру, моя мать была православной, я католик… кто как хочет… никто никого не принуждает… Цвете придется переменить веру, иначе нельзя, надо исповедовать мужнину веру. Тоже испокон века!..
– За свою веру нужно голову сложить, вот что!
– Да, сложить голову! – подтвердил Илия. – Когда нужно или когда люди распрю промеж себя затеют… Ведь Цвета сама выбрала Радивоя… кто ей запретит?
– Ничего ты не понимаешь, – возмутился отец Вране словно про себя и замолчал.
…В тот же день под вечер Илия проводил невестку с внуком к ее родителям, живущим в другом конце села, а когда вернулся, Раде, притворившись веселым, сказал:
– Дай бог здоровья отцу Вране, все мерещится, будто я только сегодня стал женихом!
Ближайшие дни Раде работал дома и в поле за себя и за жену; родителей было жалко, не к чему им надрываться, и себя хотелось довести до изнеможения – после изнурительной работы легче пролетали долгие ночи. Зайдет кое-когда проведать сына и жену, но наедине с женой не остается. Божица тоже избегала мужа: решила не впадать в грех до венчанья… Правда, жаль ей Раде, знает она его, видит, как в глазах разгорается огонек, и ей самой нелегко, но ничего не поделаешь, так приказал отец Вране. Но как-то встретившись у колодца, на том самом месте, откуда он увел ее когда-то ночью в хижину, Раде просто голову потерял, словно Божица не была ему женой. Она чуть было не поддалась его желанию и лишь в последнюю минуту умолила со слезами на глазах отпустить ее.
– Все испортишь, – сказала она, – потом нам же будет слаще! – и, слегка улыбнувшись, окинула его таким кротким, ласковым взглядом, что сломала его мужскую волю. Раде отпустил ее с миром. Однако, идучи домой, подумал, что этот вынужденный пост мелочен и противоестествен и преследует одну лишь цель – удовлетворить каприз отца Вране. Сам же отец Вране, хоть и священник, бегает по чужим женам, а на него наложил запрет – не смей, мол, собственную жену трогать. Как же так, ведь он единственный у нее, можно сказать, господин…
Как-то Раде увидел во сне Машу и просто ошалел от блаженства. Утром кинулся к ее дому.
Дверь была на запоре; не зная, как объяснить свой приход, если ему повстречается Марко, муж Маши, Раде зайти не решился и, озираясь по сторонам, долго бродил взад и вперед перед домом.
Наконец остановился в нерешительности: войти все-таки или не стоит? Но тут откуда ни возьмись подошел работник отца Вране.
– Ты чего тут, Раде, околачиваешься? – спросил он.
Раде вздрогнул и, смутившись, повернул домой.
А работник тотчас доложил отцу Вране, что встретил Раде у самой двери Маркова дома, спросил его, что он тут делает, тот ничего не ответил, явно смущенный, поджал хвост и убрался восвояси.
– Верно, за Машей волочится! – заметил поп Вране.
– Чего ему волочиться… сама побежит, куда прикажет, – уверял попа работник.
– Не валяй дурака, люди больше болтают, чем есть на деле… И меня сюда же приплели, враки все, она – честная женщина…
– Просто чудо господне, почему вас знать не хочет…
– А ты поговорил с ней?
– Позавчера, только Марко ушел в город, сказал ей точь-в-точь, как вы приказали. Хозяин, мол, любит тебя, говорю, просто сохнет по тебе. Даже бросил из-за тебя другую женщину…
– А она?
– Смеется.
– Хоть что-нибудь сказала?..
– Да, только не могу повторить, будет вам неприятно…
– Говори!
– Я ей напомнил про Раде… а она так прямо и ляпнула: «Он мне желанней всех на свете… что бы ни делал…» – «А мой хозяин?» – «Не люблю его, говорит, не по мне он». – «Почему?» – «Пузатый», – говорит. «Зачем же ты его морочишь?» – «От нечего делать», – и прыснула со смеху.
С той поры, как чабаны распустили слух, будто видели ночью Раде с Машей на пастбище, отец Вране особенно страстно затосковал по ней. Старался любой ценой вытеснить ее из сердца; приглядел даже другую женщину, ей взамен, но все было напрасно: Маша запала ему в самое сердце, привязала к себе и никак ему от нее не избавиться… Даже соседские мальчишки знают, что он с ума сходит по Маше, и подсматривают за ним из-за деревьев; или придет им почему-то в голову, что она прокрадется к нему именно этой ночью, они заранее карабкаются на высокий вяз перед поповским домом и стерегут, точно коты…
А Маша, дьявол, знай его только поддразнивает. Передаст через работника, чтобы ждал за церковной оградой. Придет Вране на условленное место часа в два-три ночи, присядет на корточки, привалится к стене и ждет… а соседские ребятишки обмениваются заранее условленным свистом. Отец Вране в страстном исступлении считает минуты, не обращая внимания на свист; услышав чьи-то шаги или какой-нибудь шорох, дрожит от возбуждения… И три часа уже пробило, и месяц стоит высоко на небе, а ее все нет.
На другой день разъяренный поп не желает даже ответить Маше на приветствие «хвала Иисусу», а как назло она попадается ему в этот день несколько раз на дороге. Но перед обедом Маша нагрянет в дом сама и, улыбаясь, спросит:
– Чего это вы на меня сердитесь? – и ласково взглянет на него своими голубыми глазами.
Отец Вране притворно хмурится, но, когда она возьмет его толстую руку и, погладив, в упор заглянет в глаза, он смягчится; его мутные рачьи глаза под очками сразу оживают, рука опускается на ее плечо. Маша видит, что работник, конечно, заранее подученный, уходит со двора, и убегает вслед за ним, громко попрощавшись с попом, и мило при этом смеется…
Тотчас по окончании литургии, после третьего оглашения, Раде зашел к отцу Вране получить записку и затем отправиться в город на исповедь к его преосвященству епископу. Поп Вране спешил, он проголодался, а работник Иво уже накрывал на стол.
– Явился? – спросил Раде отец Вране, бледнея от волнения. – Скоты! Мог бы и подождать, как подобает доброму католику…
– Некогда было, – ухмыляясь, прервал его Раде, – а я, поп, вовсе не скотина…
Молодой крестьянин невольно выпрямился и, сразу же став на голову выше священника, скрестил с его растерянным взглядом свой острый негодующий взгляд. Отец Вране невольно смешался, он не привык к таким ответам, и стал растерянно шарить по столу, разыскивая ручку; затем сел, написал записку и только теперь пришел в себя. Сунув Раде записку, он решил было на прощанье кинуть на него уничтожающий взгляд, но Раде, оскорбленный предшествующим разговором, не обращая на него внимания, спокойно сказал, уже стоя в дверях:
– Ты прав, поп, правильно, что мы скоты… Но будь по-моему, клянусь богом, не ездил бы ты на нас верхом!
Рано утром Раде собрался в уездный город; мать уложила в торбу пшеничную лепешку и несколько кусков брынзы перекусить в дороге, пригоршню орехов и огарок освященной свечи, чтобы хранила его от зла и светила в пути.
Укладывая торбу, старуха все наставляла его, отец же только курил и слушал…
– Довольно, мама… не беспокойся… Знаю, что такое город… два месяца в солдатах служил…
– Ничего, сынок, материнским советом никогда не гнушайся… – тихо возразила Смиляна.
Вскинув торбу на плечо, Раде поцеловался с родителями и сказал:
– Заверну к жене, повидаю перед уходом сына… Послушай, мама, приглядывай за ним, покуда не вернусь! – И ушел.
Родители долго стояли, пригорюнившись, погруженные в неясные думы. Вдруг старуха спросила:
– Как думаешь, когда он вернется?
– Да ведь только ушел, – спокойно ответил Илия.
И жалко Илии, что домашняя работа остановилась: точно обе руки ему отрубили, лишив дом такой силы – Раде и невестки. Да что поделаешь, если все так складывается?
В городе Раде быстро узнал, где находится резиденция епископа. По пути вспомнил, что с владыкой они как будто немного знакомы, конечно, если это тот самый, что лет пять-шесть назад, когда Раде был еще мальчуганом, объезжал церкви в день совершения конфирмации.
Раде отчетливо помнит, точно это случилось вчера, какое волнение охватило село, как все старались достойно встретить епископа. Особенно волновались прихожане, столпившиеся у церкви во главе с городским головой, газдой Йово, который уже в то время, как говорили на посиделках, ладил с отцом Вране вроде как собака с кошкой. Раде помнит и то, как пронесся по селу слух, будто епископ везет своим прихожанам некий бесценный дар. В тот же день сельский староста, повязавший ради праздника голову новым тюрбаном, с длинным чубуком в руке, обходя село, подтвердил этот слух, только он не знал или не пожелал сообщить, какой именно это дар. А год выдался нескладный: поначалу ждали урожая, потом все пошло прахом.
Между двумя урожаями, когда прошлогоднего хлеба уже не стало, а на новый еще не приходилось рассчитывать, людей охватила тревога; чтобы обмануть хоть как-нибудь голод, мужчины, подложив под пояс, а женщины под передник дощечки, крепко затянувшись, просили по дорогам милостыню, мечтая, как о манне небесной, о просяном хлебе…
Всем селом собрались встречать епископа. Когда вдали показался городской экипаж, поднялась пальба из прангий и ружей. Харамбаша шел во главе сельских стражников со знаменами, староста вел стариков. Епископ вышел из экипажа, благословил народ, проследовал пешком до паперти и быстро вошел в церковь, а за ним повалили стар и млад.
Епископ воссел в кресле, специально взятом напрокат отцом Вране. (Двое крестьян, соблюдая всяческие предосторожности, чтобы не попортить, принесли это кресло на руках из города и почтительно поставили на указанное место.)
Епископ прочел вместе с отцом Вране несколько приличествующих сему случаю молитв и приступил к проповеди. Раде помнит, какими глазами смотрели люди на епископа – он стоял у престола в сиянии восковых свечей, в праздничной, расшитой золотом ризе, с митрой на голове. Раде был потрясен величавой внешностью епископа, и, пока он не приступил к проповеди, мальчика бросало в дрожь от какого-то непонятного страха…
Но едва епископ заговорил, кончились и восторги и страхи; голос владыки никак не вязался с его тучной фигурой: писклявый, невнятный, он то и дело срывался; у отца Вране и то голос был сильнее и приятнее, чем у владыки.
Закончив проповедь и поучения, епископ сказал:
– От всего сердца благодарю вас, возлюбленные мои единоверцы, ибо знаю, что молитвы ваши дошли до всемогущего бога и избавили меня от тяжкой болезни; но особенно приятна мне возможность ответить вам на любовь любовью… принес я, дети мои возлюбленные, великий бесценный дар – дар, который обрадует равно богача и бедняка, старика и юношу… – Он приостановился, чтобы перевести дух.
Все обратились в слух. Епископ продолжал:
– Был я в Риме, и наш святой папа удостоил послать вам через меня свое отеческое благословение.
– На колени! – крикнул отец Вране.
Люди разом опустились на камни и смиренно приняли отеческое благословение папы…
Когда народ выходил из церкви, дядя Петр, вспоминается Раде, насмешливо спросил старосту:
– Стало быть, это и есть тот самый бесценный подарок!..
– Нечего глупить, Петр, – возразил староста, – им спешить некуда… Его преосвященство поднесет дар перед отъездом, увидишь.
– Возьми и мою долю! – трунил дядя Петр.
Но на этот раз Раде так и не довелось увидеть епископа. Его ввели в портик огромного епископского дворца…
Раде дивился его размерам, высоким покоям, а множество дверей повергло его в полное смятение; не зная куда сунуться, Раде долго ждал и раздумывал, и вдруг представилось ему, что епископский дворец так велик, что в нем поместилось бы, пожалуй, все их село с людьми, скотом и кормами… и еще осталось бы много места.
– Зачем ему такой домина? И как же он снизу доверху разукрашен, расписан… красота, да и только! – восторгался, изумлялся Раде и все ждал да ждал.
Бесчисленные двери отворялись и затворялись: священники, свои и пришлые, чужестранцы, выходили, уходили, проплывали мимо, все куда-то спешили…
А с улицы несся говор многолюдной толпы, словно журавлиное курлыканье где-то высоко за облаками…








