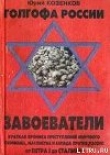Текст книги "Голгофа"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
И Шахт снова хлопнул дверью.
Смысл происшедшего едва доходил до сознания Нины и Сергея…
Трагедия произошла в тот же вечер, когда Сапфиры улетели в Израиль.
Мальчик вошел в комнату, где посредине стояли аквариумы с кишащими в них змеями. Смело открыл секцию, в которой, свернувшись колечком, мирно лежал и поводил агатовым глазком тайпан. Роман осторожно поддел его ладонью, вынул из гнезда. Поднес его к лицу, разглядывал чешуйчатые пластинки, кольца, дул на мордочку. «Вот так же, – думал Роман, – я буду показывать его в классе, засуну под рубаху, как делал Петрович».
Забылся и стал гладить аспида, как кошку. Змея сразу потеряла покой, сжалась, подняла мордочку. Видно, поглаживания она принимала за какую–то тварь, которая ползала у нее по спине. Вдруг зашипела и в мгновение цапнула Романа за руку. И скользнула на пол, уползла в угол.
Роман с минуту стоял оглушенный. Смотрел на укушенное место, рука на глазах краснела, теряла чувствительность. Вспомнил про сыворотку. Обрадовался: положу под язык и яд будет нейтрализован. Так и сделал. И пошел в свою комнату. Здесь он разделся и, успокоившись, лег под одеяло. И скоро уснул. Но тут же проснулся. Ему было холодно, по лицу струился липкий пот, ноги и руки тянуло, а все тело болело. Хотел было подняться, вызвать скорую помощь, но лихорадка усилилась, зубы стучали. Он уже не мог двигать руками, и ноги куда–то повело, и боль во всем теле стала нестерпимой, он застонал и потерял сознание…
Наутро Катя застала его мертвым.
На столике у кровати стоял пузырек с сывороткой. Катя вспомнила чье–то предупреждение: сыворотка действует избирательно, она годится не для всех ядов.
Яд этой змеи был необычным. Недаром Сапфир посылал человека за тайпаном в какие–то бразильские болота.
Жизнь Грачевых, хотя и была нарушена вторжением москвичей, очень скоро вошла в свою колею. Нина Ивановна сняла однокомнатную квартиру на том же Литейном проспекте и немедленно туда переселилась, а Николай Васильевич хотел было переехать в гостиницу, но Грачев его отговорил:
– Вам что, места не хватает или хозяева не по душе? Если съедете, я на вас обижусь, – заявил он решительно. И Свирелин остался.
В отношениях с Грачевым у него сохранилась та почтительная служебная дистанция, которая ничем не омрачалась, но и не сокращалась до степени дружества. Грачев по–прежнему видел в Свирелине большого государственного человека, и как литератор жадно слушал его суждения и даже мимолетные замечания по поводу жизни новой, так круто переменившей все привычные представления.
Грачев писал роман о нынешнем времени и назвал его «Ледяная купель», ему, кроме всего прочего, был нужен умный собеседник, и он искренне хотел, чтобы Свирелин пожил у них подольше.
В группу по отрезвлению Свирелин не пошел – счел для себя унизительным, но усердно читал книги по этой проблеме.
Было у него много свободного времени, и он проводил его в парке, начинавшемся сразу же за домом Грачевых.
Много думал о прошлом, припоминал в подробностях историю с дипломами.
Заполучив от Грачева информацию об их подпольном изготовлении, стал советоваться с людьми, стоявшими рядом на служебной лестнице. И первый, кому все рассказал, был глава писательской организации Сергей Степин; «Дядя Степа» – так его звали за длинный рост, которым отличался главный герой его одноименного рассказа, известного в то время многим детям.
Дядя Степа за словом в карман не лез и никогда не затруднялся с подачей советов. Он заметно заикался, особенно в щекотливых ситуациях.
– А-а, а-а… – тут и д-думать нечего! П-попробуй ты сунься с таким ж-жареным делом – тебя сумасшедшим назовут. Пять тысяч дипломов. Стра–ашная сумма! По десять тысяч за штуку продадут их «р–р–робкие» грузины – вот тебе полсотня миллионов! И что же ты думаешь – туда, на с-самый верх ничего не побежало?.. Да стоит т-тебе тронуть эту кучу, как загудит вся кремлевская рать. З-зашипят, точно змеи, женушки и доченьки, задрожат на их пальчиках изумрудики, брильянтики.
– Ну, спасибо, друг. Мы будем думать.
– Д-думай, Коля, думай, да только меня не мешай в это дело. Я тебя не слышал, ты мне не говорил. А вообще–то, вот тебе мой са–са–вет: никого не путай в такие дела. Запихивай их подальше под сукно, а лучше всего – бросай в камин. Наша с тобой власть кончается там, где начинаются большие деньги. Так–то, друг. И – бывай, береги здоровье.
Дядя Степа беречь здоровье умел. Он в свое время, подобравшись близко к Союзу писателей, ловко сковырнул с должности тогдашнего председателя, честного, умного человека и прекрасного писателя, и неожиданно для всех «вспрыгнул» в его кресло. И сидит в нем без малого тридцать лет; зорко всматривается туда, «где начинаются большие деньги», вовремя закрывает глаза и так же вовремя открывает их там, где требуется его содействие или, наоборот, бездействие.
Каждый, кто умеет слушать, обнаружит в его речи тонкие, едва слышимые интонации бердичевского или гомельского еврея, но это не значит, что сам Дядя Степа – еврей. Есть много случаев, когда кондовый русский, общающийся долгое время с евреями, усваивает их интонации и уснащает ими свою речь более искусно, чем сами евреи. Дядя Степа как раз и был таким человеком, – впрочем, иные из его близких друзей, давно знающих его, расскажут вам о его дедушке, религиозном иудее. У него–то как раз и жил в раннем детстве маленький мальчик, ставший потом долговязым дядей. И если уж мы о нем заговорили, то, наверное, стоит хотя бы несколько слов сказать о том, как и кто его готовил в писательские вожди и как он затем «отрабатывал» свою сладкую еду и важное положение. Молодой Свирелин в то время работал инструктором ЦК партии, и как раз в том отделе, где выпекались кадры руководящих деятелей для органов культуры. Рядом с ним сидел «серый мышонок», который и заприметил кропателя детских стишат. Фигуру эту и стал надувать до степени литературного генерала. А надувать было просто, потому что рядом в просторном кабинете сидел важный человек, который решал судьбу генералов. Этот–то важный человек в один удобный момент и подарил писателям России отца и наставника, «умеющего видеть черту, за которой начинаются большие деньги». Поначалу тот работал осторожно, но со временем превратил свои деловые операции в забавный спектакль, в котором было столько же смешного, сколько и грустного. На работу его привозила длинная дорогая машина, и лишь три раза в неделю. Услужливый референт – тоже кадр того «серого мышонка» – клал ему на стол бумажку с перечнем дел на день: кому помочь с квартирой, кому устроить в издательстве рукопись, а кого протолкнуть в члены Союза писателей. И это главное, что он делал все тридцать лет. И делал очень ловко, умело, с заметной дозой изящества и артистизма.
Звонит в Моссовет:
– Никандр Викторович! Здравствуйте, здравствуйте! На–на–д-деюсь, вы меня не забыли. А-а? Не узнаете?.. Ха–хар–рошенькое дело, не узнавать друзей! Степин звонит из Союза пи–пи–сателей. А-а? Если уж меня не узнали, лауреата, академика… Ну вот, наконец–то!.. Дражайший Никандр В-викторович! А наш талантливый поэт, и критик, и переводчик – он же ка–а–нферансье, Аграновский до сих пор без квартиры. Как же так? Ай–яй–яй… А?.. Так вы поможете?.. Ну, ладно. Я тогда не буду звонить в ЦК Андрею Васильевичу. Надеюсь, дадите в новом доме в Безбожном переулке. Там много наших писателей. Ну, бывай, дорогой. До встречи.
На разговор с чиновником из Моссовета шло три–пять минут, и нужный человечек Аграновский, недавно приехавший из Тернополя или Елабуги, устроен, стал москвичом. И живет в престижном доме, в тихом и зеленом Безбожном переулке. А потом будет звонок в магазин по продаже автомобилей, и снова будет звонить академик, лауреат, Герой социалистического труда Степин… Ему для важности этих звонков и званий наклеили, золотых значков навесили, в должность министерскую возвели…
Второй звонок – в издательство:
– Старик! Па–пас–слушай: Я же просил тебя – прочитай сам рукопись и реши ее судьбу. К черту рецензентов, консультантов!.. Бери на се–себя ответственность. А? Ты не знаешь такого писателя? Аграновского не знаешь?.. И что?.. Пушкина тоже не сразу узнали. А я? Разве вдруг я получил мировое признание? Да и ты в кресло главного редактора не с луны упал. За тебя пришлось побороться. Ну, вот и ладно. Выпускай скорее Аграновского, да не как–нибудь, а с портретом, в твердом переплете. Дай ему на обложку ледерин, балакрон или, на худой конец, одень книгу в коленкоровую рубашку.
С этим разговор покруче. Как–никак – подчиненный. Для решения судьбы рукописи хватило и двух минут.
Дальше следует звонок третий, четвертый, и так десять–двенадцать звонков в день. Десять–двенадцать судеб. А сколько же судеб устроит этот добрый, безотказный Дядя Степа за месяц, за год? Сколько квартир, повестей, романов протолкнет он за тридцать лет?.. Бедная Москва! Бедная Россия! Да как же ты держишь на своих плечах одного только этого Дядю Степу? А их ведь много, таких дядей степ. Социализм, как общественная система, хорош для простого человека – тут тебе и бесплатное лечение, образование и почти даровая квартира, но еще лучше эта система для таких, как Аграновский. Рабочий–то и колхозник трудятся, Аграновский же не пашет, не сеет и домов не строит. Он критик, переводчик, конферансье. И надо еще посмотреть, кого он переводит, кого и за что критикует… На пользу ли обществу идет эта его не пыльная работа? А квартиру ему подавай. И не где–нибудь, а в Безбожном переулке.
Ох–хо–хо! Мать – Россия! И кого только не качаешь ты на своей груди!.. Где силы берешь, родная, надолго ли тебя хватит?..
Невеселые это были воспоминания. Свирелин чувствовал себя виноватым, ведь он сотрудничал с этим человеком, многие решения согласовывал, – знал, конечно, какую роль он играл в ослаблении государства, в ограблении народа, но как–то притерпелся к нему и даже нередко искренне восхищался его ловкости и умению обделывать свои делишки.
Однажды в «Правде» был напечатан фельетон об анонимном «баснописце», писатели догадались: речь идет о нем, о Степине. Герой фельетона изображался большим мастером устраивать свои дела за счет государства. Пользуясь своим высоким положением – должность его не называлась, – он за несколько лет сумел устроить семерым своим родственникам прекрасные четырехкомнатные квартиры в домах особой категории; шесть членов его семьи, включая двоюродного брата, стали с его помощью членами Союза писателей СССР… Перечислялись и многие другие «подвиги» оборотистого дельца.
Свирелин тогда возмущался вместе со всеми и несколько дней не звонил в Союз писателей, но тот позвонил сам, и они вновь стали дружно сотрудничать, будто ничего и не бывало.
«Ну, и что ты ворошишь эти гнусности прошлых лет, – корил себя Свирелин, петляя по тропинкам парка, – а как бы ты мог без него обойтись?» Бывало, представляли писателей к премии – каждое лицо согласуй со Степиным; чей–то двухтомник или собрание сочинений вздумают выпустить – опять Степин!
Механизм согласований, бесконечных утрясок, сбор мнений и рекомендаций – это скрытая тактика чужебесов, копошащихся во всех властных щелях. Он создавался еще при Ленине и затем отлаживался во все годы советской власти. Его пускали в ход каждый раз, когда решался вопрос национальный, то есть русский: где построить завод, или театр, или автостраду – в России или где–нибудь в степях Казахстана? Тут сейчас и выпрыгнут рьяные интернационалисты, поднимут вселенский гвалт – и, конечно, в ущерб России. А уж если квота академика освободится, тут они еще пуще заколготятся и русского, будь он хоть Ломоносов, отодвинут.
И как везде срабатывала национальная психология: русский не активен, деликатен, свое мнение если и подаст, то этак спокойно и даже робко, – ну и, понятное дело, за криком и гвалтом скрытых и явных иудеев голос русского и не услышат. Так и вышло у нас: в России порты и вокзалы старенькие, деревянные, дороги грунтовые, проселочные, а Прибалтика удивляет весь мир портами гигантскими, автострадами первоклассными, и даже Киргизия, и Узбекистан покрылись городами великими. Свирелин противился этому процессу, полиграфические фабрики и комбинаты ставил на земле русской, издательства создавал в городах российских.
И сейчас думы об этом грели его душу; благородный высокий труд служит человеку долго еще потом и после его смерти. Иисус Христос, Леонардо да Винчи, Ломоносов, Пушкин – вон как долго живут в памяти народной. В тайных помыслах Свирелин надеется, что и его помянут добрым словом новые поколения русских людей. Он хотя и не причисляет себя к бойцам отважным, но где можно было служил России.
А вот Степин… Свирелин знал ему цену, но всегда себе говорил: «Не я его назначал на должность, не мне и снимать».
«А сейчас–то уж чего казниться?.. Выкинь из головы этого прохиндея и не думай о нем. Думы мои, думы… Их из головы не вытащишь и под тот вон куст не выбросишь. Заводы остановлены, русский народ вымирает… Жужжат, как шмели, слова, оброненные Ниной: «…придет времечко… все наши игры всплывут на поверхность и нас с вами назовут поименно». Может, и не назовут, а совесть томит душу. А тут еще газеты и журналы все чаще мечут стрелы в прошлое, ищут виновников обрушения России. Сегодня утром в журнале «Молодая гвардия» прочел: «…перестройка не свалилась в одночасье, не выскочила, как убийца с кинжалом из–за угла, она зрела, как нарыв, она готовилась, подталкивалась день ото дня, из года в год»«. Нина теперь к Грачевым не приходит, нет у нее желания меня видеть. Да и откуда могло появиться такое желание…»
О водке не думал. Не пьют Грачевы, в любой момент может прийти Нина, и она не пьет – в этой обстановке пить не хотелось. Выходит, тут все зависит от сознания. Сам по себе организм ни при чем, его клетки не требуют спиртного. А вот из глубин сознания исходят сигналы: пей! И человек, насилуя свой организм, пьет. Сейчас эти сигналы не поступают.
А на Литейном наступило затишье. Прилетел Сапфир, один, без жены, начались приготовления к похоронам мальчика, – ими занимался Шахт.
Сапфир поселился в гостинице «Европейской», в свою квартиру даже не заехал. Магнат был не просто потрясен смертью сына, он был разрушен, и даже видеть комнаты, где жил Роман, где были змеи, он не мог. Бездумно ходил по комнатам сверхдорогого номера, скользил замутненным взглядом по окнам, но ничего не видел, не понимал, и, когда силы его совсем оставляли, ложился то на диван, то на койку и тихо, беззвучно плакал.
Он отказался поехать в морг за сыном, подписать какие–то бумаги, все поручил Шахту и еще каким–то людям, знавшим, как надо хоронить по еврейским обычаям. Они же, эти люди, выбрали место на еврейском кладбище – просторное, в окружении старых деревьев, и уже заказали памятник – очень дорогой, из белого цельного мрамора; и мастер уж приступил ваять лицо мальчика.
Шахт часто забегал в гостиницу, о чем–то спрашивал, но Сапфир отмахивался от него как от мухи, говорил:
– Сами… Вы сами, пожалуйста. Уж как–нибудь.
С ужасом думал магнат о той минуте, когда ему надо будет подойти к гробу, взглянуть на сына, проститься. Этой минуты он не перенесет…
Но эта минута пришла. Он увидел в гробу сына – своего Рому, единственное родное существо на свете, наследника миллиардов. И не удивился темному цвету кожи – яд змеи оказался таким сильным, что даже лицо почернело.
Не склонился над гробом, не поцеловал, а только махнул рукой. И почувствовал слабость в ногах, стал опускаться. Его подхватили и повезли. Кто–то сказал:
– В больницу. К Шафрану.
Где–то в замутившемся сознании шевельнулась мысль: «Ша–фран… частная клиника, для немногих, избранных. Я давал деньги и велел купить такую клинику, оборудовать, нанять докторов… Туда везут».
Сознание его покинуло. И надолго. Проходили дни, неде– ли – голова прояснялась, но силы не возвращались. Не однажды слышал, как шептались доктора: «Слабый организм. Наследственность. К тому же годы».
Годы?.. Какие же годы? Ему недавно исполнилось пятьдесят.
Однажды врачу сказал:
– Меня надо перевезти в Тель – Авив. Пусть лечат там.
– Тель – Авив?.. Вы слабый, не перенесете дороги.
Другой врач, стоявший тут же, заметил:
– В Тель – Авиве такие же врачи. Они же наши. И бегут туда не самые лучшие.
Это замечание Сапфиру не понравилось. Он хотел лечиться в Тель – Авиве не потому, что там врачи лучше, а единственно лишь по той причине, что там нет врачей, как вот этот… который говорит: бегут туда не самые лучшие.
Пусть Шахт позаботится, чтобы таких врачей тут не было.
Русских людей Сапфир боялся.
Итак, на Литейном затишье. Нина и Сергей сидят в одной комнате, и перед каждым из них гора бумаг. Нина заметила, как Сергей аккуратно выдирает из подшивки два листа и прячет их в карман – действо, ее поразившее.
– Что это вы делаете?
– Я?
– Да, вы! Это же невероятно – вырывать из подшивки листы. Я бы в своей бухгалтерии…
– А в вашей бухгалтерии я бы никаких листов не вырывал. А здесь вот вырвал.
Сергей откинулся на спинку кресла и, покручивая на пальце какой–то ключ и как–то ехидно и загадочно улыбаясь, спросил:
– Что?.. Пойдете докладывать Шахту?
– Может, и доложу.
– Не доложите.
Продолжал разглядывать Нину и загадочно улыбаться.
– Странный вы.
– Я?
– Да, вы.
– Почему?
– Не знаете меня, а делаете такие вещи.
– Знаю, – протянул он, склоняясь над бумагами.
– Опять скажете, что все в моих глазах видите?..
– Да, вижу – не доложите.
– Как это – видите?
– А так… вижу и все.
– Ничего вы в глазах женщины не увидите. Там всегда ночь и тайна копошится. В моих глазах многие пытались прочесть мысли и чувства и разгадать планы, да только никому не удавалось. Я мужчинам не верю, побаиваюсь их и потому никогда не бываю с ними откровенной. Вот видите, какая я ведьма, а вы мне доверяете.
– В любовных делах, да, вы – тайна. И я не пытаюсь ее разгадать. Пока не пытаюсь… Здесь же – вопрос патриотический, дело чести гражданина. Вы русская, и потому я вам верю.
Как–то утром Шахт сказал Сапфиру:
– Прилетела Саша, ваша падчерица.
– Саша? Одна?
– Будто бы одна. Живет у бабушки.
– У бабушки?.. – Сапфир задумался. Потом тихо доба– вил: – Пусть живет. В квартире ей делать нечего. – И затем, минуту спустя: – О том, что я в больнице, знает?
– Я ей сказал.
– А она?
– Ничего…
– И даже не спросила, чем болен?
– Нет, не спросила.
Сапфир поморщился, как от зубной боли; Александра его не любила. Он давал ей деньги, помногу, – бросал, как в колодец, но симпатий с ее стороны не заслужил. И даже более того: ее неприязнь к отчиму становилась заметнее, она его презирала. Может быть, из обыкновенной в таких случаях ревности к матери, но чутким сердцем он все больше улавливал нотки презрения к его национальности. Она все чаще при нем осуждала евреев, а однажды с радостью возвестила: «В городе появился отряд чернорубашечников. Они бреют головы – это неприятно, но зато лозунги у них красивые: «Честь и Родина!» и «Против черноты»«.
Они обедали. Сапфир при этих словах как–то скукожился, ниже склонился над тарелкой, а Ирина Михайловна, ее мать, сказала:
– Чему же ты радуешься? Это же фашисты! Твой дедушка погиб на войне с фашистами.
– Я знаю, но это же хорошо, что наконец–то появились крутые ребята. Нельзя же всем жить на коленях.
Она посмотрела на отчима, – он был черен, как грач, – подумала: «Ему тоже достанется!» И в сердце ее не появилось никакой жалости. Отчима она не любила и никакого сострадания к нему не было.
Саше без малого шестнадцать лет. Она была хороша собой, и даже очень хороша, – знала это и, как все молодые люди, не могла справиться с максимализмом своих чувств. Ей нравилось иметь свое мнение и если уж высказывать его, то без оглядки на окружающих.
Не мудрено поэтому, что, появившись в Петербурге и узнав от Шахта о болезни отчима, она не спросила, чем он болен и в какой клинике лежит.
На второй день проснулась поздно, долго сидела перед зеркалом, укладывала свою мальчишескую прическу и, наскоро позавтракав, отправилась пешком на Литейный к Шахту. Тут она встретила двух незнакомых людей – Нину Ивановну и мужчину пожилых лет, смотревшего на нее строго из–под густых бровей. Это был Свирелин.
Качалин ее знал и разговаривал весело, шутливо, как с еще не вполне взрослой девочкой. Подтянул ее к себе и на ухо сказал:
– Ты живого министра когда–нибудь видела?
– Нет, не видела, – призналась она простодушно. И Качалин показал взглядом на Николая Васильевича.
Саша сидела за столом возле Качалина и бездумно перебирала бумажки. Украдкой посматривала на Нину Ивановну, и в этих ее взглядах сквозил холодок неприязни. Тонким чутьем просыпающейся женщины она улавливала незримые нити симпатий, соединявшие Качалина с этой молодой и красивой женщиной, появившейся здесь недавно и неизвестно зачем. Качалина она знала давно, встречалась с ним и дома, и в театрах, и однажды даже ходила с ним в лес по грибы, – он ей нравился, и она считала его почти своим. Чувства ревности никогда не знала, а тут вдруг оно неприятно заскребло под сердцем, она ощутила, как это чувство мутит и томит душу. И чтобы как–то его рассеять, говорила себе: «Зачем мне Качалин? Он старый и мне не пара».
Парней у нее не было по причине того, что все ее сверстники казались ей дурачками. Подспудно она тянулась к ребятам серьезным, а еще лучше к мужчинам, которые уж чего–то добились в жизни и с которыми ей было интересно. Втайне она считала это ненормальным, но ничего не могла с собой поделать. А тут Качалин! Всегда такой веселый, остроумный – на него вся надежда отчима в каких–то важных делах. «Он знает, он умеет, и никто кроме него им не поможет», – думала она о Качалине. А однажды его спросила: «Где мой отчим взял столько денег?» Они были вдвоем, и Качалин, откинувшись в кресле и посмотрев на нее внимательно, сказал: «Зачем тебе это знать?» Саша ответила серьезно: «Я хочу знать. У нас ребята говорят, что скоро все аферы раскроются и жуликов посадят в тюрьму. Мне бы не хотелось, чтобы мой отчим был жулик». Качалин долго молчал, а потом заговорил серьезно, как с равной: «Теперь, Саша, время такое – беспредел. Это когда никто не знает, что же происходит в нашей стране. Один в одночасье становится миллионером, другой лишается работы. Твоему отчиму повезло: он вдруг стал богатым. Пользуйся своим положением, ты ни в чем не виновата». Саше этот ответ не понравился, но она решила не задавать лишних вопросов, поняла, что Качалину отвечать на них не хочется. Однако она почувствовала в его ответах доверие к себе и сердечную заботу о ее судьбе. И все–таки решила, что в будущем снова заведет эти разговоры и постарается выяснить, как это миллионы свалились в карман отчиму.
Качалин нравился ей все более. В сущности, если уж говорить начистоту, она и прилетела из Дамаска не к бабушке, как сказала матери, а к нему, Качалину. Хотела пригласить его в театр или в лес за грибами. А тут вот эта дама – такая важная, умная – и на нее, девчонку, не обращает внимания.
Мирно беседовали, пили чай. И вдруг к ним вихрем ворвался Шахт, заметался между столами, хватал кипы бумаг, кричал:
– Собирайте документы! У подъезда машина. Все туда, туда!..
– Да что случилось? – спросил Качалин.
– Вы все поедете. К нам выехала бригада следователей. Они сейчас будут здесь.
Качалин все понял: из Москвы пришло распоряжение произвести обыск, арестовать документы. Саша видела, как он из–за шкафа достал какой–то предмет, похожий на винтовку с оптическим прицелом, завернул в плащ. И стал снимать с полок кипы бумаг; делал это неторопливо и заглядывал в окно, за которым у входных дверей стояла крытая большая машина. У Шахта спросил:
– Поедем на виллу?
– Да, на виллу. Скорее! Не забудь документы о теплоходах.
Это были те самые документы, из которых он вырывал листы и рассовывал по карманам. Нина Ивановна видела это, но Шахт ничего не знал. Он вообще мало разбирался в документах, хватал наугад папки, таскал в машину. И на всех кричал:
– Берите вот эти, и те – тащите в машину!
Саша тоже сняла с полки папку, понесла к выходу.
На листке бумаги Шахт поспешно набросал какие–то цифры, сунул его в карман пиджака Качалина.
– Тут код от секретного подвала, все отчетные бумаги туда запрячешь. Ну, там, под часами – ты знаешь.
Потом Шахт почти силой всех запихнул в машину, захлопнул за ними тяжелую металлическую дверь.
Качалин стоял у окошечка, пытался разглядеть улицы, по которым ехала машина. Однако, как и в первый раз, когда он ехал на виллу с Шахтом в «Мерседесе» с затемненными стеклами, он ничего не мог разглядеть. Стеклышко и здесь было затененным, дома на улицах едва угадывались. С тайной тревогой думал: «Могут всех убрать. И Сашу тоже. Им не нужны свидетели».
Предательский холодок побежал по спине; оторвался от окна, опустился на лавочку. Рядом сидела Александра. Наклонилась к нему, тихо спросила:
– Куда едем?
– На виллу. Ты была на вилле?
– Была. Один раз.
– Знаешь, где она находится?
– Нет, не знаю. И мама не знает. Мы ехали в машине с темными окнами.
– Ага. Туда мы и сейчас едем. Они свою виллу держат в секрете. Даже от твоей мамы.
– Кто это они?
– Они. Твой отчим и Шахт.
Саша отстранилась. Казалось, она понимала опасность положения. Со стороны кабины подошла Нина Ивановна и села рядом с Качалиным.
– Нас везут как арестантов, – вы не находите?
– Мы имели несчастье прикоснуться к миллиарду. Такие деньги как костер: чуть зазевался и обжегся.
– Мы зазевались?
– По–моему, да.
И, помолчав, спросил:
– У вас там, в Америке, какая сумма была в обороте?
– Тоже немалая – больше двух миллионов.
– Ну, вот – два миллиона и вы говорите: «немалая», а тут тысяча миллионов!
Качалин говорил громко, – он решил хотя бы таким образом для всех обрисовать обстановку. Недавно он был в Петропавловской крепости на церемонии захоронения царской семьи, с ужасом пытался представить страшную картину их гибели; и сейчас почему–то именно эта картина всплывала перед его мысленным взором. Он уже был почти уверен, что именно в эти минуты, когда они едут на дачу Сапфира, Шахт, сидящий в кабине с шофером, придумывает способ от них избавиться. Скорее всего, он сделает это там, на вилле.
Сапфир доверил Качалину самые важные документы, рассчитывал на его феноменальные бухгалтерские способности, ему он открывал некоторые секреты. Показал ход, ведущий к часам, за которыми находился тайный подвал. «В случае тревоги, – сказал Сапфир, – мы все войдем в этот подвал, а там есть тоннель, ведущий на тот берег реки». Качалин тогда уже подумал: «А это плохо, что я узнал тайное убежище Сапфира. Лучше бы мне этого не знать». Ну а потом Шахт дал ему и код от двери.
Вынул из кармана бумажку с кодом, пытался прочесть, но в полутьме цифры не удалось разглядеть. Засунул бумажку во внутренний карман пиджака.
Напротив под другим окошком маячил силуэт Николая Васильевича. «Этот, – подумал Качалин, – понимает все. Он же большая умница». И еще подумал: «При советском режиме кого зря министром не ставили. Это сейчас…»
Машину трясло, двигатель стонал от напряжения. Шахт торопился.
«Интересно, он информирует обо всем Сапфира?.. Тот же лежит в клинике».
Пришла на ум философская мысль: «Деньги вначале приносят большую заботу, а потом несчастье. Глупые люди думают, что с ними приходит достаток, уют, комфорт, наконец, и власть над людьми, и не подозревают, что за ними, как шлейф за светской дамой, всегда тянется несчастье. Вот оно, это несчастье, схватило и нас за горло».
Нина Ивановна вспоминала, как она и вместе с ней Николай Васильевич и Саша во время погрузки документов хотели было выйти из комнаты, но Шахт на них заорал:
– Поедете с нами! Иначе вас арестуют, упрячут в камеру предварительного следствия, и вы там будете сидеть два–три года и выйдете инвалидами.
Про себя добавил: «Если выйдете».
И еще ворчал себе под нос:
– Ищут не иголку, а миллиард! И не рублей деревянных, а зелененьких.
Качалин снова поворачивался к оконцу, пытался определить направление движения, но мрак теперь сгустился еще более, и улица темной полосой бежала обочь машины.
К воротам особняка, а лучше его назвать замком, подъехали в совершенной темноте. За стенами кузова слышались приглушенные разговоры. Качалин знал, что это начальник охраны говорил с Шахтом. Охрана располагалась в похожем на вагон кузове машины – в прошлом какой–то военной мастерской на колесах. Но вот лязгнули засовы железных ворот и машина въехала на усадьбу. Тут она остановилась, и Шахт, открыв кузов, приказал:
– Собирайте бумаги, несите в дом.
Кипы бумаг переносили в большую залу нижнего этажа замка. Здесь также царил полумрак, одна лишь слабая лампочка горела в коридоре. И когда в залу внесли последнюю пачку документов, машина, взревев, отъехала, а Шахт стал закрывать двери главного входа. Качалин понял его замысел и тут же мысленно спланировал свои действия. А Шахт, схватив две пачки документов, предложил то же сделать другим и следовать за ним. Поднимались на второй этаж. Качалин, приотстав от Шахта, шепнул Свирелину: «Если я задержусь, не волнуйтесь, – успокойте женщин».
В одной из комнат второго этажа сложили бумаги, и Шахт, взяв за руки Качалина, сказал:
– Пойдемте!
И они скрылись на лестнице, ведущей вниз. Тут Шахт, подойдя к гладкой стене, нащупал место и нажал на него. Маленькая дверь, как живая, бесшумно отползла в сторону. Шахт показал Качалину, куда нужно нажимать, сказал:
– Здесь ход в тоннель и тайную комнату. Оттуда можно перебраться на другой берег реки, а там отвалить камень и выйти на волю. Еще раз повторяю вам код…
– Я его помню. Вы мне показывали.
Шахт продолжал давать инструкции:
– Документы хранить при любых обстоятельствах. Если уж будет совсем плохо, я дам вам сигнал. Вот вам мой радиотелефон.
– А вы как же… без телефона?
– У меня есть второй, – здесь, в кармане.
Качалин положил телефон в нагрудный карман своего пиджака и быстрым движением выхватил маленький пистолет из кармана Шахта. Тот, задыхаясь от злобы, лепетал:
– Что, что… В чем дело?..
Выхватил из кармана брюк газовый баллончик, хотел прыснуть под нос Качалину, но тот мгновенно развернул баллончик в лицо Шахту, который как раз в этот момент нажал рычажок. Густая едкая струя сковала горло, поразила легкие. Шахт задохнулся и потерял сознание. Качалин успел отскочить от него, но облачко газа обожгло и его слизистую оболочку, – Качалин закашлялся, отошел дальше. По запаху понял, что это и есть недавно выпущенный баллончик с особенно сильным перцовым газом, которым снабжали банкиров, богатых дельцов и прочих важных лиц.
Качалин, откашлявшись, подумал: «Хорошо, что он сам себя уложил».