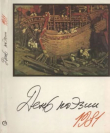Текст книги "Белые тени"
Автор книги: Иван Дорба
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Сын все это видел сквозь щель забора.
6
В условленное время Бережной встретил у кинотеатра «Октябрь» Чепурнова и Дурново. Чепурнов был опять навеселе.
– А где же Колков и Ольшевский? – раздраженно бросал взгляды по сторонам Чепурнов.
Бережной рассказал, что они расстались в Ейске на пристани, договорившись вечером уехать вместе, но он их с того времени не видел.
Чепурнов помрачнел и процедил сквозь зубы:
– Идиоты! Жаль, что я дал согласие на их дурацкую операцию «Райзефибер». К черту! Завалимся. Надо сматывать удочки, и чем быстрее, тем лучше.
– Вот и сматывай, никто тебя не держит, – зло сверкнув глазами, сказал Дурново. – А мы подождем.
– Не могу я идти без оружия. Поедем в Киев, – в голосе Чепурнова прозвучали просительные нотки. – Не помню, где мы закопали наши парабеллумы. Поедем! Жалко ведь, заржавеют...
– Нет! – упрямо бросил Дурново. – Будем ждать. Бережной понял, что они ненавидят друг друга. Он хорошо знал сестру Василия Дурново, Машуту, жену Евгения Давнича, председателя белградского отделения НТСНП, знал их мать Варвару Николаевну Дурново, старшего брата Никиту, капитана военно-воздушных сил Югославии, и, глядя сейчас на Василия, думал о роковой обреченности дворянства и о том, что дядя Василия – Иван Николаевич Дурново, всесильный председатель совета министров, автор «черты оседлости», применения «ограничительных законов» к раскольникам и иноверцам, а племянник диверсант...
Постояв с полчаса у входа, они пошли в кинотеатр. Фильм назывался «Петр Шахов». Образ простого советского гражданина вызывал симпатию и восхищение зрителей. Бережному фильм понравился. А лица Чепурнова и Дурново помрачнели, стали жалкими. В зале зажгли свет, и они встали и вышли на улицу.
Отсутствие Колкова и Ольшевского все более тревожило.
– Их взяли! – сказал Чепурнов. – Надо, братцы, утекать, выловят. Шурка будет молчать, а Кацо расколется.
– Не продадут, – убежденно сказал Дурново. – Но собираться здесь больше нельзя.
– А где же они нас найдут? – сказал Бережной. – Будем приходить по одному. Я почему-то уверен, что они еще явятся.
Чепурнов согласился:
– Завтра ты, Бага, потом Василий, а потом уже я. Ждем еще три дня.
Шел пятый день. Напряжение достигло предела. Нервничали Чепурнов и Дурново, расстраивался Бережной. Тревожился и Николай Николаевич, он опасался, что упустил опасных преступников.
К шести часам вечера Василий Дурново стоял уже у кинотеатра «Октябрь». Моросил мелкий дождь. Темнело. Мысли его были далеко, в Югославии, где прошли его сознательное детство и юность, в Югославии, которая, как он сейчас понимает, ближе его сердцу, чем эта чужая, непонятная мужичья страна. И зачем только он согласился сюда ехать? Оттуда, из Югославии, все представлялось романтичным, заманчивым. «Захотелось походить в героях! А кто он есть? Недоучка, балбес, слесарь! Дурново – слесарь! Нет, нельзя было оставаться в Югославии. А здесь ты совсем не нужен. У сестренки Машутки в голове тоже романтика, ей хочется пойти в Советский Союз ради белой идеи...»
Загорелись фонари и словно подчеркнули наступление темноты. Раздался второй звонок, публика повалила в зрительный зал.
Дурново огляделся по сторонам и неторопливо направился вниз к мосту. И вдруг почувствовал, что за ним следят, кто-то идет за ним от самого кинематографа. «Пропал!» – мелькнуло в мозгу. Шаги приближались.
– Здравствуй, Вася! – послышался знакомый голос Ольшевского. – Да-авай-ка спустимся к реке, – он взял его за руку, – вот сю-юда!
Они спрыгнули, словно в какую черную пропасть, под откос и спустились к воде.
– Что с Багой? – спросил Ольшевский, когда они отошли шагов на двадцать от моста.
– Ничего. Сегодня вместе обедали. А что?
– В Ейске мы обнаружили за собой слежку, и я, кажется, при-истукнул шпика. Уходили из города ночью. Представляю, какой там тарарам! Побывали в Ст-а-а-врополе... – Ольшевский внезапно умолк.
– Ну и что?
– Па-а-атом ра-ас-скажу. – Ольшевский прислушался: – Шурка и-и-дет.
К ним подошел Колков. Поздоровавшись, он задал тот же вопрос о Бережном. Потом сказал, что они долго следили за Дурново, следили, боялись, что за ним идет слежка чекистов.
– Ты будешь нашим связным, – сказал Колков Василию. – Завтра мы придем в кино на последний сеанс. Если нас не будет, вы все придете после фильма сюда, но об этом ты скажешь им, когда выйдете из кино, не раньше. Понятно?
На другой день Дурново выполнил распоряжение Колкова с пунктуальной точностью – привел Чепурнова и Бережного. Ольшевский встретил их у моста. Он был в сапогах и форменной фуражке, Бережной увидел под козырьком красную звезду и спросил:
– Что это?
– Потом! – отрезал Ольшевский. – За мной! – И прыгнул под откос.
Молча дождались Колкова. Он был тоже в фуражке и сапогах. Пожав всем руку, бросил:
– Пошли! – И двинулся первым.
Было темно, Кубань несла свои мутные после обильных дождей, полые воды, берега заволокло туманом, белесые стрелы кос вонзались в речную ширь, а на том берегу чернели, словно причудливо-сказочные замки, сады, и, казалось, слышались невнятные голоса. Сырой песок скрипел под ногами. Чуть всплескивали волны. Кругом было тихо, и только где-то справа на высокой круче, за глухим забором, лаяла собака, хрипло, безнадежно. Шли молча, каждый погрузился в свои мысли, у каждого на сердце было неспокойно. Наконец Колков остановился:
– Вот тут и поговорим! Усаживайтесь, времени у нас много, – указал рукой на лежавшую у покосившегося плетня перевернутую лодку.
– Итак, операция «Райзефибер» началась! – сказал, посмеиваясь, Чепурнов. – Кто-то придумал дурацкое название!
– Жорж Околов придумал. Мы очень спешили! Хотели до снега уйти в Польшу, – заметил Колков.
Обсуждали операцию подробно, тщательно. План Колкова, кому что делать и говорить, прорепетировали несколько раз.
Около двух часов ночи тихо вошли во двор к Блаудису. Бережной и Дурново подкрались к окнам, остальные поднялись на крылечко и забарабанили в дверь.
– Кто там? – донесся из-за двери испуганный женский голос.
– Милиция! Немедленно откройте! – громко крикнул Чепурнов.
За дверью зашептались, потом щелкнул засов, и дверь чуть приоткрылась. Блеснул лучик карманного фонаря, и грубый мужской голос как из бочки пробубнил:
– Фаши удостоверений!
Ольшевский молча протянул ему в щель красную книжечку. Дверь тотчас отворилась, и они вошли внутрь. Бережной стал у двери, а Дурново остался во дворе.
– Сержант Вахромеев, – сказал Колков, – вы посмотрите... – и сделал неопределенный жест, – а мы потолкуем. Садитесь, господин Петер...
Блаудис предостерегающе поднял руку, указывая глазами на стоящую неподалеку женщину.
– Садитесь и руки на стол. И вы тоже.
Блаудис тяжело опустился на стул. Он плохо выглядел, щеки отвисли еще больше, пронзительные свиные глазки потускнели, нос превратился в бесформенную лепешку, веснушки расползлись темными пятнами. Все тело его обрюзгло, расплылось, огромный живот выпирал из-под, видимо, наспех натянутых штанов, которые каким-то чудом держались на одной пуговице. Он был усталым, старым и несчастным. Но он изредка бросал взгляд то на Колкова, то на Чепурнова, то на стоящего в дверях Бережного.
Женщина замерла у стола. Она была намного моложе Блаудиса. Рассыпчатая, белотелая, русоволосая, синеглазая и в отличие от мужа какая-то вся чистая, еще весьма привлекательная.
– Я постою, – грудным голосом пропела она.
– По-окажите мне вашу кухню! – обратился к ней Ольшевский и направился к двери. Женщина последовала за ним.
– Почему вы не сообщили нам, Ласкус, что к вам приходил шпион?
– Ко мне никто не приходил!
– Я говорю о человеке, который вас встретил на футбольной площадке у беседки в ноябре прошлого года.
– А-а-а! – протянул Блаудис, глядя в окно. – Об этом я докладывал Ивану Николаевичу в ту же ночь. А после того никаких встреч не имел.
– Значит, «в ту же ночь». А почему не в тот же вечер? Какая каналья!
Блаудис вздрогнул и бросил, словно ввинтил, пристальный взгляд на Чепурнова.
– Я докладывал Ивану Николаевичу, раньше не мог. Встреча была шестнадцатого ноября, – пробубнил он и уставился на Колкова. – Шестнадцатого в девять вечера!
«Ловко выкручивается, разговаривал он с Жоржем в семь! Работает, значит, нашим и вашим. Верить ему можно только наполовину. Продаст!» – решил Колков, поднимаясь.
– Ну что ж, – сказал Колков, – пойдемте, поговорим более конкретно, одевайтесь. И, кстати, подпишите вот, – он протянул ему «протокол допроса».
Блаудис молча прочитал, подписал бумагу и начал одеваться. Тем временем Ольшевский довольно громко и весело разговаривал с хозяйкой дома. Время от времени из кухни был слышен их смех.
– Я готов! А вещи с собой брать? Белье и прочее?
– Ну зачем, мы сейчас же вас отпустим, – зло засмеялся Чепурнов. – А впрочем, как хотите!
– Ну идите, – сказал Колков, – а я на минутку задержусь, – и направился в кухню. – Скажите, – закрыв за собою дверь, спросил он улыбающуюся ему хозяйку. – В ноябре прошлого года у вашего мужа была встреча с агентом английской разведки, какого это было числа?
– Разве муж скажет! Чурбан какой-то, слова из него не вытянешь. Пришел он домой в тот день поздно, после полуночи, и говорит: «Встретил одного вражину!» – «Что ж, – говорю, – звонил?» – «Звонил, – говорит, – долго никто не отвечал». И на другой день пошел, семнадцатого, значит, к Ивану Николаевичу.
«Хитер! Мог и «дозвониться». И нас бы, рабов божьих, сцапали, хотя и времени осталось им немного. Интересно! И бабе не сказал! Не шлепнуть ли ее для страховки?»
– Вечером вы ничего подозрительного не заметили? Может, муж был взволнован?
– Пятнадцатого пришел поздно и подвыпимши! Все пивом наливается.
– Ну ладно, на днях повидаемся, а его скоро отпустим, надо, чтобы он помог нам установить личность одного человечка! До свидания!
Женщина открыла было рот, чтобы что-то спросить, но передумала. И только улыбнулась:
– Всего добренького!
Они вышли на улицу.
– Поверила или нет? Как ты думаешь? – спросил Ольшевского Колков. – О чем ты с ней разговаривал? Нигде не сорвался?
– Кажется, все в порядке. Я ей вскользь бросил, будто я работник органов безопасности Ростова, что мы поймали крупную птицу. Конечно, к-к-комплименты сыпал. Аппетитная баба, н-ничего не скажешь!
Пройдя до угла, они свернули в переулок и вскоре очутились на футбольной площадке, где около беседки их поджидали Чепурнов, Бережной, Дурново и Блаудис.
– Ян Кришевич, дорогой, – взяв Блаудиса под руку, сказал Колков, – в ту дождливую ноябрьскую ночь разговор в этой беседке происходил в моем присутствии. Я стоял у задней стены и слышал все от слова до слова. Не вздрагивайте! Мы не работники ГПУ. Мы ваши друзья. Не верите? – Колков шепнул на ухо Блаудису пароль, потом привел несколько подробностей: первые произнесенные Околовым фразы, где стояла бутылка с водкой, какой колбасой они закусывали.
– У меня безвыходное положение. Делаю что могу. Дозвонился, когда ваш поезд уже отбыл. Я ведь советовал вашему другу сделать пересадку. Жена секретный осведомитель... – он безнадежно развел руками.
– Была, – сказал Ольшевский.
Блаудис отшатнулся от него и вытаращил недоуменно глаза.
– Таков приказ центра. Вы сегодня же уедете вместе с нами, чтобы вам больше не дозваниваться.
– У меня тайник, надо взять оттуда документы и...
– Надеюсь, не в доме?
– Нет, конечно.
– Тогда успеете. Утихнет все, приедете и возьмете, что нужно. Поселитесь в Армении, неподалеку от границы. Вот паспорт, деньги и все такое прочее, – и сунул ему в руку толстый бумажник. – Придется только краситься и сбрить усы. Все это просто, а сегодня в семь двенадцать покатим в Орджоникидзе. Молочница к вам утром ходит?
– Мы берем молоко в магазине.
– А соседи утром заглядывают?
– Как будто нет, я ведь рано ухожу на работу, – механически, как автомат, отвечал явно потрясенный и сбитый с толку Блаудис. – Вы жену убили?
– Да, вам туда ходу нет! За все будете в ответе, – сказал Колков и подумал: «Если она нам поверила, то дня три звонить и поднимать тревогу не станет. А в НКВД решат, что Блаудиса утопили в реке, после того как найдут его шапку у моста». – Вам надо бросить пить пиво. Похудеете килограммов на десять-пятнадцать и все будет хай лайф!
Блаудис опустил голову, потом поднял ее, окинул всех взглядом и с какой-то тоской в голосе сказал:
– Молодые вы все, зеленые, не знаете, что такое советская разведка. Делать нишиво нельзя, трудно!
– Не ковегкайте язык! Вы можете говогить пгавильно, – заметил Чепурнов. – Кое-что все-таки мы сделаем как-нибудь! Чегт!..
Вечером они были в Орджоникидзе, на следующий день любовались красотами Военно-Грузинской дороги, бурным Тереком, древними развалинами и красавцем Казбеком. А еще через день были в Ленинакане. Тут Блаудису и предстояло снять квартиру.
Послонявшись по городу и убедившись в том, что Блаудис устроен на местожительство, можно было ехать в Тбилиси.
Но едва они оставили Блаудиса на квартире, как за ним пришли два милиционера и повезли в Краснодар.
7
Колков шел по улице Мачабели и, заглянув в духан, встретился глазами с Авчинниковым. А спустя минуту тот пожимал ему руку, просил прощения за историю в Феодосии и чуть не со слезами на глазах рассказывал, что у него в вагоне вытащили деньги и пистолет.
– Я был в Воронеже, потом хотел попытать счастья в Тифлисе и вот на тебе! По пути обворовали, уехать не на что! Помоги! А где ребята? Где Кацо?
Что оставалось делать? Колков согласился выручить товарища.
Вскоре все шестеро сидели на берегу Куры и под журчание ее вод обсуждали, как жить дальше. Обсуждение перешло в спор. Колков советовал разъехаться и порознь устраиваться на работу. Чепурнов настаивал, чтобы уехать всем в Турцию.
– Вася съездит за оружием, – предложил он, не глядя на Дурново, – имея одиннадцатимиллиметровые пагабеллумы, бомбы – пробьемся силой! Чегт! Иначе нас ского переловят как куропаток! Мы достаточно уже наследили. ГПУ наступает нам на пятки... а до гганицы рукой подать...
– Делать тут, конечно, нечего, но, уходя, следует хлопнуть дверью. Мы же ради диверсии ехали. Ты, Вася, поезжай за оружием, а мы покуда махнем в Москву. И дай мне свой пистолетик, – щурясь на Дурново, сказал Авчинников.
– Если дверью хлопнете, то попадем прямо в рай, – засмеялся Дурново. – Но я поеду с вами в Москву.
– А у меня брат в лагере, – губы Ольшевского продолжали что-то шептать, он побледнел, потом начал наливаться кровью. – Старуха мать уборщицей работает за кусок хлеба... Ненавижу!
Колков хотел что-то возразить, но счел удобным помолчать и подумал про себя: «Как я раньше не замечал? Ольшевский настоящий псих! Чепурнов – пьяница. Авчинников – неврастеник». Потом поглядел на Бережного, который спокойно смотрел на Мцхетский замок:
– Каждому из нас дали по восемь-десять тысяч рублей, и мы за два месяца ухитрились почти все растранжирить! – вдруг жестко заговорил Колков. – А что мы сделали? Да ничего! Одно пьянство.
– Мы хотели заявить о себе широчайшим массам, – многозначительно произнес Чепурнов. – Какого черта ты, Шура, отвалил столько деньжищ этой рыжей сволочи, Блаудису? Надо было экспроприировать его «тайник», а самого шлепнуть там же под мостом и пустить по реке. А то вон друг в беде, – он указал рукой на Авчинникова, – а ты, мон шер, хоть бы хны!
– Где же я возьму? Нет у меня денег! Пусть каждый на себя рассчитывает! Я не вор, чужих денег присваивать не буду. Ясно? – Колков свирепо оглядел товарищей и продолжал: – Кто за то, чтобы разъехаться и устраиваться на работу?
– Я еду в Москву, а вы как хотите! – упрямо заявил Ольшевский.
– И я, – ощерился Авчинников. – На последние!
– Я тоже поеду с вами, – подал голос Дурново. – Надо действовать! Стрелять! Взрывать!
– Хе-хе! Была не была! Руку, друзья! – воскликнул Чепурнов. – Поеду с вами! Бережной молчал.
– О чем задумался, детина? – толкнул его локтем Ольшевский. – Страшновато? Ты в «благоразумных» не ходил в ка-а-а-детском корпусе?
– Нет, не ходил! – сказал спокойно Бережной и улыбнулся. – Но зима на носу, а мы без денег, без жилья...
– Ладно, черт с вами! – вдруг сказал Колков. – Поедем в Москву, погибать, так с музыкой!
7 ноября утром с Павелецкого вокзала они направились по Новокузнецкой к центру и вышли к Устинскому мосту. Дальше не пускали. По Раушской набережной они дошли до Москворецкого моста.
Военный парад заканчивался. Шли с грохотом танки, с гулом проносились над крышами домов самолеты.
С раскрытыми ртами смотрели они на могучую боевую технику и ничего не понимали. Еще недавно поляки утверждали, что советские танки сделаны из фанеры.
– Показуха! – выдавил наконец неуверенно Авчинников. – Откуда взялись танки?
– Для иностранцев, – вздохнул Чепурнов.
– Согласен с вами, – поддержал их Бережной, – это большевики бывшим интервентам зубы показывают.
Все пятеро удивленно взглянули на него, но промолчали. Площадь заполнялась колоннами демонстрантов. Доносились отдельные возгласы, приветствия, где-то впереди играл оркестр.
– Потопали, – сказал Авчинников, – там дальше вольемся в колонну.
Переулками, проходными дворами они добрались до Большой Бронной. Тут стояла длинная колонна.
– К вам можно присоединиться? Отстали мы, – подойдя к хвосту, спросил Чепурнов.
Один из демонстрантов, бойко разговаривавший с соседом, удивленно пожал плечами и ухмыльнулся. Другой что-то крикнул идущим впереди, а третий, окинув их внимательным взглядом, сердито бросил:
– Посторонних пускать в колонну строго запрещено. Ступайте-ка лучше домой, пока вас не забрали. Совесть надо иметь!
– Да они вроде бы и не пьяные, – заметил кто-то из колонны.
– Мы приезжие, не знали, что такие строгости, – сказал Бережной, – пойдемте, ребята!
Они быстро отошли, провожаемые настороженными взглядами притихшей колонны. Потом свернули за угол и вскоре очутились на Палашевском рынке. Побродив по рядам, вернулись на Москворецкий мост.
– Сейчас я все у-у-уст-трою, п-п-покажу к-к-крас-ную книжечку и нас пропустят, – сказал Ольшевский, ощупывая карманы, – где же она, черрт!
Книжки он так и не нашел.
– Сматываемся, и побыстрей! Кажется, за нами шпик увязался. Влипнем не за понюх табаку! – прошипел Авчинников и быстро зашагал прочь. Остальные, изредка опасливо озираясь, последовали за ним.
Через час они сидели на скамейке в парке Горького и, не глядя друг другу в глаза, обменивались короткими фразами. Обескураженные, не веря больше в себя и товарищей, подавленные мощью боевой техники. Они были полностью деморализованы, но еще представляли опасную террористическую банду. «Дальнейшее пребывание на свободе эмиссаров НТСНП считаю нецелесообразным», – докладывал Николай Николаевич.
...Первыми были арестованы Авчинников и Дурново. На следствии они показали, что в Днепропетровске проживают Волков-Войнов-Колков Александр Георгиевич и Андросов-Молодцов-Ольшевский, что Чепурнов уехал в Одессу, а Вихрев-Карпов-Бережной на Дальний Восток.
На первом допросе Волков-Войнов-Колков пытался покончить жизнь самоубийством, бросившись головой на отопительную батарею, получил тяжелое повреждение. Был отправлен в Москву и помещен в больницу Бутырской тюрьмы, где он пробыл до февраля 1941 года.
23 мая 1941 года он был приговорен к высшей мере наказания. Та же участь постигла и его террористов-сообщников.
Через месяц началась Великая Отечественная война.
Глава одиннадцатая
Железо и окалина
1
В годовщину столь нашумевшей операции «Кристалл – нахт» десятого ноября 1938 года, когда во всех городах Германии и Австрии запылали синагоги, а в витрины магазинов полетели камни и тысячи еврейских семей лишились своих кормильцев, барон Людвиг фон Берендс в Белграде на Крунской улице в особняке принимал комиссара гестапо при немецком посольстве Ганса Гельма.
Когда обильный завтрак с возлияниями близился к завершению и затылок майора достаточно покраснел, уши стали пунцовыми, язык болтливым, а глазки маслеными, Берендс завел разговор на скользкую тему, начав с анекдота о толстом Геринге. Ему хотелось спровоцировать Гельма на какую-то болтовню, чтобы можно было потом держать сына мюнхенского извозчика в руках. Тем более что Берендс прошел «школу» Канариса по разным уловкам.
А спустя пять минут, когда Гельм сам стал подшучивать над Герингом, Берендс заулыбался, защелкал каблуками, закланялся и, приложив руки к груди, залепетал:
– Тысяча извинений, но у меня неотложное дело. Не прощаюсь с вами, дорогой и многоуважаемый Ганс, надеюсь скоро вернуться. Ирен, позаботьтесь, чтобы наш гость не скучал. Я приеду часа через полтора. Прощайте, мой ангел, и берегитесь этого ловеласа!
Оставшись наедине с Ирен, и без того пьяный от вина и близости красивой женщины, сластолюбивый немец раскис окончательно и выболтал, неожиданно для себя, свое самое сокровенное. Поглаживая ей колено и все больше возбуждаясь, он, бахвалясь и пыжась, рассказал, что в свое время не раз захаживал с фюрером в «Парадиз», и «девочки», хихикая, шептались, будто Адольф страдает особой формой мазохизма. И пустился в такие подробности, что даже далеко не брезгливая Ирен заткнула уши и заставила его замолчать. Вся эта сцена, как и почти все разговоры, которые велись в этом особняке, записывались на магнитофонную ленту.
Прошло несколько дней. И вот, возвращаясь с Ирен поздно вечером из гостей, войдя в дом, Берендс почувствовал неладное.
– Майн гот! Выемка! – взвизгнул он не своим голосом, поднимая с пола оборванную нитку. И ринулся в фотолабораторию, где находилось записывающее устройство и был сейф с магнитофонными лентами.
Ирен последовала за ним.
– Стойте! – приказал он. – Зажгите всюду свет и обойдите комнаты.
Когда спустя минуту Ирен пришла обратно, он обернулся на ее шаги и простонал:
– Нет ящика с лентами! Доннерветтер! – и ударил кулаком по столу.
– Может, позвонить в полицию?! – неуверенно пробормотала Ирен.
– Дура! Безнадежная дура! Какого черта ты сегодня потащила меня в гости?! Будто чувствовал... Майн гот! – Он начал креститься мелким крестом. – Неужто и тайник обнаружили? – и как-то нерешительно протянул руку к задней стенке сейфа и нажал на незаметную пружину. Тайник был пуст. – Так и есть... Все пропало... – безнадежно прошептал он и весь обмяк.
– Разве я вам не говорила, что такую вещь, как магнитофонная лента с дурацкими высказываниями этого идиота Гельма, не следует держать дома! А теперь, оказывается, я виновата, я дура! – разъяренно накинулась на него Ирен.
– Кто мог это сделать? Кто? – не слушая жены, спрашивал самого себя Берендс, бегая по маленькой комнатушке, предназначенной, вероятно, для прислуги, где стол с записывающим устройством и фотоувеличителем занимал добрую ее половину. – Сам Гельм? Или югославские фашисты? Или Губарев? Нет! Но кто?..
– Хованский! И виноваты в этом вы, мой мудрый повелитель! Помните, когда пришел Алексей Алексеевич, вы включили магнитофон? В гостиной щелкнуло так, что только дурак мог не догадаться! Это он!
– А может, Павский решил взять реванш за прошлое?
– Ван Ваныч спелся со Скородумовым, а тот сотрудничает с нами. И уж конечно, не Ганс. Он ничего не помнит, что говорил.
– Проклятье! – простонал Берендс, ударившись ногой о стул и со злостью отшвырнув его в угол. – Дрек! – И вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь.
Поглядев с каким-то мистическим ужасом на сейф, Ирен последовала за мужем. Он стоял у буфета в столовой и наливал коньяк в чайный стакан, руки его дрожали, лицо было искажено страхом, в уголках губ пузырилась пена. Осушив залпом стакан, он подошел к креслу и тяжело опустил в него грузное тело.
– Вы правы, только Хованский мог это сделать! Типичная работа американской Си-ай-си. – Он с силой сжал кулаки. – Надо действовать! И как можно скорей... пока тот не успел передать...
– Не надо было с ним связываться, – закричала Ирен. – К тому же он, наверно, заметил за собой наблюдение. Вот и хочет держать нас под прицелом.
– Чепуха, за ним сейчас никто не следит. Ребята только выяснили, что он раз в неделю бывает в Калеменгдане, обычно после работы. И раз в неделю, тоже вечером, посещает ресторанчик «Якорь», где столуются офицеры-летчики. Живет аскетом, у него нет постоянной женщины, нет близкого друга. Впрочем, этих болванов он мог обвести вокруг пальца. Но я не позволю держать себя под прицелом! – Его голос перешел в визг, глаза налились кровью. – Не позволю!..
– Они не болваны. Это прожженные бестии, и я заплатила этим бандитам немалые деньги. – Ирен невольно поежилась, вспомнив «верных людей» Берендса: гориллоподобного вожака по кличке Вихрастый и его дружков, из которых один, Доска, с приплюснутой головой и птичьей грудью, с ничего не выражающими водянистыми глазами убийцы и руками-клешнями воскрешал в ней воспоминания о той страшной ночи, когда убили семью и маленького брата.
– Что ж, пусть они встретят Хованского на пристани. Там вечером темно и безлюдно. И концы в воду. У него, наверно, связь с кафанщиком, которого тоже следует пощупать. Я пойду с ними.
– Вы сошли с ума!
– В качестве режиссера, только режиссера! А когда будет все кончено, мы с вами поедем к нему на квартиру...
– Ни за что! Ни за что! Не могу, не могу, не могу! – истерически закричала Ирен, и в ее глазах стоял ужас. – Какой кошмар! – И она разрыдалась.
2
После жаркого лета и теплой осени сезон дождей в 1939 году затянулся. Реки взбухли, заливая тысячи гектаров, Сава поднялась до восьмиметрового уровня, а Дунай перешагнул десять. Свирепая кошава срывала с домов крыши, валила деревья и телеграфные столбы и пронизывала холодом все живое до костей. В Белграде было неуютно и промозгло.
После съезда «нацмальчиков» Алексей каждую субботу бывал в салоне Берендсов и включился в игру, напоминавшую дипломатическую, где каждое сказанное и несказанное слово таило уловку, а каждый жест – скрытый намек. Публика собиралась здесь пестрая. В небольшом особняке на Крунской улице, то ярко освещенном и шумном, то темном и глухом, можно было встретить разных людей. Захаживал сюда и вождь югославских фашистов Летич, и какие-то сотрудники посольств, и начальник русского отдела тайной белградской полиции Губарев, и терский атаман Вдовенко, и пресловутый Шкуро, и вождь югославских фольксдейчей Йанко Сеп, и полковник Павский, и женоподобный испанский шпион Чертков, и будущий начальник «Русского охранного корпуса» генерал Скородумов, и какие-то подозрительные типы. Этих молодчиков люди Хованского видели поздно ночью за два дня до выемки, когда велось круглосуточное наблюдение за домом и четой Берендсов.
После удавшейся выемки Алексей понимал, что опасность придвинулась и подстерегает его, где-то таится. Учитывая и то, что Берендса интересует его окружение и его связи, приходилось проявлять максимальную осторожность, особенно когда ходил на встречу с Иваном Абросимовичем. Усложнялась и работа с новыми группами людей. Научить их «властвовать собой», уметь сосредоточиваться на одном, запоминать нужное и отбрасывать шелуху, отгонять от себя сон и засыпать по желанию, смешиваться с толпой или в ней выделяться, распоряжаться психическими и физическими взлетами своего организма.
Надо было обезопасить встречи с людьми таким образом, чтобы они оставались вне подозрения в случае слежки. С другой стороны, ввиду активизации «Закрытого сектора НТСНП» и перевода его в Румынию следовало обратить пристальное внимание на исчезающих под предлогом отпуска, болезни, переезда и т. п. лиц из поля зрения. Приходилось на случай ухода в подполье раздобывать документы, разрабатывать правдивые легенды, давать клички, обусловливать пароли и, наконец, налаживать бесперебойную связь с Центром.
Напряженная работа велась и по оценке поступающих, зачастую противоречивых, сведений. Кроме того, надо было ходить на службу, в гости, вести светский образ жизни. Недаром говорится, что разведчик должен работать сорок восемь часов в сутки. Алексей на это не жаловался, беспокоило другое: неблагополучно было у Хозяина, провалился, как он сказал, «наш хороший человек». И теперь окно на третьем этаже все чаще остается темным, его, Алексея, «окно на родину». Трудно Ивану Абросимовичу.
Ноябрь 1939 года перевалил за половину. Преодолевая томившее его с утра тяжелое чувство, Алексей тотчас после работы уехал на конспиративную квартиру и занялся прослушиванием магнитофонных лент. Наконец, замаскировав тайник и попрощавшись с хозяевами, он вышел на улицу и поспешил к стоявшему в ожидании встречного трамваю. Надо было доехать до центра, пересесть на «двойку» и прийти вовремя на встречу с Аркадием Поповым в ресторанчик «Якорь».
На причалах не видно ни души. Моросил мелкий, как из пульверизатора, унылый дождик. Редкие, подслеповатые фонари, не в силах побороть мрак, бросали тусклые полосы желтого света всего на несколько метров.
Подняв ворот плаща, Алексей двинулся вперед, в темноту, словно нырнул в бездну. Идти по булыжной мостовой было трудно. «Жаль, не взял фонарик!» – подумал Алексей, налетев на туго натянутые швартовые разгруженной баржи, черный контур которой виднелся шагах в двадцати-тридцати и почти сливался с окутывающим землю мраком. Оттуда же неслось какое-то чмоканье, шипение, слышался плеск, словно какое-то огромное чудовище с силой всасывало воду. И в этот миг, преграждая путь, перед ним выросла фигура рослого мужчины.
– Спичек не найдется? – раздался пропитой, блеющий голос.
«Конечно, не один, – молнией пронеслось в мозгу, – надо бежать, где-то тут груда железного лома...» Он бросился в сторону и в тот же миг почувствовал сильный толчок в спину и понял, что летит в воду. Гнев и страх охватили Алексея, и он тут же ощутил сильную боль в плече. «Вовремя отклонился! – подумал он, – хотели оглушить! Кто? Конечно, молодчики Берендса!» И погрузился с головой. Когда он вынырнул, баржа, точно какое-то голодное, посаженное на цепь чудовище, высоко задрав тупое рыло, уже поджидала его в нескольких метрах. Течение вздувшейся реки, увеличиваясь с каждым мгновением, стремительно несло его в пасть. Только тут он до конца осознал всю опасность быть затянутым под баржу и поплыл изо всех сил в сторону, но было поздно. Его завертело и, казалось, чьи-то сильные руки потащили вниз. Он успел лишь набрать полные легкие воздуха.
Алексей был опытным пловцом и понимал, что выплыть из-под баржи в плаще, в ботинках, в зимнем костюме, да еще в ледяной воде, почти невозможно. Ужас был в том, что, попав под плоское дно, он окажется в мертвой зоне, а его уже не несло стремительно вперед, а под страшным давлением медленно волочило под дном баржи, чтобы потом выбросить утопленником.
Давление воды было так велико, что Алексею показалось, будто у него лопаются барабанные перепонки и он не может шевельнуть пальцем. Жить оставалось около минуты. Скоро, скоро сдаст воля, он не выдержит и глотнет воды, тогда все будет кончено. Плыть вдоль баржи нечего и думать. Первая и вторая его попытки выбраться наверх сбоку ни к чему не привели. Он хватался за скользкий, покрытый мохом борт, его снова затягивало под днище. На третью попытку не хватало сил и воздуха. Мучительно хотелось вздохнуть, в голове стоял туман, и какой-то другой Хованский все настойчивей и властнее требовал: «Брось! Все кончено, зачем себя дальше истязать!» Но упрямая тренированная воля помогла превозмочь себя, и, почти теряя сознание, он схватился рукою за борт, и вдруг пальцы, нащупав болт, вцепились в него. Рывок – и он наверху. Легкие наполнились воздухом. До чего хорошо дышать!