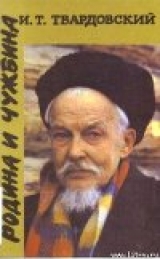
Текст книги "Родина и чужбина"
Автор книги: Иван Твардовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
– Саша, скажи мне правду: как могло случиться, что ты писал хвалебные стихотворения о Сталине, пока он был живой. Как могло случиться, что ты так резко начал совсем по-другому о нем же, о Сталине?
Для Александра Трифоновича этот вопрос был нежданным-негаданным. Он не сразу ответил. Прошло несколько минут, мы шагали молча. Потом он ответил: "Я так чувствовал. Я подчинялся моим чувствам". Наш разговор на эту тему прервался: позвали к столу. Обед у старшего брата в его хате, им же построенной (правда, уже тогда старались обыкновенную хату называть домом), был обильным. Было на столе и соленое, и копченое, и птица запеченная с ароматным гарниром, и жареные грибы, и пироги, и пельмени, так что можно было только удивляться разнообразию угощений в семье кузнеца. А вот спиртного было только по чарочке, для мужчин. И дело не в скупости хозяев, а лишь в том, что Константин опасался, как бы не повредить Александру Трифоновичу, – предстоял отъезд вечером того же дня.
В общем, что ж? Пересказывать подробности того, как веселились, шутили и смеялись, нет необходимости. Все мы были довольны тем, что встретились, что родственность выжила, пройдя жестокие испытания. Вот только рано ушли от нас отец и младший брат Василий…
"Победа" должна была сделать два хода в Смоленск. Первым рейсом отправили женщин – их было пять, а вторым – уехали мы, мужчины.
Меня и Марию Васильевну с нашей маленькой Олей довезли до нашей хижины на 4-й Северной улице. Александр Трифонович и Александр Григорьевич Дементьев даже на минуточку забежали посмотреть, как мы устроились, как живем, но тут же уехали к нашей маме. Через день, 21 сентября, мы снова встретились у мамы. Александра Григорьевича уже не было: уехал к себе, в Москву, поездом. Эта встреча была особенно интересной: Александр Трифонович, как никогда прежде, интересовался нашим мнением о его произведениях. Спросил сестру Марию, что ей больше всего нравится из его сочинений.
– Очень трудно сказать, – отвечала она. – Больше всего, может, нравится и не самое лучшее. Потому, знаешь, Саша, только не смейся, пожалуйста, скажу: больше всего мне нравится восемнадцатая книга из "Страны Муравии" – и тут же продекламировала: – "Стоят столы кленовые, хозяйка, нагружай!.." Смущенно заулыбалась и даже закрыла лицо ладонями.
– Ну что ж ты так сомневалась? Очень похоже, что так оно и есть, – сделал он заключение и посмотрел на мать.
– А мне, Шура, так нравится твой «Ивушка», что не могу тебе и передать: "Ивушка-печник… умер Ивушка…" Она хотела тоже сказать так, как в самом стихотворении, но не получилось, заохала, махнула рукой: дескать, ладно, посмейтесь…
– А что скажет Иван? – обратил он свой взгляд на меня. Я давно был готов ответить на подобный вопрос:
– Самым лучшим из всех твоих стихотворений считаю "Я убит подо Ржевом". Тронут им до глубины. А из поэм считаю лучшей "За далью – даль", хотя, конечно, говорю пока об опубликованной ее части.
Я тогда ни от кого не слышал и ничего не читал об этих произведениях и, естественно, говорил так, как думал.
Александр Трифонович поглядел на меня каким-то горячим, светящимся добротой взглядом и тут же привстал, пожал мне руку:
– Спасибо, Ваня! Я очень рад, рад, что так думает мой брат, еще спасибо тебе! Ты правильно понял это стихотворение, оно мне очень дорого.
Вскоре я стал собираться к себе, но мы еще не прощались, и я пригласил Александра Трифоновича побывать у меня еще раз.
– Спасибо, Ваня! Пожалуй, я заеду. Вот надо маме помочь насчет дровишек.
На кухне все еще сохранялась русская печь, сложенная покойным нашим отцом в первый же год после изгнания немцев из Смоленска; газа еще не было. Когда я вышел в прихожую, то неожиданно для себя увидел старуху. Это была теща Александра Трифоновича Ирина Евдокимовна Горелова. Я не был знаком с ней ни прежде, ни позже. Лет десять она с внуком жила в этой же квартире, в отдельной средней комнатке. Как, по какой причине она была поселена Александром Трифоновичем в эту квартиру, я не знаю и, наверное, никто не знает. Но для меня было загадкой уже одно то, что Александр Трифонович ни одним словом тогда о ней не вспомнил и она не была приглашена к нашему столу. Она не выходила из комнаты и не подавала никаких признаков, что она здесь есть.
Можно бы о ней и не упоминать в этих записках, но поскольку из довоенных писем ко мне и дневниковых записей Александра Трифоновича можно понять, что он относился к ней уважительно. А вот сейчас он как бы не хотел и знать, что она есть на свете. Она умерла, кажется, в 1960 году. Так что в одной квартире с нашей матерью она прожила лет пятнадцать. Как наша мать, так и Ирина Евдокимовна были на полном обеспечении Александра Трифоновича. Ежемесячно первого числа почта вручала переводы: матери – 150 рублей, теще – 100 рублей. Что же еще желать? Но если коснуться более сокровенной стороны жизни двух этих женщин, то, как говорится, "ни в сказке сказать, ни пером описать", – насколько их жизнь была мучительной для обеих. Они ненавидели друг друга. У одной была умная дочь, у другой – талантливый сын. Казалось, есть основание радоваться сватьям: их дети нашли друг в друге верных спутников жизни, смогли построить семейное счастье. Однако такого не случилось, и они постоянно враждовали. Как мне известно, наша мать скрывала от сына истинные взаимоотношения со сватьей, не жаловалась и не просила, чтобы он подумал об отдельной квартире для своей тещи. Но то ли он догадывался, то ли каким-то образом до него доходили слухи, он стал холоден к Ирине Евдокимовне и никогда о ней не спрашивал.
Как-то в начале семидесятых годов я гостил в Смоленске. Вместе с сестрами и братом Павлом мне пришлось быть у сестры нашей матери Елены Митрофановны. У ней было большое горе: только что похоронила мужа. Все мы хорошо знали Ивана Филипповича и были тронуты рассказом о его кончине. Выйдя на пенсию, он заскучал, стал томиться каким-то странным чувством и в конце концов наложил на себя руки. В общем, было очень тяжело слышать о том, как он накануне побывал у племянника в радиомастерской, взял отрезок кабеля и просил помочь Елене Митрофановне «закопать» его…
В тот же день мы ходили на кладбище. Душевной потребностью было почтить дорогих и кровно близких людей, поклониться их праху.
Благодаря Елене Митрофановне мы скоро нашли могилу отца. Здесь же похоронена и наша мама. На средства Александра Трифоновича над их прахом установлен гранитный памятник, на полированной части которого выбита надпись: имена родителей, даты рождения и кончины.
До чего же неузнаваемо стало само кладбище! Значительная часть его уже стерта с лица земли надвинувшимися массивами жилых многоэтажек. И, видимо, процесс этот будет продолжаться до полного уничтожения этого места – места вечного покоя наших предков.
Когда мы проходили тропкой между могилок, Елена Митрофановна приостановила нас возле одной оградки. Она была сварена из ребристого арматурного металла, очень проржавела и покосилась. Прямоугольник оградки изнутри зарос сорной травой, а в центральной части был виден глубокий провал осевшей от времени земли.
– Это могила тещи Александра Трифоновича, – сказала Елена Митрофановна. – Здесь никто никогда не бывал с того дня, как ее внук поставил эту оградку…
Вернемся к тем дням 1956 года, которые Александр Трифонович провел в Смоленске. 23 сентября во второй половине дня к моей хате на 4-й Северной подкатили две «Победы» одновременно. В одной из них приехал Александр Трифонович, сестра Анна и мама. Во второй – корреспондент газеты «Правда» по Смоленской области. Имени его не помню, и, наверное, это не столь уж важно (дату я хорошо помню, кому будет нужно узнать, не составит большого труда). В нашей единственной комнате было прибрано и даже уютно, но не было в ней стола. Собственно, стол вот-вот должен был появиться, как раз я занимался им в пристройке, оставалось только отделать столешницу. Пришлось внести его, как говорится, белым, неотделанным. Получилось с какой-то стороны даже занятно. Александр Трифонович и корреспондент помогли мне затащить стол в комнату, приладить недостающие сиденья, положив на табуретки отрезок доски, участливо и по-простецки посоветовали хозяйке "не проявлять особого усердия и забот насчет угощений – хорош хрен да луковица", а все прочее они предусмотрительно прихватили с собой. Пока Мария Васильевна с мамой и сестрой собирали на стол, Александр Трифонович затеял разговор о мастерах и мастерстве. Началом послужила деревянная кровать моей работы, которая привлекла его внимание рисунком инкрустации. Он касался рукой полированной плоскости спинок, удивлялся тщательности соединений и врезок и никак не соглашался с моим объяснением, что все это не так сложно, как может показаться неискушенному человеку.
– Не боги горшки обжигают, это да, но, знаешь, обжигают их мастера! – сказал под конец.
В то время у меня имелось мало изделий, которые я мог бы охотно показать. Многое по нужде было распродано, но все же кое-что нашлось. Я показал статуэтки, вырезанные из дерева, ажурные браслеты из кости, резные шкатулки и еще какие-то мелочи. Они произвели на Александра Трифоновича довольно приятное впечатление, и он с сожалением отметил, что я в свое время не получил должного образования.
– Да, Иван, в тебе – природный художник. И очень жаль, что сам ты долго об этом просто не знал. А впрочем, знаешь, все равно хорошо, ты – мастер. Порой мне самому так хотелось бы быть мастером какого-нибудь дела, например, быть хорошим печником.
Мы уселись за стол, но Александр Трифонович все продолжал начатый разговор. Он рассказал, что ему доводилось видеть у художников-скульпторов удивительные вещи:
– Как мне было ново и непонятно, когда показывали уродливые пни и разные коряги, на мой взгляд, пригодные только топить печь в каком-нибудь подовине, а мне говорили: "Вот, пожалуйста, почти скульптурный портрет Гоголя; а вот это – Антон Павлович, а тут – Достоевский". Я прямо-таки поражался их смелости, можно сказать – не верил. Оказалось – правда, художник может видеть или чувствовать в исходном материале, что тот таит в себе, что обещает.
Но вот на столе парит свежая отварная картошка, яичница во всю сковороду, солености на деревенский манер и «ниоткуда» – бутылка водки. И тут Александр Трифонович оставляет «схоластику» и, приняв позу какого-то далекого предка, запевает песенку о метелках: "Метелки вязали, в Москву отправляли. В Москве продавали – обратно езжали".
– Ну хорошо, дорогие мои! – громко и в то же время нежно и ласково начал Александр Трифонович. – До обидного мало, редко мы встречаемся, бываем вместе. Мама! Знаешь, я часто вспоминаю нашего Трифона Гордеевича. И недавно заметил, что многое во мне от него. Больше всего меня трогает его способность, его дар, если угодно, понимать и любить песню, а значит, и поэзию. Только подумать: в деревенской глуши, никогда ни с кем не встречался из просвещенных людей, не имел никакого контакта с ними, от которых, собственно, уходит в народ поэтическая мысль, а знал массу песен именно такого начала. Вот ведь что удивительно! Сколько я слышал в его исполнении песен, когда сам еще не знал, кому она принадлежит. И "За рекой, под горой, хуторочек стоит", "По небу полуночи ангел летел", и "Что ты жадно глядишь на дорогу", и "Сижу за решеткой в темнице сырой", и даже "О, не буди меня, дыхание весны". Нет, право же, удивительный был человек!
На несколько минут Александр Трифонович приумолк и думал о чем-то своем. Как раз в этот момент корреспондент «Правды» начал говорить:
– Знаете, что такое талант Александра Трифоновича? Это – редчайшее явление, это – гордость советской литературы! Он – вели…
Александр Трифонович как бы сбросил с себя отвлеченность и, сделав злую гримасу, резко оборвал:
– Ах, как это мне не нравится, как это нехорошо! Зачем же так непорядочно поступать?!
– Александр Трифонович! Простите, пожалуйста! Я понял, что допустил ошибку. Да не то сказал, но я понял…
Александр Трифонович не дал ему договорить и обратился к сестре Анне:
– Нюра, давай споем песенку о перевозчике. Я помню, у тебя очень хорошо получалось.
Анна из всех нас, пожалуй, самая несчастная: семейная жизнь у нее не сложилась. Образования – никакого. Всю свою трудовую жизнь прошла санитаркой. Выше не поднялась. У нее росла дочка Надя. Ей и посвятила Анна всю свою жизнь, без остатка. Надя оказалась способной, получила (при помощи Александра Трифоновича) образование: окончила Московский государственный библиотечный институт, а затем защитила диссертацию кандидата педагогических наук. Вот это и была награда для нашей сестры за все, что она вынесла. От рождения и до конца дней своих она не разлучалась с нашей матерью. Бессловесно, безропотно несла Анна свой тяжкий крест, идя всегда рядом с тем человеком, который дал ей жизнь. Все претерпев, она жила каждый день тем, что вечером будет встреча с мамой, ей она что-то расскажет, в ответ что-то услышит. И главная отрада у нее была дочка Надя, Наденька, Надюша
Анна запела:
Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой.
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой.
Мама слушала и, безголосо шевеля губами и покачивая головой, как бы шла следом песни, про себя совершая тот далекий путь, листая календарь обратно. И не выдержала – прослезилась, когда Александр Трифонович в самом конце песни добавил от себя:
Дальней молодости слезы
Не до тех девичьих слез.
Как иные перевозы
В жизни видеть привелось.
Александр Трифонович достал сигареты и, оглянувшись вокруг, встал, кивком сделал знак, чтобы выйти покурить. В маленькой прихожей (она же и сенцы, и мастерская) он обратил внимание на мой рабочий стол, остановился:
– Твоя "студия"?
– Да уж как назовешь… Занимаюсь вот… по возможности.
Я показал ему «стяжку» интарсии, скрепленную гуммибумагой заготовку для портрета "Василий Теркин" по рисунку О. Верейского. В ней еще трудно было что-либо понять ему: вся лицевая сторона была закрыта полосками клеющей бумаги, другая же, нелицевая, представляла собой топорщившиеся шероховатые кусочки разноцветной древесины. Но когда я пояснил ему, как все это будет выглядеть в конечном итоге, он удивился:
– Ты, Иван, неузнаваем! Пусть не все тебе удастся из задуманного, но я вижу в тебе интеллигентного человека, живущего с интересом к делу. И это – главное в жизни.
(Кстати упомяну, что тот портрет Василия Теркина находится в музее Смоленского педагогического института, в экспозиции, посвященной жизни и творчеству Александра Трифоновича.)
Мы вышли на улицу и увидели медленно идущего старого человека с палкой. Александр Трифонович так внимательно посмотрел на его согбенную фигуру, что я невольно насторожился и ждал, что он скажет.
– Ты видишь, что человек не переставляет свою палку, а подтаскивает ее? – спросил Александр Трифонович. – Это – старость. Когда я вижу таких людей, куда-то одиноко идущих, мне становится грустно: что-то он еще не доделал, что-то его еще к чему-то обязывает, но смотрит он уже только – Александр Трифонович ткнул скрюченной рукой к ногам – туда!.. И заметь, – он тронул меня рукой, – они об этом не думают и не замечают этого – живут! Живут, как судьба позволит: "Родятся в радости и умирают в радости", как сказал о простых людях Лев Николаевич Толстой. Это очень хорошо сказано и, смею думать, не без основания.
Мы слышим надтреснутый, застоявшийся голос сестры Анны:
– Шура, Иван! Где вы? Что у вас там? Мама беспокоится. Идите в комнату!
– Мама! Мы сейчас видели человека, и мне показалось, что это? …Нет, не сейчас, а однажды, когда я буду старый-старый, немощный и с палочкой буду где-то ковылять, ничего не видя, кроме своих поочередно шаркающих ног. Вот мы и задержались…
– Что это, Шура, у тебя такие мысли? Ты говоришь мне, своей матери, о том, что тебя совсем не касается. Ты подумал о том, что мне не может это нравиться? Не лезь вперед батьки…
– Вот это, мама, очень правильно, что ты вовремя одернула «супостата», так сказать, по-матерински. А теперь… теперь, хоть и прискорбно, но… памяти безвременно ушедших позволим по семь граммов, "по чарочке, по нашей, фронтовой…"
Может, эта «фронтовая» сыграла известную роль или просто потому, что с кровными родными Александр Трифонович счел возможным и нужным вести себя как-то иначе, чем с кем бы то ни было, затрудняюсь сказать, но он спросил у меня вот о чем:
– Скажи, Иван, как бы ты поступил, если бы однажды, при каких-то обстоятельствах, увидел старого опустившегося человека, который тащился бы с котомкой в рваной, истлевшей одежде, и вдруг узнал бы в нем меня, твоего брата?
– Ну, дорогой мой брат, – ответил я, – да я был бы рад, что встретил тебя живым, был бы рад тебе помочь – сделал бы все от меня зависящее, чтобы избавить тебя от несчастья!
– Верю, Иван. Знаю, что не оставил бы меня в беде. – Он положил мне на плечо руку и умиленно посмотрел мне в лицо.
Мы сидели рядом и говорили, и совсем как-то забыли, что нас слушают. Александр Трифонович продолжал:
– Ты рад, что у тебя есть такой брат? Ну, то есть, что я – твой брат?
Этот вопрос был для меня так неожидан, что я растерялся и не знал, что ответить. Во-первых, я боялся, как бы не обидеть брата той правдой, которая действительно имела место, а во-вторых, не хотел отделаться выдумкой, не хотел и не мог лгать в угоду уверенности брата, что мы, его братья и сестры, просто счастливы, что он есть на свете. На самом деле все было несколько иначе. Жизнь свидетельствовала: мы (братья и сестры) никогда не были вхожи к брату как к брату. Для нас он был "за кордоном". И не это, допустим, главное, пусть оно и так, хотя – как же так? По какой-то нужде Константин хотел видеть Александра Трифоновича. Поехал в Москву, через посторонних людей раздобыл адрес, добрался до той сказочной Пахры. У бетонного гаража-ограды была овчарка: ходу нет. Постоял, подумал: "Как тут быть?" Но живые там были, вышла сама Мария Илларионовна.
– Что вы хотите? – спросила она, не открывая калитки. – Несколько секунд я молча смотрел на нее, она – на меня, – рассказывал мне Константин, – затем сказал только одно слово: "Ни-че-во!", повернулся и ушел.
Она "не узнала" Константина Трифоновича, хотя общеизвестно, что он и Александр схожи, как близнецы. Это – страшно.
Но это еще ничего не говорит о самом Александре Трифоновиче, скажет или подумает читатель. Возможно, но все же, все же…
Итак, мне нужно было ответить на вопрос: рад ли я, что у меня есть такой знаменитый брат?
– Да, я всегда радовался твоим успехам, – сказал я, – гордился, что ты наш, ты – брат. Я носил твое имя возле сердца, радуясь каждому твоему слову, встреченному мною за тысячи верст от тебя. Но для большинства людей, с которыми приходилось и приходится встречаться, я – лишь однофамилец твой. Как только назову себя, тут же мне сообщат: "Писатель есть Твардовский, «Теркина» написал. Знаете?" – "Да, – говорю, – знаю, он мой брат". – "Ну-ну! Брат…", посмотрит этак одним глазом, почешет затылок да и прыснет со смеху: "Куда хватил!"
Александр Трифонович слушал меня не без улыбки, хотя, видимо, соглашался, что такое может быть.
– Так что, – продолжал я, – радость моя нередко омрачалась, но что поделаешь… Тебе же говорили земляки: "Высоко, земляк, пролез", вот ты и должен понять меня. Что ж можно добавить? Многое зависит от наших отношений, а они зависят от тебя. Чем ближе ты будешь к нам, к своим братьям, тем больше мы будем рады. Ты не обиделся?
– Может быть… – сказал он, вздохнув, грустно посмотрел на меня, затем взял бутылку и налил себе и мне водки. Он упустил из виду, что рядом сидит его товарищ, корреспондент, и я напомнил брату об этом.
– Простите, пожалуйста, я задумался и… бывает. – Он налил и товарищу. – Продолжим! – сказал и, морщась, выпил. Закусил очень слабо и, глядя на меня, начал разговор совсем о другом.
– А не согласишься ли ты поработать у меня? Мне нужно надстроить книжные шкафы. Я привык к ним, и мне не хочется их заменять, но надо их как-то нарастить, что ли, или сделать в том же стиле надставки. Как ты думаешь, это можно сделать? Ты хорошо заработаешь у меня. Это без шуток!
– Я был бы счастлив, если ты смог бы обеспечить нужным материалом и, конечно, условиями, чтобы я никому не мешал и чтобы мне также…
Он не дал мне договорить, заверил, что все это можно уладить.
Я подумал (правда, с долей сомнения): а почему бы и не поработать, почему бы не показать брату, что и как я могу. Мое положение было весьма незавидное в смысле финансов, я даже обрадовался, что есть случай заработать, и мы как бы договорились, что он даст мне знать, когда можно будет к нему приехать с инструментом. Но вот он уже уезжал, и я, выйдя проводить, забеспокоился, что он не записал мой адрес, напомнил ему. Он, сидя в машине, взглянул на номер дома, что-то прошептал раза два, кивая головой, но так и не записал. И мне показалось, что дело не сбудется.
Месяца два-три я ждал письма с приглашением, строил всякие догадки, но так ничего и не дождался. Рассказал Константину, что так-то и так, имел разговор – жду.
– Не жди! – сказал Константин. – Пустое! – махнул рукой: дескать, разговор после рюмки…
В Смоленске моя семья не прижилась. Ровно через полгода, в конце марта 1957 года, мы спешно продали свое жилье и уехали обратно в Нижний Тагил. Перед отходом поезда я послал телеграмму Александру Трифоновичу, просил его встретить. Не смею упрекнуть его по этому поводу – не было случая, чтобы по телеграмме он не вышел к поезду. И на этот раз Александр Трифонович стоял как раз в том месте, где должен быть наш вагон.
– Что же такое случилось, куда вы отправились? – был его вопрос.
Я рассказал все, как оно и было, – не можем прожить на мой заработок, перспектива не сулит лучшего и поэтому решили возвратиться на Урал. Да, покривился Александр Трифонович, не понравилось ему наше решение.
– Ну хорошо, – сказал он. – А «рука» там есть, чтобы иметь место, квартиру? Ведь всякий переезд – не шутейное дело.
Я сказал, что в месте нет сомнений: знают меня, возьмут с радостью, но квартира, жилье – дело проблематичное, нужно будет покупать хату.
– Так. Почти ясно. Но сейчас куда вы намерены?
– Да куда же? На Казанский вокзал.
– Тогда пойдем к остановке такси.
Машин было много, но Александр Трифонович сразу же спросил громко и холодно: "Кто на очереди?" Таксисты наперебой предлагали свои услуги, но он снова повторил: "Кто на очереди?" Такой нашелся, и мы поехали. После оформления билетов нам предстояло ожидать поезда часа три. Имея в виду, что по приезде в Нижний Тагил мне нужно будет приобретать собственную жилплощадь – покупать хату или, как принято говорить, дом, я объяснился с братом насчет возможного займа у него.
– Как много тебе нужно? – спросил он.
Прикинув, я сказал, что нужно тысяч десять.
– Что могу тебе сказать? Сумма меня не пугает. Ты можешь рассчитывать на пятнадцать. Но дело, понимаешь, в том, что сегодня у меня нет даже на чекушку. Нужно будет тебе сделать так: приедешь в Тагил, сразу же заведи сберегательную книжку, положи хоть рублей пять и вышли мне номер счета. Это нужно для того, чтобы не платить за перевод, – стоит дорого, а перевод на счет – законное право; оно, кажется, ничего не стоит.
– Так, может, пойдем посидим в ресторане? – предложил я.
– Не откажусь, – встречаемся редко.
Часы ожидания мы провели в ресторане. Александр Трифонович проводил нас к поезду, и мы расстались. Через двое суток были в Нижнем Тагиле, остановились у сестры жены.
Дней через пять нашли и сторговали домик. В задаток отдали почти все имевшиеся у нас деньги в расчете, что не сегодня-завтра получим обещанное братом. В сберкассе справлялись ежедневно, но перевод на сберкнижку не поступал. Срок по договору неумолимо приближался, и мы были на грани утраты права на внесенный задаток. Заказали переговоры по телефону. Связь с Москвой только в ночные часы. Переговоры не состоялись: квартира брата вызова не приняла. Послали телеграмму – ответа не получили. Что делать? Решаю ехать в Москву поездом. Но это только сказать "решаю ехать", а в душе горю жгучим стыдом, как только подумаю, куда и зачем еду. Да и денег же кое-как наскребли только на билет.
В Москву приехал 30 марта часов в девять вечера. На новой квартире у брата никогда не бывал, где та Первобородинская, не имею понятия, пришлось брать такси. Оказалось, не очень далеко, доехали скоро. Но как я чувствовал себя, не могу передать: все во мне взвинчено до предела, и я только и думал: с чего начать, как сказать, как себя держать? Несколько минут постоял у подъезда, вроде немного успокоился. Поднимаюсь по лестнице как можно медленнее, чтобы не запыхаться. Кажется, на шестом этаже нахожу семьдесят второй номер. Стою. Отдыхаю, собираюсь с мыслями. Шапку снял, причесался. Перед глазами кнопка звонка, и наконец я нажимаю ее. Из глубины квартиры слышатся приближающиеся шаги, щелкнул замок, и дверь открылась: Мария Илларионовна смотрит на меня.
– Здравствуйте, Мария Илларионовна! – Она молчит. – Вы меня не узнаете?
– Да, не узнаю, – отвечает.
– Я брат вашего мужа, Иван.
Она повернулась и ушла в глубь квартиры. Мне слышно, как она сказала: "Иди, брат моего мужа приехал!" Я продолжаю стоять у дверей, не смея переступить порог. В домашнем, в каком-то махровом костюме, медленно и болезненно подходит Александр Трифонович.
– Ты, Ваня? Ну проходи же! Что это стоишь в дверях? Что-нибудь случилось? Рассказывай скорей! Что ты приехал?
Из его слов я мог понять, что ни мое письмо, ни телеграмма до него не дошли.
– Александр, дорогой мой! Ты же почему-то не ответил ни на письмо, ни на телеграмму. От телефонного разговора квартира отказалась. Тебе ясно теперь?
– Какое письмо? Какая телеграмма? Я ничего не знаю. – Он глядел на Марию Илларионовну и ждал ответа.
– Ты две недели не смотрел почту!
Александр не стал продолжать, для меня все было ясно. Он увел меня в свой рабочий кабинет, усадил на тахту, придвинул кресло поближе ко мне, сел, начал тихо:
– Ты видишь, в каком я состоянии? Мне очень трудно сейчас о чем-либо говорить, в такие дни я никого не принимаю.
Да, таким еще никогда я не видел брата: лицо отекшее, глаза воспаленные, дыхание хрипящее и прерывистое, но мысль его была совершенно логичной и ясной. Он закашлялся и ушел. Мне было слышно, как мучительно он кашлял, будто в нем все выворачивалось изнутри с каким-то затяжным иканием. Примерно через полчаса он возвратился, снова сел в кресло, опять стал расспрашивать, как я доехал, как устроился и опять: "Что случилось, зачем приехал?" Я снова рассказывал ему, что согласно нашей договоренности сделал все: письмо отправил, номер счета – тоже. Ждал ответа, но ни на письмо, ни на телеграмму – ни звука, а от телефонного разговора даже отказались.
– Ладно! Ты здесь, на тахте, давай ложись спать, – сказал он. – Утром поговорим.
Но какой мне там сон! Я проклинал все на свете. Часа в четыре ночи он опять пришел в кабинет:
– Ты не спишь? И я, понимаешь, не могу уснуть. – Помолчал. – Денег у меня, Иван, нет. Попробую поговорить с Марией Илларионовной. Может, что-нибудь получится. Но это – утром. Спи!
Кое-как дождался утра. Многое мне казалось странным и непонятным. "Попробую поговорить с Марией Илларионовной" – слова знаменитого брата! Какая жуткая зависимость! Как это не вяжется с его громкой славой. И мне уже не хочется ничего, никакой помощи, если она так дорого стоит брату.
Александр Трифонович входит и говорит:
– С добрым утром! Иди, Иван, хоть чашку чая выпей. – Тут же сообщает, что она дает десять тысяч. – Только, пожалуйста, подойди к ней и поблагодари. Да, да. Сделай это, дорогой Иван.
Почему-то мне было очень трудно выполнить эту просьбу. Я чувствовал себя каким-то грабителем и лишь волей больших усилий подошел к ней, сказал:
– Я обязан благодарить вас, уважаемая Мария Илларионовна! Примите, пожалуйста, мое сердечное вам спасибо. – Получилось неискренно, но что-то еще прибавить просто не мог.
– Денег я вам не дам. Пошлю их вашей жене, – окатила она меня.
Нет, я не упал, но дар речи утратил. Еле отошел…
Александр Трифонович все это видел и слышал, что-то хотел сказать, но, кроме какого-то "Ну-у за…", так ничего и не сказал.
На большом продолговатом столе одиноко стояла чашка остывшего чая и рядом с ней, на блюдце, – ломтики хлеба. Это было поставлено для меня.
Я стал собираться в дорогу, на вокзал, хотя не знал, в какое время отходит нужный мне поезд. Меня не задерживали. Александр Трифонович заметил, что на мне шапка, снял ее и одел свою темно-синюю кепку: "Жарко тебе", – сказал он. Я откланялся и ушел.
Когда я спустился по лестнице на один марш, то услышал:
– Ванюша! Подожди! – Я обернулся. – Слушай, Ваня, возьми-ка хоть вот эту бумажку. Мало ли что в дороге… – Протянул мне сотенную.
Часов двадцать мне пришлось ждать нужного поезда – с утра до поздней ночи. Все я передумал, и очень обидно было так мучительно болтаться на вокзале в городе, где живет родной брат. Разве нельзя ему было позвонить, справиться о поезде; наконец, предложить поесть? Мелочи? Нет! Не мелочи это.
Деньги Мария Илларионовна прислала, как и сказала, моей жене Марии Васильевне. Но поскольку не мне, то я считал, что и не должен я ее благодарить. Два года не писал и брату. Но время приглушает чувство обиды. И однажды, в марте 1959 года, я написал-таки Александру Трифоновичу. Я уже забыл, о чем писал, но, видимо, это было душевное письмо. Вот что он писал мне в ответ:
М. 22.04.59
Здравствуй, дорогой Иван!
Очень рад, что ты наконец подал весть о себе, а то мне уж казалось бог знает что. Ведь ты не счел нужным по возвращении в Тагил написать два слова: "Получил, спасибо". Это элементарная вежливость. Для меня, конечно, это не имело значения, но перед женой, у которой я выпросил деньги для тебя, мне было потом неудобно: или человек обиделся, или он настолько темный, что не понимает неприличия своего молчания.
Но это, конечно, пустяки, только на будущее в отношениях с людьми учти это.
Очень рад, что у тебя все наладилось на новом месте, особенно хорошо, что ты сам доволен.
Ты вспомнил в письме о каких-то моих словах, неприятных тебе, но, боже мой, ты же видел, что я был просто невменяем. В такие периоды я никого не принимал, мне было очень тяжело. Но и это все пустяки, было и прошло, вспоминать не нужно.
Если ты еще испытываешь трудности, в смысле долгов и т. п., просто черкни, – вышлю, сколько нужно, без всякого напряжения.
Вырезка из газеты тоже порадовала меня, хорошо, когда работа оценивается по достоинству, но не придавай большого значения этой репортерской заметке, будь выше этого.







