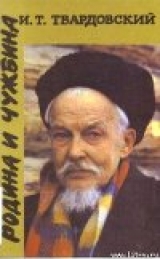
Текст книги "Родина и чужбина"
Автор книги: Иван Твардовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Утром следующего дня (кажется, это было 17 сентября) мы узнали из газет, что Красная Армия начала освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину. Это было столь значительное событие, что наши беседы приняли совсем иной характер: ожидать можно было самого непредвиденного поворота, и я заторопился к своей семье на Урал.
Возвращался я поездом "Минеральные Воды – Свердловск", минуя Москву. То были первые дни похода Красной Армии, и этими новостями жила вся страна, в том числе и находящиеся в пути: мы не были лишены возможности слышать передаваемые по радио последние известия об освобождении наших братьев из-под панского гнета. Но народ приветствовал и одобрял действия Красной Армии. В общем, из всего, что происходило, еще не было повода для больших тревог, в сообщениях не указывалось о серьезных и тяжелых боях, и все было как бы на оптимистической ноте, народ чувствовал себя вполне спокойно.
И вот я дома, в своей родной семье. Как хорошо и дорого так вот войти в свое скромное жилище, где тебя ждут, где ты нужен, где спит твой маленький сын и ты отдаешь ему свою любовь и свою скопившуюся радость: видеть его, сердцем и мыслью пожелать здоровья и счастья.
Осенью 1939 года завод, строительство которого вела контора номер четыре треста «Уралмашстрой», вступал в строй действующих. Железнодорожный отдел был передан в ведение завода. Таким образом, из строительной организации я был автоматически переведен в транспортный отдел завода оборонной промышленности. Сам факт перевода меня в ведение администрации завода мог бы меня только порадовать, но я не мог не иметь в виду, что отдел кадров и спецчасть завода непременно обяжут пройти переоформление, где вновь придется заполнять анкету с множеством уже известных мне вопросов: социальное происхождение, причастность родителей – были ли связи, отношения и прочее и так далее, что неминуемо может закончиться так же, как на «Можерезе». И слухи об этом уже имели место, что не предвещало благополучии и не снимало озабоченности. И хотя на службе все пока шло прежним порядком, втайне, не делясь даже с женой, я постоянно чувствовал тяжесть социальной несправедливости и душевной угнетенности, не видя даже в отдаленности выхода из этого заколдованного круга судьбы.
С момента пуска завода вводились и новшества: была учреждена военизированная охрана, построена проходная, вход на территорию завода стал по пропускам. Некоторые службы, не относящиеся непосредственно к производству завода, но до сих пор находившиеся на его территории, размещались теперь вне заводской территории. По этой причине был переведен и я. Моим рабочим местом стала контора транспортного отдела, размещавшаяся в отсеке автогаража. Вскоре, как можно было и предполагать, служащим, переведенным со строительства, спецчасть завода предложила заполнить анкету, в том числе и мне. После этого я продолжал работать еще несколько месяцев, вплоть до января 1940 года.
Но неприятности и несчастья подстерегали меня не только по месту работы, но и в самой семье. Маша стала замечать, что наш маленький Валерка не совсем здоров, что с головкой у него что-то неладное – было ему уже семь месяцев от роду, пора бы ему уже и сидеть, но мальчик с трудом поворачивал голову, не мог ее держать прямо, когда брали его на руки, то она бессильно склонялась на сторону. Замечалось и то, что голова выглядела крупнее, чем должна быть у ребенка к семи месяцам со дня рождения. Тревоги наши усиливались с каждым днем – обратились к поселковому фельдшеру, довольно пожилому человеку, пользовавшемуся большим уважением и доверием. Его внимательный осмотр и расспросы закончились тем, что высказал он свои предположения об очень серьезной болезни, что он не исключает водянку мозга, что означало самый неблагоприятный исход:
– Болезнь неизлечима! – сказал этот уважаемый человек. – Такие дети живут только до двух-трех лет, а если и больше, то как инвалиды детства.
Убитые горем, несли мы свое милое чадо домой, не видя перед собой белого света. Все как-то потускнело от этого приговора судьбы, и никто уж ничего не мог изменить, никто не был в силах чем-то помочь мне. Вот в таком безысходном положении, терзаясь своей беспомощностью, прожили мы дня два. По радио передавалась какая-то статья об удивительном человеке, профессоре Свердловского мединститута хирурге Лицком. Рассказывалось о почти невероятных случаях в его практике, когда безнадежно больных он возвращал к жизни. И мелькнула у меня мысль: "Не попробовать ли обратиться к этому профессору-хирургу, и если уж и он не в силах будет приостановить течение болезни, то хоть знать будем, что сделали все, что могли по велению долга и совести". Но вот как к нему попасть? С чего начать, чтобы он принял нас? Решили отправить письмо в Свердловский радиокомитет, чтобы узнать, как нам поступить в данном случае и можно ли надеяться, что профессор нас примет.
Прошло не более недели, и ответ нам пришел: из радиокомитета сообщали, что мы можем поехать прямо в клинику, где профессор Лицкий примет и обследует ребенка. Был указан и адрес клиники, и день возможного приема. В те дни января 1940 года морозы стояли небывалые, минус сорок – сорок пять градусов, но ничто нас не могло остановить, мы сразу же собрались и поездом выехали в Свердловск.
Профессор Лицкий принял нас в клинике. Был он уже тогда довольно пожилым человеком, высокий, медлительный и сдержанный в высказываниях. Выслушал нас очень внимательно, спросил, как давно стали замечать отклонения в развитии младенца, как он спит, как реагирует на голос матери, интересовался условиями нашей жизни, в частности тем, как и чем питалась мать младенца в период беременности, обратил внимание на незарастающее темя у младенца, ощупал его рукой, после чего сказал: "Да, у него водянка мозга".
В заключение он сказал, что гарантии на успех операции он дать не может, но если мы будем согласны, то может положить на исследование и операцию. Мать должна оставаться при ребенке.
Вот так. Не услышав ничего утешительного от профессора, мы должны были согласиться с тем, что Маша останется в клинике на какой-то неизвестный срок, не видя возможности на скорое свидание со мной, и ей казалось самым тяжким в столь трудный для нее час, что я уеду, что окажется она без близких людей, это ее просто пугало. Все это понимал и я, и мне было бесконечно жаль, но уехать я был обязан, меня ждала работа. Уважаемого нами профессора я сердечно благодарил за его радушие, за его готовность прийти нам на помощь и тут же должен был попрощаться с самыми дорогими для меня женой и сыном.
На вокзале в Свердловске я увидел большое количество людей в одеждах, как-то резко отличимых от привычных наших. Оказалось, что это была большая партия прибывших беженцев из западных областей Белоруссии и Украины в связи с теми событиями, которые произошли в Польше осенью 1939 года. Этих людей было много, и все они свободно ходили по вокзалу; производили впечатление, что все их интересовало; но трудно было сразу понять – то ли они были рады, что оказались на Урале, или же просто присматривались к новой для них обстановке. Мне показалось тогда, что выглядели они в своей вполне добротной одежде совсем не бедными людьми, хотя при них не замечалось какого-либо багажа. Кстати, среди них было много и евреев, и собственно поляков (это выяснилось несколько позже, в Нижнем Тагиле, на стройках).
Возвратясь в Нижний Тагил, я встретил Сергея Андреевича Богинского. Мне нужно было его видеть, чтобы поделиться своей печалью о болезни сына, о том, что жена находится в Свердловске вместе с ним в клинике, да и просто побеседовать как с добрым знакомым человеком. Но о себе я еще не успел рассказать, как услышал от него, что он увольняется.
– Почему так решил, спрашиваешь? – ответил он мне вопросом и продолжил: – Ну, во-первых, положение «зама» меня не устраивает. Во-вторых, есть еще некоторые причины, но об этом… Да, а тебе, скажи, разве спецчасть не предложила заполнить анкету?
– Да, Сергей Андреевич, предложила. Я заполнил.
– И о том, что жена из…
– Что вы, Сергей Андреевич, хотите сказать?
– Так ясно же, что и о чем! Что она – спецпереселенка!
– Нет, об этом не сказал.
– Вот! А мне уже известно, что из этого поселка планируют переселить спецпереселенцев, километров так за сорок, кажется, на станцию Ива, что по дороге на Нижнюю Салду! Вот так, дорогой мой Иван Трифонович! И хотя меня все это ни в коей мере не касается – не хочу работать там, где существует система выискиваний всяких там «опасных», «чуждых» и прочих "неблагонадежных".
Этот диалог произошел на квартире Сергея Андреевича. Пришел я к нему, чтобы как-то развеяться от своих мятущихся мыслей в связи со столь серьезной болезнью сына, а получилось, что лишь добавил свежую порцию к тому, что было. Сергей Андреевич был в плохом настроении и, казалось, размышлял о чем-то еще не совсем решенном и сложном. Вот он было замолчал, задумался, слегка барабаня пальцами по столу, тут же встряхнулся, оживился и выпалил: "Иду на «Коксохимстрой»! Рассказал о том, что предлагают ему должность начальника планового отдела, сожалеет, что раньше об этом не подумал. Как стало известно позднее – ушел он не по собственному желанию.
Для меня не было большой новостью возможное перемещение спецпереселенцев из поселка вступившего в строй оборонного завода и то, что меня это может коснуться. Предчувствия о подобных мероприятиях властей меня не покидали. Небезразличным для меня было и то, что Сергей Андреевич уходит, но желая ему успехов и благополучии, я не сомневался, что добрые наши отношения он не нарушит и мы будем их сохранять. Он искренне сопереживал мои горести по поводу болезни моего сына, заверив, что всегда дружески будет готов откликнуться на мое обращение к нему.
В один из особо морозных дней января 1940 года мне случилось быть свидетелем, когда шофер автобуса отказывался отвезти сотрудников дирекции завода на представление балаганного цирка, прибывшего в Нижний Тагил. Свой отказ шофер мотивировал тем, что мороз в тот день удерживался на отметке минус 45–48 градусов, и были у него опасения разморозить радиатор. Представитель же дирекции (ни фамилии, ни должности его я не знал) никакие доводы шофера во внимание не принимал, был возмущен отказом шофера, настойчиво требовал выполнить его приказ. И тут черт меня дернул вмешаться в этот эпизод: я посмел поддержать сторону шофера.
– Что же вы так безразличны к справедливым доводам водителя? Для вас, что же, никаких законов не существует? – сказал я этому представителю дирекции, одетому в добротное меховое пальто.
И тогда весь свой неудержимый гнев он обрушил на меня:
– Ах так! Как ваша фамилия?! Твардовский? Очень кстати, что вы попали мне на глаза! Завтра же придите ко мне в отдел кадров завода!
Автобус, кажется, в тот памятный день не был отправлен, но мне на другой день в отдел кадров пришлось-таки пойти. Начальником отдела был некто Лебедев. Тот самый, что приказал мне: "Завтра же…" Конечно, было ясно: член ВКП(б), сотрудник НКВД тех лет, разговоры могли быть только краткими и непременно на «вы». К тому времени заводоуправление размещалось в только что построенном здании, где мне еще не приходилось бывать, но вот я вошел в это здание в первый и, по существу, в последний раз. Лебедев был у себя. На мое "Здравствуйте!" он откинулся от письменного стола и произнес мою фамилию вопросительно: "Твардовский?" и сразу же сообщил: "Мы получили ответ из Смоленской области на запрос о вас. На основании чего предлагаю вам подать заявление об увольнении с завода. Вы меня поняли?"
Просить этого человека, объяснять ему о сложившихся тяжелых обстоятельствах у меня в семье я не нашел в себе сил, да вряд ли и могло это что-либо изменить – взгляд его не обещал сочувствия.
Положение мое очень осложнялось, и было отчего приуныть, но я крепился, не показывая того, как велика была моя печаль. Хлопоты о работе пришлось до поры отложить: жена с ребенком находилась в Свердловске, и надо было навестить ее. Что же касается работы, то в Нижнем Тагиле в те годы никакой проблемы не было – город был окружен стройками, и безработица никому не угрожала. Однако была проблема с продовольствием. Война с Финляндией заметно отразилась на снабжении городов Урала – в магазинах мало чего было, за хлебом рабочие стояли в очередях чуть ли не с полуночи. Не могу забыть, что, уезжая к жене, я не мог купить самый скромный гостинец, без чего просто стыдно было прийти на свидание, именно в больницу. Но что тут скажешь, если так оно было.
Приближалась весна 1940 года. Жена и сын были уже дома. После операции в области темени (это было заметно по рубцу после разреза) и пункции в позвоночнике, казалось, мальчик чувствовал себя лучше, хотя уверенности, что беда миновала, у нас не было. Оправдаются или нет его прогнозы, профессор мог сказать лишь по прошествии времени, и с этим мы согласились – младенца не спросишь, как он себя чувствует, жили надеждой на лучшее.
Работал я теперь на «Коксохимстрое», в группе аналитической отчетности планового отдела, где начальником был Сергей Андреевич Богинский. Работа не была для меня сложной, тем более что ввел меня в курс дела сам руководитель. С прежнего места жительства мы перебрались в поселок треста «Коксохимстрой», который и назывался Кокс. Это был барачный, запущенный поселок, до предела перенаселенный; для нас едва нашлась комната-развалюха, в приземленном бараке, в который, видимо, никто уже не соглашался поселиться, так она была отпугивающе ужасна. В ней не было живого места: дверь, окно, стены, потолок, пол – все избито, изношено, обшарпано до крайней степени. Но куда было нам броситься, если таковы твои права – согласились, не нам было условия ставить. Так вот, молча, не оглядываясь на любопытных зевак – где их нет? – мыли, скоблили, как могли, латали, сохраняя терпение и супружеский лад, дабы не впасть в уныние, не утратить веру в свои силы.
В двадцатых числах июня 1940 года я получил повестку из военкомата Тагилстроевского района, согласно которой был обязан явиться 26 июня на призывную комиссию. О том, что буду призван для прохождения действительной службы в рядах Красной Армии, я как-то не думал. Мне шел уже двадцать шестой год – случаи подобных предписаний бывали и прежде, но заканчивалось обычно тем, что на службу меня не брали, и это меня немало огорчало. Но на этот раз, после медицинского освидетельствования, мне был задан вопрос: "Есть ли у вас репрессированные родственники?" Я ответил, что из родственников таких нет. Но указал, что жена из спецпереселенцев.
– Так жена ведь – самый близкий родственник! – было утверждающе сказано одним из членов комиссии, и тут же было дополнено, что я призываюсь для прохождения действительной службы.
Жена была опечалена. Она сразу же представила, какое бедственное положение ожидает ее без меня: ребенок нездоров, пойти работать – надо сдавать ребенка в детские ясли, но больного туда не возьмут. Как жить? Денежных сбережений у нас не было, запасов продовольствия тоже. Все деньги, которые я получил при увольнении с работы, оставил жене, но это не было выходом из положения – уходил не на месяц, не на два… Тяжело было на душе.
Провожала меня Маша только до трамвайной остановки. Я не знал, что еще полные сутки буду в Нижнем Тагиле, во Дворце железнодорожников, и сожалел, что поторопился проститься с женой. Наверно, совсем не обязательно говорить, как много было таких же, как я, не прошедших вовремя действительной военной службы. Многие из нас были в возрасте двадцати пяти – двадцати восьми лет, имели семьи, работали на самых разных, порой ответственных должностях и теперь должны учиться и беспрекословно подчиняться своему прямому начальнику, который мог быть лет на пять-шесть моложе.
Наш эшелон был отправлен лишь вечером 27 июня. Под Ленинградом стало ясно, что везут нас на территорию, где совсем недавно шла война с Финляндией. Конечной остановкой стал город Сортавала, где на окраине, с его северо-западной стороны, в чистом поле, был разбит палаточный лагерь. Здесь мы были обязаны жить до осени, проходить курс молодого бойца, словом, учиться военному делу. Давалось нам нелегко: трудно было втягиваться в воинскую дисциплину, учиться военному языку, правилам доклада, рапорта, обращения к старшему и так далее. Осенью после принятия присяги в составе группы сослуживцев я был откомандирован в местечко Вартсиля и зачислен в первую роту триста шестьдесят седьмого стрелкового (пехотного) полка.
И опять напряженная служба. Именно в 1940 году в Красной Армии была значительно повышена требовательность: обучение проходило в обстановке, максимально приближенной к боевой. Совершались походы с полной боевой выкладкой, проводились тактические учения в полевых условиях даже в зимний период с ночевками в лесах у костра. Командир роты старший лейтенант Ребров отличался исключительной требовательностью, взыскательностью, даже бессердечностью по отношению к красноармейцам. Взыскание грозило за самый пустячный проступок – никому никаких снисхождений.
Особо заметных следов прошедшей военной кампании в тех местах не было. Городок не был разрушен даже в малой доле – он сохранился вполне чистым, даже нарядным. Но, в общем, мы очень мало знали о той зимней «незнаменитой» войне с Финляндией 1939–1940 годов. В нашем сознании еще жила вера, что если завтра война, если враг нападет – будем бить врага на его территории "малой кровью, могучим ударом".
В целом же служба в Красной Армии для нас проходила, наверное, самым обычным порядком, и была надежда, что так она и закончится и настанет день, когда мы возвратимся к своим семьям и будем счастливы. Так хотелось думать, так я писал в моих письмах к жене, чтобы хоть словом… чем же я мог ей помочь, кроме сердечного слова?
22 июня 1941 года я был в карауле и с четырех до шести часов утра стоял на посту по охране и обороне склада учебных пособий. От армейских казарм склад находился примерно в пятистах метрах, и мне хорошо было видно, что в начале шестого часа от казарм мчался галопом красноармеец-связной, держа на поводу вторую лошадь для командира. Мне показалось странным, что связной был в неполной форме – на нем не было гимнастерки, а только нательная белая рубашка. Через несколько минут заметил, что в казармах и около них было необычайное оживление. Сначала подумал, что это учебная тревога, но тут же засомневался: "Что-то случилось особое". Вскоре сменились часовые, и я узнал, что Германия напала на Советский Союз и уже бомбила Киев. Все боевые подразделения полка оставили казармы. Наша рота заняла указанный участок обороны, рыла окопы, хотя еще было неясно, откуда можно ожидать противника. Обзор, однако, держали в сторону границы.
Первые три дня мы не слыхали ни единого выстрела, но на четвертый стало известно, что финны напали на пограничную заставу, которая была в девяти километрах от расположения нашей части по прямой, через болото. Иных путей к заставе не было. В тот же день одно отделение нашего взвода ушло на помощь заставе. Через сутки из посланного отделения вернулись пятеро. Они рассказали, что к моменту их прихода застава уже была занята финнами, что они встретили их автоматным огнем и что четверо из наших были убиты; одного товарища, раненного в живот, несли примерно половину пути, но по просьбе самого раненого оставили его на маленьком болотном островке. Он просил оставить ему гранату, а самим спешить в подразделение и рассказать обо всем, что произошло.
Это сообщение нас потрясло: оставить раненого товарища в одиночестве, на гибель – это никакими объяснениями нельзя было оправдать. Я не выдержал и с негодованием упрекал вернувшихся в том, что поступок их был жесток и неоправдаем. Я считал, что оставлять тяжелораненого ни при каких обстоятельствах нельзя, что кто-то из них должен был остаться возле него и ждать помощи.
Война показывала нам свое жестокое лицо.
Наша рота в полном боевом составе была послана в район погранзаставы с задачей выбить из нее финнов и овладеть заставой. Путь туда, как уже было упомянуто, лежал через болото и две небольшие речки в зыбкой, болотной местности. Продвижение было медленным и трудным: более двух часов мы шли, подминая под себя мшистую гладь дикой тундроподобной равнины. Шли молча и, наверное, каждый из нас был охвачен гнетущей мыслью: приближались к затаившемуся коварному противнику, находящемуся в более выгодном положении, чем мы: он нас мог видеть, а мы его – нет.
Впереди обозначилось начало возвышенности, поросшей мелколесьем и кустарником, за которыми просматривались хвойные деревья, с прогалом по верхней части возвышенности. По цепи передали остановиться. Когда все подтянулись, была поставлена задача развернуться и продвигаться на возвышенность.
Мы шли широким фронтом, полагая, что где-то неподалеку находится погранзастава, занятая финнами. Зрительно мы держались друг друга, в напряжении ожидая встречи с противником, держа наготове винтовки. Один сержант как-то незаметно выдвинулся вперед, послышался выстрел и надрывный крик: "Я ранен, товарищи!" Мы увидели его лежащим. Вцепившись руками в ногу, он сбивчиво объяснял, что видел финского офицера, который опередил его выстрелом и успел скрыться. Последовала громкая команда: "Вперед!" Мы достигли вершины, где начинался крутой склон, залегли. Противник молчал. Не было видно и каких-либо признаков заставы. Впереди крутого спуска вновь обозначалось болото, и вряд ли нужно было нам продвигаться вниз по крутому склону, не уточнив обстановку. Но наше командование никаких уточнений не предприняло, мы начали спускаться. Вот тут-то и открыл противник полный автоматный и минометный огонь по нашей роте, пришив ее, как гвоздями, к крутому откосу, оставаясь невидимым и неуязвимым – наши ответные выстрелы были неприцельными и, как говорится, в белый свет. Три четверти состава роты остались там, на той возвышенности, среди диких болот. Добрая половина из оставшихся там была ранена. Спасти их мы не могли.
Вышло нас из этой «операции», по предварительным подсчетам, сорок два человека из ста шестидесяти списочного состава роты.
Оставалось загадкой, где были во время этой трагической «операции» командир роты старший лейтенант Ребров и замполит Вовк. Никто из оставшихся в живых не видел их в бою, и мы не знали, как нам быть дальше. Выйдя на дорогу неподалеку от первого места обороны, мы решили послать кого-нибудь в штаб полка (местонахождение его приблизительно было известно), чтобы дать знать командованию о том, что произошло, и получить какие-либо указания. Один из нас (фамилию не помню) согласился выполнить это поручение. К вечеру того же дня он возвратился и рассказал, что в штабе полка видел командира нашей роты Реброва и замполита Вовка. Они были отстранены от командования ротой.
Под командованием младшего лейтенанта Кормишина наша группа отходила в направлении Сорталавы, преследуемая финнами. Мы останавливались, занимали оборону, окапывались, но после непродолжительного сопротивления вновь отходили, неся потери в живой силе. На одном из рубежей обороны наша группа была частично усилена приписным составом, но положение оставалось по-прежнему критическим, и создавалось впечатление, что мы действовали вне связи со старшим командованием, не получали ни боеприпасов, ни пищи.
В районе местечка Харлу остатки нашей роты были присоединены ко второй роте, где командиром был старший лейтенант Жаров. Здесь нам разрешили немного отдохнуть. Вместе со мной Жаров отошел метров на семьдесят и расположился в маленьком домике на полу, чтобы немного поспать, а я стал подзаряжать диск его автомата ППД. В домике мы расположились по желанию самого старшего лейтенанта и, может, потому как-то не думалось о неожиданном нападении противника. Не было слышно никакой стрельбы. Но прошло минут двадцать, я только что успел подзарядить диск автомата и принялся осматривать свою винтовку, как услышал тихое пыхтение мотора. Взглянув в окошко, так и обомлел: в каких-то пяти – восьми метрах от домика медленно двигался, разворачивая башню, пятнистый танк со свастикой. Не помня себя, я бросился к задремавшему командиру, успел сказать, что рядом танк противника, и он все понял – схватил автомат, пулей выскочил из домика в заросли, которые были рядом. В то же время застрочили автоматы по домику, посыпались стекла и пыль, а я еще не успел собрать свою винтовку. Прижавшись к стене, лежа на полу, я не мог сообразить, что делать. Стрельба продолжалась, где-то рядом слышались чужие слова. Стук – дверь тут же распахнулась, и я увидел двух или трех финнов с автоматами наготове. Это случилось 16 июля 1941 года.
В точности не могу рассказать о том, какими мыслями я был занят в те первые минуты пленения, когда, крича и толкая в спину стволами автоматов, финны вели меня лесом без всякой заметной тропы. Видимо, не было во мне ничего, кроме страха и видений неминуемого конца, сожалений о том, что из прежних надежд ничто не свершилось, что так напрасно потрачены годы.
Показалась дорога, и это обещало надежду на некое продление… может, правда, лишь мучений и стыда перед собственной судьбой. Навстречу проезжали солдаты на велосипедах, реже – на мотоциклах. Они на ходу бросали своему сослуживцу, похоже, слова приветствий или вопросов, притормаживая, в упор всматриваясь в пленного: "Большевик?" И было до боли унизительно чувствовать себя в положении пленника. И вот ведет меня солдат, малой страны, не ведающий о том, что по классу я, в сущности, никакой не враг для него.
Полтора-два километра шли той дорогой, прежде чем свернули к подворью небольшой крестьянской усадьбы. Под купой березок были военные, дымилась кухня, стояли две рыжие лошади, за столом сидели офицеры. Среди них были говорящие по-русски, мне было сказано: "Можете сесть", когда я был еще в пяти-шести метрах от стола. Через несколько минут привели еще одного пленного. К нему подошел офицер, говоривший по-русски, и я слышал, как этот пленный на очень плохом наречии недостойно рассказывал о положении в Красной Армии, показывая обувь, где почему-то, действительно, подошва у носка была оторвана и выглядела открытым «ртом». Его не стали слушать, велели сесть рядом со мной. Привели еще пленного, очень полного, похожего, на мой взгляд, отнюдь не на рабочего человека, а, скорее, на какого-нибудь снабженца или пищевика-руководителя. Ему тоже указали место рядом со мной. Грубостей и жестокостей финны пока не проявляли и не спешили расспрашивать о чем-либо из войсковой жизни.
Через некоторое время пришел небольшой автобус, на котором под охраной увезли нас километров за десять на другой хутор, где и допросили каждого из нас в отдельности. Вел допрос финский офицер, свободно владевший русским. Как и можно было ожидать, помимо имени, года и места рождения спрашивал, из какой части, о местах службы до войны, фамилии командиров, политруков, когда был призван по мобилизации. Последний вопрос был задан, видимо, потому, что по возрасту я должен был числиться в запасе и для него было непонятно, почему я призван в армию позже обычного призывного возраста. Были вопросы, относящиеся к области вооружения, на которые я не мог ничего ответить, кроме "не знаю". Но то, что я из 367-го полка, скрывать было бесполезно – финнам было известно, что в районе Вяртсиля стоял именно этот стрелковый полк. Свою истинную фамилию я не назвал, заменив ее другой, схожей в звучании – Березовский. Сделал так из опасений, чтобы никак не могли ее использовать во вред родственникам, например, братьям, которые тоже были или могли быть на фронте. Каждого после допроса уводили и закрывали в отсеке скотного двора, где уже было несколько пленных. В этом помещении нас держали дней пять, не проявляя ни интереса к нам, ни заботы о том, как мы себя чувствуем и в чем нуждаемся. Раз или два в день какой-то в штатском приоткрывал дверь, передавал буханку очень черствого трофейного русского хлеба, ставил ведро воды, произнося: "Посалуста, кушать руски лейп", и опять запирал дверь, лишая нас света и тем давая понять весь ужас жизни в плену.
Среди нас, семерых, не оказалось ни одного знакомого. Этот вопрос был важен для меня: в случае встречи со знакомым я тут же должен был предупредить его не называть меня по фамилии, а еще лучше – не знать вовсе. Это было началом неизвестности финского плена. Чувствовал я себя мучительно: мысли терзали насмерть. И никуда не деться, не изгнать из себя память о жене-мученице, о родных младенцах – жена оставалась беременной, она писала мне об этом, и я знал, что родилась девочка, по моей просьбе ее назвали Тамарой.
Наконец нас посадили в автобус и отвезли километров за двадцать-тридцать во временный лагерь. Это был большой сенной сарай с перекрытием из жердей, огороженный колючей проволокой. Там было до трехсот советских военнопленных. Русских оставляли внизу, а всех, принадлежащих к другим национальностям, в том числе и украинцев, заставили подняться на перекрытие (то есть на верхний ярус), что можно было понять, как в лучшие условия. О питании и санитарных условиях нельзя говорить без содрогания: находившиеся наверху справляли естественные нужды куда придется, из-за чего внизу было просто невыносимо. В этом лагере мне пришлось быть только двое суток. Встретил одного пленного из первой роты, из отделения минометчиков, который был ранен в ногу. Успел предупредить его, чтобы не называл меня по фамилии. Больше мне не пришлось его нигде встречать.
Из этого лагеря в группе из ста человек я был отправлен на какой-то металлургический завод. На этот раз этапировали нас пешком под конвоем со служебными собаками. Шли всю ночь, не отдыхая. Конвой был очень строгим: ругань и угрозы висели над нами беспрерывно: "Рюсся, пер-р-келе! Са-атана! Юмалаута!" На завод пришли утром, где должны были разгружать металлическую стружку с железнодорожных платформ. Что это была за работа, описать трудно: от немыслимо сцепившейся и слежавшейся массы острорежущих стальных спиралей мы должны были голыми руками отрывать ком и сбрасывать его с платформы. Это были неописуемые муки вконец измученных пленников, для которых ниоткуда нет и не может быть никакой помощи и никакого сочувствия. Кому адресовались их бессловесные проклятия, можно только предполагать, но что проклятий не могло не быть – это уже точно.
Лагерем для нас был временный навес с отгороженным из тонких досок отделением для кухни. Все это вместе с примитивной будкой-уборной было обнесено ограждением из колючей проволоки.







