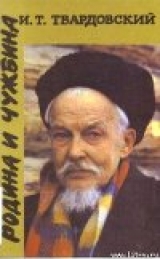
Текст книги "Родина и чужбина"
Автор книги: Иван Твардовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
Я приехал в субботу. В Швеции в этот день работа прекращается в четырнадцать ноль-ноль, так что в мастерской уже никого не было, и было предложено посидеть за чашкой кофе, по шведскому обыкновению знакомства с новым человеком. Происходило это в кабинете Гарри, мы сидели в удобных креслах возле очень низенького столика какой-то странной, асимметричной формы. Супруги Свенсон были очень гостеприимны и располагающе внимательны, может, потому, что они впервые видели русского человека и это было для них весьма интересно. Разумеется, какой-то серьезной беседы получиться не могло, поскольку шведским языком я владел еще довольно слабо, ответить даже на профессиональные вопросы мог лишь кое-как, и выходом из положения оставалось – показать свои работы, находившиеся в чемодане. И тут я спохватился и испытал конфуз, подумал, что Гарри забыл свое обещание, и посожалел, что согласился оставить чемодан. Но обошлось все хорошо – чемодан был доставлен; хотя я и не заметил, когда и кому было поручено это сделать.
Не знаю, почему получилось так, что еще не зная и не представляя, чем занимаются мастера-шведы в мастерских Свенсона, еще не видя их мастерства, я решился показать свои работы, которые сам не считал вполне удачными. Правда, в этом я не спешил кому-либо признаваться, хотя чувства такие были. У меня имелись три небольшие работы: настольная миниатюра в дереве "Медный всадник" (боязно об этом даже сказать – копия знаменитой скульптуры Этьена Фальконе), нечто аллегорическое в виде пепельницы – "Лиса возле пня" и еще статуэтка «Лось» в спокойном состоянии.
То, с каким чувством я вынимал из чемодана эти вещицы, чтобы выставить для обзора и оценки (пусть не в выставочном зале, а в квартире частного предпринимателя из Швеции), читатель может сам представить. Попросив убрать со стола кофейные чашки и вазу и отодвинуть кресла, первым я поставил на стол моего "Медного всадника", затем «Лису» и последним – «Лося». Супруги такого явно не ожидали и смотрели как оцепенелые, не смея что-либо сказать какое-то время, после чего Свенсон обратился ко мне, разумеется, по-шведски:
– Дай твою руку, Иван! Я приветствую тебя и благодарю! Ты – скульптор!
Какого-либо официального договора между мной и Гарри, как работника с работодателем, заключено не было – меня устраивало вполне то, что он предлагал. Начал он с того, что попросил, с оговоркой "если можно", продать ему эти, привезенные мной три вещицы, которые он намерен где-то показать, узнать, какие будут суждения и так далее, словом – иметь на них право. Мне показалось неудобным назначать какую-то цену – не первые и не последние они были в моей жизни, – я с удовольствием отдал их тут же в виде подарка. Как подарок принять он не хотел – стеснялся, думаю, боялся показаться нескромным, но я настоял, чтобы он взял.
– Ладно, о делах – потом! А сейчас прошу к столу – Хелен давно ждет!
В этот момент меня познакомили с отцом Хелен, шестидесятидвухлетним Конрадом Хёглюндом, который показался мне очень приветливым и интересным человеком; проживал он в доме Гарри на втором (чердачном) этаже. Был у Свенсонов и сынишка, тринадцатилетний Магне. Гарри и Хелен было чуть больше тридцати.
Обед, как можно понять, был непредусмотренный, и это как раз было хорошо, душевно, по-людски. Здесь же, за столом, решился вопрос о жилье и питании, что было весьма важно для меня. Получилось так, что едва я намекнул, что не знаю, как устроиться с жильем, Гарри понял меня и не раздумывая предложил: "Располагайся в кабинете! К твоим услугам тахта, радиоприемник, телефон, письменный стол – живи, обедай вместе с нами, чувствуй себя как дома!" Я, право же, не совсем поверил, но оказалось, что супруги об этом уже имели разговор, – Хелен подтвердила, что все так и есть.
– Еще вот что я хочу, Иван, сказать, – вновь начал Гарри, – об оплате: доверяю тебе самому называть цену за каждую отдельную работу. И даю тебе право свободно заниматься той работой, которая тебя будет интересовать. А дальше дело покажет, как нам будет удобнее.
Кажется, я ничего не сказал в ответ, даже того, что принято в таких случаях, – «Спасибо» или "Большое спасибо", – а, пожав плечами, лишь загадочно кивнул, как бы не совсем понимая. В это время старый Конрад перехватил мое внимание на себя, начал спрашивать о впечатлениях, и течение застольной беседы пошло иным направлением. Вскоре Конрад предложил прогулку. Близился вечер, и я был рад составить старому шведу компанию. Этот человек импонировал мне тем, что держал себя независимо и совершенно не вмешивался в вопросы, его не касающиеся, в его натуре угадывалась знакомая черта всех пожилых людей – что-то вспомнить из далекого прошлого и рассказать с чувством законного права по возрасту и, может, причастности к тому, о чем могла быть речь. Прогулка была интересна сама собой: нужно было взглянуть, ознакомиться, послушать человека, который охотно рассказывал и показывал все, что имело отношение к истории данного населенного пункта, о стране, которую я еще очень мало знал. Кратчайшим путем, по крутому склону, мы спустились к реке Индальсэльвен, где Конрад показал мне единственный древний бревенчатый небольшой дом, сохраняемый как исторический мемориал, как память тяжких последствий завоевательных походов короля Карла XII. Шведы были доведены до крайней бедности, как пояснял мой спутник. Дом действительно был очень невзрачен: совершенно почерневший, маленькие оконные проемы, кровля на один скат из покрывшихся мхом плах. Здесь же мы смотрели на современный мост через реку, он был на необычайно высоких опорах, поскольку река протекает в глубоком каньоне между крутых склонов. На обратном пути я имел возможность ознакомиться с центральной частью этого населенного пункта, где бросалось в глаза множество торговых заведений, различных мастерских, агентств, частных врачебных кабинетов, учреждений и пансионов, так что впечатления складывались как о процветающем, торговом местечке или городке, где течет мирная и благополучная жизнь.
Сказать, что я так сразу и почувствовал себя "как дома", поселясь в кабинете своего хозяина Гарри Свенсона, после его слов, что он готов предоставить мне, как говорят, наибольшее благоприятствование, конечно же я не мог. Я понимал, что проявление подобной благожелательности представляется поспешным и потому не убедительным. Мне показалось, что Гарри просто не в курсе трудовых затрат при исполнении скульптурных изображений в миниатюрах, где исходным материалом является дерево. Короче: я заподозрил, что Гарри ошибочно ожидает большего, чем я в состоянии сделать, находясь в его мастерских, и это меня как-то тяготило.
Однако я смог отбросить такие навязавшиеся суждения и вскоре пришел к выводу, что все прояснится само собой и нет причин строить догадки о том, что будет завтра. Так я рассуждал в тот первый вечер, находясь в кабинете хозяина, где к моим услугам было все необходимое для сна и отдыха, и надо признаться, что о лучших условиях было бы грешно и мечтать. И было, право же, как-то непривычно после всех мытарств так вот вдруг оказаться в неведомой мне шведской семье, где без каких-либо моих просьб и условий я встретил такое теплое отношение и сердечность, на которые не знал даже, какими словами можно было достойно ответить. Я долго не мог уснуть.
Утром следующего дня (это было воскресенье, встал я в шесть часов) по привычке вышел во двор, умылся и тут же был замечен и приглашен на кофе – шведы без кофе не мыслят жизни. Через некоторое время, когда к Свенсонам пришли их знакомые, я услышал, что они при обращении или называя чье-то имя, прибавляли еще слова «брат» или «сестра». В их собеседованиях, проходивших в очень сдержанной манере, мелькали упоминания об Иисусе Христе, а также и о Евангелических общинах, о молитвах, о спасении. Когда же они представляли меня своим друзьям, можно было понять, что я явился к ним по воле Божьей и что они рады этому случаю. Тогда же я понял, что нахожусь в семье евангелистов лютеранской церкви. Чем существенным она отличалась от православной, я узнал позже, а поначалу это было только интересно, и я ничего плохого не замечал в людях, исповедующих протестантство, называющихся евангелистами. Мой первый день работы в мастерских Свенсона начался с общего ознакомления с производственной деятельностью этого очень небольшого частного предприятия. Хозяин всячески старался придать побольше солидности своему детищу. Он показывал и объяснял, как происходит механизированная первичная обработка заготовок с последующей их ручной доработкой. После этого изделия имели вид выполненных вручную, что особенно ценится. Находясь в отсеке, где были установлены различные деревообрабатывающие станки, Гарри Свенсон брал из груды механически обработанных заготовку и пояснял:
– Это – будущая ваза! Смотреть пока не на что – здесь все снято и вынуто механически и грубо. Все это так! А теперь мы посмотрим, какой она должна стать при окончательной обработке мастером-резчиком.
Мы прошли в небольшое помещение, где изделия тонируют и светлым лаком проявляют текстуру, имитируя ценное дерево.
– Ну? Какое впечатление? – глядя на меня с любопытством и нетерпением, спрашивал Гарри.
Я действительно был немало удивлен – изделие было неузнаваемым и симпатичным, чего нельзя было не признать. Но вот то, что я не увидел разнообразия форм, что все эти вазы, подсвечники, подносы ничем существенным не отличались один от другого, в моем представлении было серьезным недостатком, и об этом я посмел что-то сказать. Хозяин понял и согласился:
– Да, это правда! Но я надеюсь… – он, не договорив, взглянул на меня. Я все понял.
Когда мы вошли в помещение, где работали резчики – их было всего четыре человека, – Гарри простецки поприветствовал их, подобно нашему "Здорово, ребята!" и сразу же, попросив внимания, представил им меня, как требовал заведенный порядок, не упустив сказать, что я русский и что новому человеку нужно доброе, дружеское внимание и уважение. Помимо всего, Гарри сказал, что мне предстоит заниматься сувенирами, что это дело для них совсем незнакомое и будет всем интересно. Работа, естественно, была прервана, мне пожимали руку, искренне приветствовали, называли свои имена. Словом, получалось очень схоже с тем, как могло бы происходить подобное на родине, в России. И было мне как-то грустно, хотя и мило. Тут же я узнал, что двое из ребят, которые помоложе, Хельберт и Хенри Свенсоны, – родные братья хозяина мастерских. Третий был лет тридцати, симпатичный спортсмен (каноэ) Вилли Бьёрк – местный житель, и четвертый – эстонец беженец по фамилии Ливлайд. С того дня в мастерской Гарри Свенсона вместе со мной стало пять резчиков по дереву. Все вспомогательные работы, как то: разделку древесины, ее сушку, грубую предварительную обработку заготовок на деревообрабатывающих станках, – выполнял сам хозяин. Что же касается отделки тонированием и покрытием лаками, то этими работами занималась сама хозяйка Хелен и одна девушка из родственников. Столь подробное описание я делаю лишь для того, чтобы можно было представить потенциальный размах самого предприятия с громким названием "Свенсоснс треснидери" ("Резьба по дереву Свенсона") – всего-навсего восемь человек работающих, в том числе в роли рабочего сам предприниматель. Но мне-то, природному кустарю-одиночке, это как раз было то, что надо на тот момент: хозяин был рад предоставить мне самые благоприятные условия для работы, самостоятельность и свободу.
Включиться в работу на новом месте и сразу же создать о себе впечатление как об опытном, знающем свое дело мастере совсем не так просто, и это мне было хорошо знакомо. Помимо всего, я находился под любопытным взглядом людей чужой страны – еще более непросто. Я это знал и потому очень неспешно устраивал свое рабочее место, чтобы все у меня было по-своему, чтобы я мог работать и сидя, и стоя. Прежде чем что-либо начинать делать, я должен был просмотреть и продуманно подобрать наиболее декоративный материал для предполагаемых мной изделий, формы которых я всегда отыскивал мысленным воображением. Я совсем не намерен выдавать себя за какого-то художника-кудесника и позволяю читателю думать обо мне что угодно, тем более что нигде не называл себя иначе как «кустарем-одиночкой». И метод моей работы с деревом ниоткуда не заимствован. Может, это покажется странным, но это так: формы и приемы работы давала сама моя трудная жизнь и природа, к которой я всегда оставался неравнодушен. Моим любимым исходным материалом было дерево. Что же касается того, какой древесной породе я отдавал предпочтение, то это чаще зависело от возможностей выбора материала с учетом того, о какой работе вставал вопрос. Для особо утонченных, ажурных, филигранных работ желательны только самые твердые, но однородноэластичные породы: груша, яблоня, отдельные виды березового капа, акация, как белая, так и желтая. Конечно, есть много других прекрасных пород, но я упоминаю только те, которые произрастают в средней и северной частях России.
Здесь я позволю себе сказать о принципах моей работы. Дело в том, что, увлекаясь с отроческих лет миниатюрным изображением животных методом ваяния, я никогда не стремился к стилизации, то есть к той условности, которая может преобладать над реалистической передачей действительности. Такова черта моих увлечений – я скрупулезно добивался точности запечатленных мной действительных форм, считая, что дерево как материал такие требования обеспечивает. Другое дело, как мне это удавалось? Достигал ли я этой цели? Но об этом не мне судить.
На предприятии Гарри Свенсона я не имел ясного представления, как сложится моя жизнь даже в сравнительно недалеком будущем. Смириться с мыслью, что для меня навсегда закрыт путь на Родину, не хотел, хотя и знал, что такое сталинский тоталитарный режим и как разговаривают с теми, кто после войны посмеет возвратиться из страны, где он был интернирован. Допуская в размышлениях сцену возвращения и, значит, той воображаемой встречи с должностным лицом из органов сталинско-бериевского МГБ, облаченным правом решать твою судьбу, ты ничего иного не можешь представить, кроме желчной усмешки и злобного взгляда, жаждущего показать силу предоставленной ему власти, чтобы садистски унизить и подавить свою жертву. Приведенные психологически-навязчивые видения могут ощущаться зримо и угнетающе, и человек не находит в себе сил, чтобы не оказаться в состоянии глубокой психической депрессии, избавиться от которой нет мочи.
И еще вот что мной замечено. В случае, когда человек не испытывает материальных трудностей на чужбине, а в Швеции было именно так, еще более ощутима щемящая тоска по Родине. Я это испытал в полной мере. Работая у шведов в лесу, только что получив свободу и возможность работать по найму, а стало быть, и зарабатывать, недолгое время ты еще не думаешь о том, что все вокруг тебя чужое, ты под чужим небом, ты в чужом лесу, ты слышишь чужую речь, то есть ты еще не почувствовал и не осознал, что вся эта вполне благоустроенная жизнь создана без твоего участия и если ты и пользуешься этими благами, то ведь не как гражданин, а лишь как пришелец, принятый из чувств милосердия. Но вот ты надел хорошие штаны и имеешь возможность быть сытым, и сразу же не можешь не вспомнить разоренную войной твою Родину, своих кровнородных, которые – ты понимаешь и чувствуешь – живут в тяжелейших условиях, вспоминают твое имя, не могут не оплакивать твою гибель; "пропал без вести" – такие мысли разрывают на части твое сердце. Вырваться из подобного состояния очень трудно, и то единственное, что как-то помогало обрести душевное равновесие, была моя работа, которой я был занят, не побоюсь этого слова – творчески и профессионально. Кроме того, должен признаться, что мне еще и повезло: волей, может, чистой случайности я оказался в семье глубоковерующих людей местной евангелической общины, где всегда сохранялась атмосфера доброжелательности и сочувствия. Конечно, обратить меня в истинно верующего в Бога вряд ли было возможно – слишком далеко мы, русские, ушли от религии, но нельзя было не замечать той постоянно присутствующей доброты у верующих в их отношениях в семье между собой, равно как и в отношениях вообще к любому человеку. Они безупречно отзывчивы, терпеливы, скромны и последовательны, и я мог только позавидовать их воспитанности.
За два с небольшим года моей жизни в Швеции страну эту я узнал только примерно, как бы со стороны. Более полугода работал в лесу, на отшибе от населенных мест, с коренными жителями встречался мало. Затем, опять же, жил и работал в небольшом, провинциальном торговом местечке Индальсэльвен, так что не так-то много я могу рассказать об этом некогда грозном и воинственном государстве. В индустриальных шведских городах бывать мне совсем не случилось. Но если судить о сельской местности, то тут надо признаться, что впечатления складывались самые хорошие, особенно от культуры ведения сельского хозяйства. В общем же я не вижу необходимости распространяться о жизни шведского народа в те далекие годы – всем хорошо известно, что Швецию не коснулась война 1941–1945 годов, эта страна сохранила нейтралитет, и, естественно, ее жизненный уровень был тогда самым высоким в Европе.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Стокгольм, двадцатые числа декабре 1946 года. Был ли это вторник, четверг, суббота или какой иной день, сказать не могу – об этом я в тот момент не думал – мне было безразлично. Возле железнодорожного вокзала я попросил таксиста отвезти меня в Советское представительство.
Такси остановилось как раз у подъезда, где я имел возможность прочитать: "Полномочное представительство СССР". Здесь же, прямо на тихой заснеженной улочке Вилагатан (улица Отдыха), я увидел и услышал играющих русских детей и тем был приятно тронут, что передо мной предстала такая знакомая картина обычной русской зимы.
Не зная, что меня могло ожидать в представительстве моей Родины, я не стал отпускать шофера, поднялся на ступеньки подъезда и нажал на кнопку звонка. Дверь открылась. Я увидел важного вида и крупного роста швейцара в ливрее, который, кажется, первым спросил: "Кого имею честь встречать?" Вопрос был ясен. Я ответил, что являюсь русским интернированным и хочу узнать, куда я должен обратиться по вопросу возвращения на Родину.
– Я вас понял! – сказал швейцар и продолжил: – Вопросами возвращенцев на Родину, в Советский Союз, ведает консульство СССР. Оно находится в доме номер… по этой же улице, на противоположной стороне, это совсем рядом.
Я поблагодарил, извинился за беспокойство и с тем раскланялся. С этой минуты такси мне больше не потребовалось до конца 1952 года…
На мой звонок в консульство СССР в Стокгольме вышла миловидная, восточной внешности брюнетка. Я поприветствовал ее по-шведски и спросил, могу ли быть принятым консулом, но она меня не поняла. Тогда я спросил: "тогда, наверно, вы говорите по-русски?" – "Ну, конечно же!" – ответила она, добродушно улыбаясь, и тут же предложила пройти с ней в помещение. Тут же из другой комнаты вышел молодой мужчина, представился мне в качестве консула, назвал себя по фамилии Петропавловский, и таким вот образом было начато мое официальное знакомство и беседа по интересовавшему меня вопросу. Но надо сразу же учесть, что пишу я об этой встрече с советским консулом в Стокгольме спустя полвека – немало утекло воды за этот отрезок времени, и мне стоит трудов в доподлинности воспроизвести все о том часе моей встречи. Он, консул Петропавловский (к сожалению, уже не могу назвать его по имени-отчеству – запамятовал), был изысканно тактичен, вежлив и осторожен, что мной воспринималось как своего рода опасение: "не испугать бы" неосторожным словом, так как я еще располагал правом подумать – согласиться и назвать свое имя или же воздержаться в откровениях. Пока я сказал лишь о том, что я – русский, интернированный Швецией в 1944 году.
– Да, да, простите, как вас звать? – как бы спохватившись, спросил консул, продолжая говорить о том, что он охотно готов помочь мне в вопросе выезда на Родину.
– Ну вот и прекрасно, Иван Трифонович! Мы вас сейчас же поселим в нашу гостиницу – мы ее арендуем. Вы пока отдохните здесь, в шведской столице, может, дней пять-шесть, мы закажем вам билет на очередной пароход, и вы без всяких хлопот прибудете в финский порт Турку, там вас встретят, помогут с билетом на поезд до Хельсинки, ну и так далее. Все это не будет проблемой вплоть до вашего дома. Вот так, уважаемый Иван Трифонович! Вам все понятно, и вы согласны?
Мне, конечно, все было понятно, даже больше, чем мог предполагать тот симпатичный консул.
– Тогда о чем же речь? Все будет сделано лучшим образом, заверяю вас в этом! Давайте ваш шведский паспорт!
Я подал в руки консула тощую книжицу, именуемую на шведском языке "Утленнингс паспорт" ("Паспорт иностранца"), которую, кажется, мне так и не пришлось где-либо предъявлять за все время пребывания в Швеции. Консул раскрыл корочки и… не знаю уж, как передать его удивление. Сначала он положил паспорт на стол, на какой-то миг сцепив на груди свои руки, откинулся на спинку кресла, потом встал, молча покачал головой и, взглянув на меня, сказал:
– Уважаемый Иван Трифонович! Я глубоко и сочувственно тронут тем, что случилась такая встреча. Дело в том, Иван Трифонович, – продолжал консул, – что именно сегодня, в день вашего обращения к нам по вопросу возвращения на Родину, мы получили-свежий номер журнала «Огонек», который открывается стихотворением поэта Александра Твардовского "О Родине". Уверен, что вы об этом не могли знать, и потому я так глубоко тронут этим символическим совпадением. Будем же надеяться, что это к счастью.
Журнал был тут же принесен, чтобы я мог сам прочитать это щемяще-трогательное стихотворение брата "О Родине". Стихотворение непередаваемо потрясло меня самим совпадением сложившихся во мне на чужбине чувств о Родине с той сыновней любовью к отчим местам, которой наполнена каждая строфа брата:
Ничем сторона не богата,
А мне уже тем хороша,
Что там наудачу когда-то
Моя народилась душа.
Что в дальней дали зарубежной,
О многом забыв на войне,
С тоской и тревогою нежной
Я думал о той стороне…
Я не в силах был удержать застилающие глаза слезы – читал прерываясь от строфы к строфе в состоянии томительного волнения. И пусть оно так, что стихотворение посвящено малой родине, отчим местам, о которых поэт еще в юности говорил, что "И шумы лесные, и говоры птичьи, и бедной природы простое обличье я в памяти все берегу, не теряя, за тысячу верст от родимого края".
Моя встреча с советским консулом в Стокгольме закончилась тем, что я был причислен по графе возвращающихся на Родину. На время ожидания моей отправки очередным пароходом из Стокгольма в финский порт Турку я находился в гостинице.
Что же такое случилось, что толкнуло меня к тому, что я вдруг оказался в Стокгольме, явился в консульство и обратился с вопросом: как мне быть, как возвратиться на Родину? На такой вопрос смею ответить только в том духе, что сам вопрос я никогда не обходил, не исключал из моей жизни на чужбине, и больше того, – я этим вопросом душевно страдал и болел, и были периоды тяжелой душевной депрессии, когда терял всякий интерес к самой жизни. Работая в мастерской Свенсона, где имел хорошие условия и хорошую зарплату, я приходил к такому конечному убеждению, что никакое материальное благополучие не может унять скорбь и тоску по родной стороне и родной семье. Сейчас я не могу сказать, как долго могло продолжаться такое состояние, если бы не попала в мои руки газета "Свенска дагбладет", в которой было напечатано на русском языке "Обращение правительства СССР ко всем советским гражданам (подданным), находящимся за границей по причине пленения или по каким иным причинам и не возвратившимся на Родину после Великой Отечественной войны". Эту газету принес мне старый Конрад Хёглюнд, отец супруги моего хозяина мастерской, кажется, в августе 1946 года, когда она была уже далеко не свежей. Вот с того момента и начал я готовиться к тому, чтобы преодолеть страх в себе и пойти на любой исход по возвращении.
Обращение правительства было напечатано по центру газетной полосы броско выделенным прямоугольником, равным четверти газетной страницы. Содержание текста было в сдержанном тоне, давалось разъяснением о том, что Советское правительство готово отнестись с пониманием к судьбе каждого соотечественника, кто не утратил чувства долга перед Родиной и правдиво расскажет о постигшем его несчастье. Ну и о том, конечно, что Родина призывает не искать счастья на чужбине, но помнить, что всяческое содействие и гуманное отношение может дать только родное Отечество.
Конечно же, я привожу лишь малую долю из того, о чем было сказано в "Обращении Советского правительства к соотечественникам, оставшимся после войны в зарубежье", вспомнить все подробно и точно за давностью лет невозможно, да вряд ли это и нужно. Мне казалось, что нужно иметь каменное сердце, чтобы не внять, не прочувствовать всю глубину трагедии тех, кто волей рока оказался в той "дальней дали зарубежной", не находя в себе сил к решительному шагу на встречу со своей отчей землей. Да, такой шаг в те годы давался не всем. И многие, как стало известно позднее, предпочли сгинуть где угодно, хоть на краю света – уезжали в Америку, в Аргентину, в Африку, даже в Австралию, если была такая возможность, лишь бы не на каторгу НКВД.
К тому времени, когда я познакомился с текстом вышеназванного обращения, мне были известны адреса некоторых русских, с которыми пришлось вместе работать в шведских лесах. Я сразу же написал им, посоветовал ознакомиться с содержанием этого официального правительственного документа, подумать и, может, отказаться от чужеземных харчей и присоединиться ко мне, вместе поехать на Родину. Но, нет, мое предложение было начисто отвергнуто. Самого же меня, как зачинщика, назвали сумасшедшим.
Старик Конрад Хёглюнд был мне наиболее симпатичен из членов семьи Свенсонов, и, можно сказать, я дружил с ним. Он был первым человеком из шведов, с которым я поделился своим намерением уехать, поскольку именно он принес мне газету "Свенска дагбладет", в которой было напечатано "Обращение".
– Мой дорогой Иван! Мне очень жаль расставаться с тобой, но по-моему, это прекрасно, что ты едешь на родную землю. Дай руку твою! – такими словами ответил мне Конрад, когда узнал, что я решился поехать на Родину.
Для богомольных евангелистов эта новость была очень неожиданной и по-особому значительной. Как-никак полтора года я жил и работал среди них без единого случая осложнений в отношениях, и я всегда чувствовал их доброе расположение, а потому предвидел, что мой отъезд не останется без внимания общины. В тот же вечер к Свенсонам собралось несколько человек, как они называют себя, "братьев и сестер во Христе", среди которых был и пастор, которого мне случалось видеть и прежде. Об этом человеке я слышал самые невероятные рассказы, в том числе и о том, что в прошлом он был бесконечно несчастным, полностью падшим, осуждаемым и что в округе его не считали за человека и все его сторонились. Но однажды он вдруг, в мгновение почувствовал себя совершенно другим человеком, освободившимся от беспросветного мрака и ужаса. В его сознании жизнь осветилась радостью, он стал глубоко верующим человеком, и в этом было его спасение. Вот такова судьба этого, в мою бытность всеми уважаемого человека, ставшего пастором Евангельской общины.
После того как отвлеченная беседа окончилась, пастор коснулся вопроса моего отъезда на Родину. Услышав от меня, что я решился на это по зову души и чувству долга, что делаю я это по собственному убеждению, он сказал, что "на это есть воля Господня" и что ничто не происходит само по себе. Затем он попросил моего согласия, чтобы я вместе с ними с молитвой поклонился Всевышнему, потому как в тяжких испытаниях только Он может прийти на помощь, только Он воздаст каждому по его страданиям на пути к Истине.
В стокгольмской гостинице, куда меня поселило Советское консульство на время ожидания парохода в Финляндию, я пробыл целую неделю на правах обычного гостя: мне было сказано, что могу куда угодно отлучаться по личным делам, но придерживаться существующего порядка, например, не задерживаться позднее двадцати трех часов вечера. Неделя эта, надо признаться, прошла в тревожном размышлении, что само по себе должно быть понятным каждому: я понимал, что на свободе нахожусь последние дни и как только поезд минет границу с СССР, то там она, свобода, сразу и закончится. В общем, правда, я не разочаровывался, держался; корабли мои уже были сожжены, отступать было некуда и сожалеть было не о чем – жизнь на чужбине была не для меня. Но был я в одиночестве.
К посадке на пароход, уходивший в Турку, меня увезли на советской «Победе» в сопровождении консула Петропавловского. Было часов восемь вечера, посадка уже шла полным ходом, так что ожидать не пришлось ни минуты. Когда предъявили билет, то проверяющий предложил сдать шведские деньги, и я, не задумываясь, отдал, оставив у себя только какую-то мелочь, не зная, что этого можно было и не делать. Вот так, без особых формальностей, прошла таможенная процедура. Петропавловский только-только успел сказать, что в Турку меня встретят, как тут же был дан сигнал – провожавшие прощались.
В финский порт Турку пришли утром. Не знаю, по каким таким приметам можно было меня опознать, но как только я начал спускаться по трапу, то сразу же увидел человека, который крикнул:
– Иван Трифонович, сюда! Сюда идите! Ну вот, видите, я вас сразу узнал! Ну, здравствуйте! Здравствуйте! Как чувствуете себя? А машина вот здесь, пройдемте! Вам ведь сейчас надо на хельсинский поезд? Ну вот, видите, все очень хорошо!
Через четыре часа или через пять поезд прибыл в Хельсинки, где точно так, как и в Турку, при выходе из вагона «товарищи» меня поджидали и назвали по имени, как старого знакомого. С поезда меня увезли, не знаю для чего, в резиденцию Советской правительственной комиссии, которая находилась в столице Финляндии. Ко мне все еще относились без заметных проявлений недоброжелательности, хотя ведь, вполне возможно, такое отношение было искренним. Здесь тоже не задержались, и было кем-то сказано, что нужно успеть пообедать перед посадкой на советский поезд.
В вокзальном ресторане в Хельсинки народу было очень много, в том числе советских военных. Пообедать успели, однако на советский поезд посадка уже шла, и кто-то из русских штатских сопроводил меня в вагон. После обычных при посадке копошений и суматохи все разместились по своим местам, и стало спокойно. Мое место было на средней полке, спешить взбираться на нее не хотелось, пошел покурить, пожалуй, только ради того, чтобы как-то сбавить нервную напряженность от всякого рода раздумий и предположений о близких и неизбежных поворотах судьбы. На какое-то малое время это может несколько отвлечь, но не больше того, так что задерживаться в окружении незнакомых людей и отвечать хотя бы и на безобидные вопросы или вступать в собеседования мне было ни к чему.







