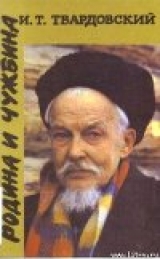
Текст книги "Родина и чужбина"
Автор книги: Иван Твардовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
Встретили нас в этой семье радушно, и два дня я провел у них, прежде чем встретиться с Александром. Узнал, что изредка им случалось видеть его, но какой-либо близости нет, встречи случайные, никаких разговоров не было.
В те же дни – так совпало – в Смоленск приехал в отпуск из Баку Михаил Плескачевский – сын брата нашей матери Григория Митрофановича. Он тоже очень хотел встретиться с Александром, чтобы показать свои рассказы, опубликованные в "Литературном Азербайджане". Это был воспитанный энергичный молодой человек, искавший свое призвание и нашедший, в конечном итоге, в журналистике: лет двадцать с лишним работал спецкором «Труда» по Азербайджану. Впоследствии, много лет спустя, Михаил Плескачевский был в очень хороших отношениях с Александром Трифоновичем, кое-что печатал в "Новом мире". Но все это будет потом. Тогда же, в 1934 году, Александр для Плескачевского был недоступен, и последний даже искал совета у Анны Митрофановны, как осуществить встречу с двоюродным братом.
Более четырех лет прошло, как я встречался с Александром, шел мне теперь двадцатый год, выглядел я не мальчишкой, а вроде бы уже, так сказать, молодым человеком: был сравнительно приодет – в костюме, с ухоженной прической, словом, обычного вида для людей моего возраста. Однако предстоящая встреча волновала меня.
Нашел я брата в самых задах улицы Краснознаменной возле склона, в двухэтажном деревянном доме, на первом этаже, в его комнате. Захватил я его в ту минуту, когда он куда-то собирался. Он стоял посреди комнаты в сорочке, на которой недоставало пуговицы. Жена его Мария Илларионовна стояла возле с приподнятыми руками, в которых была иголка с ниткой. Прервать это занятие нельзя было, и потому встреча получилась очень необычная: пришлось какую-то минуту выжидать, чувствуя себя не совсем ловко. Потом, конечно, последовали объятия, приглашения к чаю, нескончаемые вопросы:
– Ну как ты? Кто ты? Откуда? Куда?
Ответить на них сразу я не был готов, и Александр не стал добиваться моих подробных объяснений. Он как бы посожалел и даже извинился, что не может уделить должного внимания: куда-то спешил, и встреча наша была непродолжительной. Договорились увидеться еще раз, кажется, на следующий день. Но то, что он обронил такие вопросы, как: "Кто ты?", "Откуда?", понуждали меня вдуматься: как их понять? Не таят ли они тревогу брата? Не есть ли это нечто отдаляющее меня от него?
Повторная встреча тоже не была долгой. Поинтересовался он тем, что я думаю делать, чем заниматься, где устраиваться, и когда услышал, что хочу остаться в Смоленске, то стал мне говорить, что этого делать не следует. И нарисовал такую мрачную картину, что возразить ему я не нашелся.
– Смоленск для тебя, это, знаешь… – он не досказал, но, чуть помедлив, добавил: – Ты ничего хорошего здесь не найдешь. Неприятности же тебя будут поджидать на каждом шагу. Я – дело другое. Я должен жить там, где меня знают. – На слове «должен» он подчеркнуто сделал нажим и закончил следующими словами: – А тебе, поверь, Иван, лучше не оставаться здесь!
Слова "Я должен жить там, где меня знают" были для меня загадочны. С наивностью я воспринял их в том смысле, что личные его дела устроены благополучно, что ему нет нужды куда-то уезжать, искать иное место, так как его знают в Смоленске, чего нет у меня, и потому мне будет трудно. Я был огорчен: "Вот оно, – думал я, – подтверждение рассказа отца".
Никогда: ни в тридцатые годы, ни прежде, ни позже – брат не посвящал родственников в тайны своих тягот и душевных страданий. Таков был его характер: сочувствий не терпел и защиты не искал. С удивительным мужеством и спокойствием он нес груз испытаний. Но хотя бы одно слово об этом! Ни в письмах, ни при встречах, которых в течение жизни было не так уж и мало.
В 1934-м, 1935-м, да и не только в эти годы, но еще и прежде он подвергался яростным нападкам за якобы проводимую в его творчестве неверную, не соответствующую действительности и задачам дня идеологию. Ярлык "кулацкий подголосок" приклеить было несложно: сын раскулаченного отца. О том же, что вечный труженик-отец был несправедливо и жестоко обижен невеждами, волей случая оказавшимися в положении власть имущих, никто не хотел подумать.
А. И. Кондратович в книге "Александр Твардовский" на основании сохранившихся публикаций смоленских газет пишет: "Нападки такого рода повторялись не раз и не два, но в 1934 году они приобрели уже характер угрожающий. «Негодовали» как раз потому, что поэт показывает колебания крестьянина, – мол, в то время таких колебаний совсем не было: крестьянин рвался в колхоз. Обвиняли в том, что он идеализирует мечту крестьянина о своем единоличном хозяйстве и тем самым подпевает кулацкой идеологии: так и писали о Твардовском как о "кулацком подголоске".
Таким образом, моя смоленская встреча с братом совпала с тем периодом, когда он носил в душе боль тяжких обвинений от людей, с которыми был рядом, то есть от смоленских же литераторов – В. Горбатенкова, И. Каца, Н. Рыленкова, Н. Павлова, пробивавших себе дорогу в литературу путем непозволительного очернения тех, кто своим талантом мог их заслонить.
Надо думать, что Александр догадывался, что мне, как и всем остальным родным, ничего не известно об этих терроризирующих его нападках, и, видимо, не хотел, чтобы это стало известно матери: о себе он ничего не сказал.
И потом, лишь единственный раз, мне довелось слышать неодобрительный отзыв Александра Трифоновича о Н. И. Рыленкове. Это было в 1956 году 18 сентября. Вместе с А. Г. Дементьевым Александр Трифонович приехал в Смоленск, чтобы навестить мать. Было застолье, и, поскольку Рыленков жил в том же доме, на той же лестничной площадке, мать спросила Александра, пригласить ли Николая Ивановича.
– Рыленкова? – переспросил он. – Нет! Не надо! Не хорошо помнить, но что поделаешь? Для него я был "кулацкий подголосок".
Встречей с братом летом 1934 года я остался недоволен. Мне казалось, что мой приезд и сама встреча пробудили в нем, не побоюсь сказать, чувства некоей вины или даже угрызения совести. Забыть о письме к нам в ссылку, о встрече с отцом в том же Смоленске в 1931 году у подъезда Дома Советов он не мог. Так я думал, и мне было жаль брата. Нравилось мне или нет, но я не мог не учитывать того факта, что был он искренним комсомольцем двадцатых годов. Мысли во мне роились, может быть, путано и сбивчиво, но, в теперешнем моем осмыслении, мне представлялось, что революционное насилие, коснувшееся родителей, братьев и сестер, пусть ошибочно-несправедливое, как бы явилось тем пробным камнем для Александра, когда нужно было показать, чего ты действительно стоишь как комсомолец. Может, даже не кому-то показать, а прежде всего показать своему внутреннему «Я» – самому себе. Видимо, мог он рассуждать примерно так: "Каждый кулак – чей-то отец, а его дети – чьи-то братья и сестры… Чем же твои родные лучше других? Наберись мужества, скрепи сердце, не давай воли абстрактному гуманизму и тому подобным внеклассовым чувствам" (цитата из письма одного литератора ко мне). Такова могла быть логика. Если уж идешь со своей душой за коллективизацию, а значит, и за ликвидацию кулачества как класса, то просить исключения для своего отца не было моральных прав.
Есть основания верить, что в душе Александр скорбил и больно переживал допущенную местными властями несправедливость по отношению к нашей семье, но из этого ничего не следовало, аргумент для того времени весьма слабый, ибо таких, как наша семья, среди раскулаченных было много, так как четких критериев для отнесения того или иного хозяйства к числу кулацких не существовало. Если в двадцатые годы признавалось в качестве такого критерия использование наемного труда (хотя часто это был мнимый критерий, так как наемным трудом порой приходилось пользоваться по необходимости и беднякам, например: нет своей лошади или же мужских рабочих рук), то с началом коллективизации и он был отброшен.
В автобиографии Александр Трифонович писал: "В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно…" Что ж, выходит, что он не забывал об этом, а стало быть, оставалось только одно: "Наберись мужества, скрепи сердце…" Видимо, так оно и было: лишь отрывочно осведомился он о положении нашей семьи и совсем не стал расспрашивать, каким образом она перебралась с Урала в Уржумский район Вятской области.
Волька Перельман не вникал в подробности моей встречи с братом. Теперь он уже знал, что брат – поэт, очень хотел видеть его, но обстановка была такова, что я не мог его взять с собой. Он оставался у Анны Митрофановны, иногда уходил посмотреть город, но уже было ясно, что в Смоленске не останется. Когда же узнал, что я собираюсь уехать, то обрадовался и воскликнул: "Отлично! Едем обратно в Турек!" Но возвращаться в Турек я уже не хотел.
Накануне отъезда из Смоленска, чтобы застать брата дома, я прямо с утра пошел к нему попрощаться. Застал его возле дровяника, где, видимо, вместо зарядки, он возился, не то укладывая, не то поправляя поленницу. Заметил меня, взмахнув руками, начал было говорить, что вот, мол, понимаешь ли, надо: печное отопление. "Приходится и этим заниматься! – И, вздохнув, продолжил: – Оно, знаешь, не во вред".
– А я, Шура, пришел… проститься. Уеду я! – что-то во мне дрогнуло, перехватило дыхание, он это тут же заметил, приблизился и, положив руку на мое плечо, нежно и осторожно сказал: "Слушай, Ваня, мой совет – совет брата. Оставаться тебе в Смоленске или нет, волен и должен решать сам, ты не мальчик".
– Да-да. Я понимаю. Я решил: уеду непременно!
– Вот что, Ваня, – глянул на часы, – я сейчас же переоденусь, и мы пройдем вместе.
Прошли какие-то минуты, и он вышел. И казалось мне, что он преобразился: белоснежная холщовая рубашка дополнила и как бы осветила его прекрасный облик. "Ну вот мы и пошли", – услышал я, увлекаемый его волей, стесненно чувствуя его руку, коснувшуюся меня чуть пониже плеч. И он, и я шли, занятые своими мыслями, уже соглашаясь и как бы не сожалея, что вот-вот должны были расстаться.
Остановились у кромки городского сада Блонье. Тут он спросил:
– Как у тебя с деньжонками?
Мне очень не хотелось признаваться, что денег я почти не имел, и потому ответил, что еду, мол, пока лишь до Москвы.
– Так. Тогда, знаешь, не осуди, возьми-ка карманные! – И дал мне двадцать рублей.
Не знаю, не знаю: разные суждения бывают на этот счет, но в жизни я всегда чувствовал и придерживался того простого правила: легче и отрадней дать, чем взять. Да что ж…
Брат сжал мою руку и, сдерживаемый какой-то тайной, молча глядел мне в глаза, затем обнял, прижимая к себе, прошептал: "Всё, Ваня, всё!" Незримый путь образовал угол: я на Ново-Рославльскую, он – своей дорогой.
По просьбе отца я должен был побывать у его родной сестры Прасковьи Гордеевны Котловой, которая жила тогда километрах в двенадцати от Смоленска, в деревне Босино. В раннем детстве мне случилось однажды быть там вместе с отцом, тоже в летнее время, возвращаясь из города на лошади, запряженной в телегу. Сейчас мне предстояло передать Прасковье Гордеевне и ее сыновьям приветы нашего отца, проведать, живы ли, здоровы. Автобусов тогда не было, и мы – Перельман и я – отправились пешком. Мне это было нужно еще и для того, чтобы развеять засевшую во мне печаль после встречи с братом. Мы шли по Киевскому шоссе, а где попадались наторенные пешеходные стежки, предпочитали их. Перельман никак не был мне лишним – друг, к тому же оптимист и выдумщик. Подходя к реке Сож, мы догнали шедшую в том же направлении девушку, которая подсказала, как попасть в Босино и даже к усадьбе Котловых. Котловы Прокопий и Спиридон – сыновья Прасковьи Гордеевны, а мои двоюродные братья, некогда работали с нашим отцом в кузнице и сами теперь были кузнецами. Без труда мы вышли к избе Прокопия, где случился и Спиридон. Ну где же им было узнать меня, если видели единственный раз, когда было мне лет восемь-девять.
– Да я же Иван, вашего дядьки сын!
Спиридон и Прокопий тут же обнаружили в моем лице и в глазах сходство со старшими братьями, а еще больше – "с дядькой Трифоном" и, перебивая друг друга и ударяя себя ладонями по бедрам, утверждали, что "да, так оно и есть".
– Не-э, Иван! Все равно бы я узнал, но, тут, знаешь… Да-а, и ладно! – резанул рукой Прокопий. – Пойдемте в хату!
О гостеприимстве этих людей я знал и раньше, по рассказам отца, теперь же оно было проявлено в моем присутствии, несмотря на трудное время. Крестьянский стол тут же заполнился всем, что нашлось, с истинным радушием простых людей, которые не задумываются о расходах ради гостя.
Прокопий послал дочку за Прасковьей Гордеевной, и она тут же пришла, заполнив хату сбивчивыми возгласами, в которых была и печаль, и радость, и удивление: о том, что в Загорье нас давно уже не было, они не знали, но все ждали, что дядька Трифон должен бы навестить, "да что-то не слышно".
Нужно было рассказать обо всем, что случилось, да как же найти те слова, чтобы и все было ясно для них, и не стало предметом загадочности для моего спутника и друга Перельмана, который был здесь же и который еще не был знаком с историей нашей семьи. И было уже поздно что-либо предпринимать, и я испытывал большую неловкость при расспросах об отце, о матери, обо всем прочем. Оставалось рассчитывать только на скромность и порядочность друга, что он не позволит себе вникать в чисто родственные, интимные беседы. Кажется, он вел себя с должным тактом, и я мог поддерживать беседу в нужной мне форме.
Мои двоюродные братья были уже в том возрасте, когда, как говорится, "борода ползет на грудь", ненамного моложе нашего Трифона Гордеевича. Я слушал воспоминания Спиридона о минувших годах и о дядьке Трифоне.
– О-ох! Мастер же он был тогда! Любую лошадь без станка мог подковать. И петь был мастак! У-у! Бывало: "Как полоску Маша жала, золоты снопы вязала – молодая-а!" А то, знаешь, про купца:
"Ехал из ярмарки ухарь-купец". Здорово, хорошо пел дядька Трифон. И работа шла хорошо!
Через два дня, в Москве, я расстался со своим другом. Он имел билет до Вятских Полян – возвращался домой, в Турек. Не могу даже сказать, как я решился остановиться в Москве, если в ней не было ни единого знакомого и никто же меня не приглашал в столицу Шел пешком по городу куда глаза глядят, до полной усталости, что-то искал, хотя, честно говоря, и сам не знал, что именно я могу найти. И вот, кажется в районе Савеловского вокзала, натыкаюсь глазами на вывеску "Биржа труда" на приземистом строении. Слова эти я слыхал когда-то еще в Загорье от людей, бывавших в Донбассе, и помнил, что на бирже труда узнают о вакантных рабочих местах или даже получают направление на работу. Но знал я и то, что в Москве не всех прописывают. Все же решаюсь зайти.
В огромном зале ряды столов и столиков, и за каждым столом сидит человек, представитель предприятия: завода, фабрики, стройки, организации. Возле – группки интересующихся: спрашивают, читают объявления, показывают документы. Вслушиваюсь. Кому-то дают направление, кому-то отказывают. Но столов много, и я не тороплюсь отчаиваться, продвигаюсь; на глаза мне попадает объявление: "Московский учебный комбинат производит набор на краткосрочные курсы слесарей-водопроводчиков и отопленцев, берут и с иногородними паспортами". Мне просто и неожиданно улыбнулась фортуна. В тот момент ничего лучшего я и не смел ждать. Дали направление в учебный комбинат, и я вместе с небольшой группой поехал трамваем на место предстоящих занятий и работы. В тот же день мы были устроены в общежитии, а назавтра уже знакомились с новым для нас делом. Комбинат находился по улице Ново-Алексеевской, совсем рядом с Ярославским шоссе. Недели две-три нас учили работать: соединению труб, монтажу, ремонту, проверкам систем водопровода и отопления. Было там много ребят, преимущественно моего возраста.
И вдруг – новость: всех переводят на железнодорожный ремонтный завод в Люблино-Дачное, сокращенно называвшийся «Можерез». Водопровод и канализация, чему нас обучали, были оставлены, и нас распределили по разным цехам. Я оказался у сталеплавильных электропечей подручным сталевара, как новичок – третьим подручным. И все шло складно: живем в общежитии, ходим на работу, предвидится нормальный заработок, осваиваем новую стихию.
Тогда же на радостях я написал Александру, что нахожусь рядом, в Люблино-Дачном, что работу нашел и чувствую себя хорошо. Ответ получил не из Смоленска, как мог ожидать, а из Москвы: он был на Первом съезде советских писателей и жил в гостинице «Интернационал» на Тверской. "Может, встретимся", – писал Александр, и было указано, в какие часы. Я очень обрадовался и сразу же поехал к нему.
В номере на первом этаже с нами было четыре человека. Кто были те люди, сказать не могу, Александр не нашел нужным или удобным представить их. И я понял: для интимной беседы условий нет, – что тут же и подтвердилось предложением Александра:
– Есть у меня, Ваня, намерение просто пройтись, прогуляться. Как смотришь на это?
– С удовольствием!
Оказавшись среди бесконечной массы встречных, обгоняющих и рядом идущих людей – обычная суета большого города, – мы никакой стесненности или неудобства не ощущали и могли поговорить.
– На съезд я приехал на положении гостя – делегатского билета у меня нет, – говорил брат, – но для меня сам этот факт не так уж и важен – важнее другое: я сам слышу, кто о чем говорит, и рад этой возможности. Ты вряд ли можешь понять сложность стоящих передо мной задач. Двадцать четыре за плечами, труда положено много, а удовлетворенности нет, я как бы без собственного голоса. И не чувствовать этого я не вправе… Вот, Ваня, как обстоит дело.
Где-то мы приостановились: время истекало, он как-то сразу заговорил о другом:
– Смотри же… Начинай приводить себя в порядок! С одежонкой… тоже важно – научись и галстук завязывать. Но не спеши жениться! Не заражайся моим примером! Мне, понимаешь ли, жена во многом помогла, но в жизни чаще бывает наоборот.
Он улыбнулся и глядел на меня, как бы спрашивая, все ли я понял. Расстались в хорошем настроении.
Работать мне пришлось со сталеваром-украинцем, очень напоминавшим запорожского казака: висячие усы, осложнявшие ему работу у печи (он заботливо оберегал их, прикрывая рукой в рукавице), дымящаяся лысина и гогочущий смех – все просилось на полотно. Но был он уже стариком, и его крупная фигура выглядела надломленной многолетним трудом. Начинал он работать у плавильных печей еще до революции, где-то на южных заводах и всю жизнь отдал этому нелегкому делу. Можно представить труд сталевара до революции, если еще в тридцатые годы, в мою бытность на «Можерезе», завалка шихты в электропечь производилась вручную, лопатой, броском. Но такой метод годился лишь для мелочи, которую можно взять с металлического листа совковой лопатой. Когда же шла тяжеловесная шихта, например, прибыль, отрезанная автогеном от отливки вагонных центров, весом 70–80 килограммов, то такой кусок забросить в печь под силу не каждому. Их вдвигали в печь на особой лопате, вес которой тоже был не менее пятидесяти килограммов, и чтобы двигать ее, требовались усилия троих крепких ребят. В предельном напряжении сил эта работа на трехтонной электропечи продолжалась минут сорок, но за эти сорок человек выматывался до такой степени, что прийти в норму ему уже не удавалось до конца рабочего дня. И ведь не по приказу работали люди с таким напряжением, а лишь из желания быть передовым, выиграть время, перекрыть вчерашний показатель, заработать звание ударника, а затем, может, стать стахановцем.
Должен сказать, что была-таки и во мне силенка: я мог забросить в печь восьмидесятикилограммовую прибыль просто руками. Правда, не только сила нужна; ловкость, пожалуй, играла не меньшую роль. Стану, бывало, левым боком к завалочному окну, ноги – пошире, для устойчивости, а круглыш "на ребро", чтобы подобраться под него руками, и шпуляю прямо в печь. А сталевар мой, Гетун, знай повторяет: "Гоп! Гоп!" – «помогает» мне.
Так вот и проработал я до отпуска. Съездил к родителям в Русский Турек, проведал. И все бы оно хорошо. "Молодость счастлива тем, что у нее есть будущность", – говаривал учитель нашей Ляховской школы, и это прочно удерживалось в моей памяти – не забыл эти правильные, отеческие слова. Но… куда же денешь то, что постоянно тревожило, не давало покоя: сидела во мне печаль, о которой не мог я никому рассказать, поделиться. И чтобы стало для читателя ясно, в чем она заключалась, привожу несколько строк из письма брата Александра к М. В. Исаковскому. Писал он из Смоленска в 1935 году, 6 октября. Прочесть это письмо мне случилось сорок с лишним лет спустя в журнале "Дружба народов" (№ 7, 1976):
"…Послезавтра мне идти в призпункт, где еще придется испытать самое мучительное: каяться в том, что выбрал неудачных родителей, и доказывать, что я не против Советской власти. Но, знаешь, я как-то спокоен, все эти вещи в конце концов притупили чувствительность к такого рода испытаниям".
Не знаю, кому было труднее: Александр должен был «каяться» за неудачный выбор родителей, я – томиться неправдой, которую в анкетах писал на вопросы о социальном происхождении. Но он имел возможность хотя рассказать о своих чувствах Исаковскому, я же и этого был лишен.
Получалось так, что об обстоятельствах жизни брата, о нападках на него из-за того, что родители раскулачены, я ничего не знал и не догадывался, – ведь уже целых пять лет он жил вне отцовской семьи, выслан не был, и я лишь завидовал его «благополучию». При встречах и в редких письмах он ни разу и словом не обмолвился о своих трудностях. Но и ему не были известны мои неразрешимые проблемы. Я не мог рассказать ему о том, как мы оставили Зауралье, как отец перебрался с семьей в Кировский край, и это была мучительная тайна.
Весной 1936 года, кажется в конце марта, я затронул этот вопрос в письме к брату, – дескать, как же так, ты, Александр, вовсе не интересуешься судьбой родной семьи? А мать, мол, все смотрит в окно, грустит, шепчет свою песню "Перевозчик-водогрёбщик, перевези меня…"
Нет, я не думаю, что мое напоминание заставило его тут же попросить адрес. Наверняка он никогда не забывал о матери, да и обо всех родных, но… возможности его были очень малы, и с окаменелым сердцем шел он трудной дорогой своих планов. А кто же из нас мог тогда это понять?
Вот какое письмо было отправлено со станции Вятские Поляны М. В. Исаковскому 14 апреля 1936 года (Неман, 1977, № 2):
"Дорогой Миша! Сегодня я (с одним попутчиком) после долгой торговли еду на Уржум. Стараюсь не думать о трудностях (120 км, грязь, пароход через неделю). Уже совсем было решил отправиться назад, но почта не принимает посылкой чемодан. Договорился с татарином за 300 рублей (с двоих), а сразу у нас запросил 500! Назад буду только с пароходом, т. е. недельки через полторы. Помяни, Мишенька, мою грешную душу, ежели зальюсь или как иначе сгибну где-нибудь. На свечи я тебе оставил, кажется.
Александр.
P. S. Может случиться, что телеграфирую насчет денег. Переведи телеграфом: Русский Турек, Кировский край, до востребования, мне.
А. Т.".
Вот тогда, побывав в Русском Туреке в апреле 1936 года, Александр Трифонович и решил перевезти отцовскую семью в Смоленск.
Не могу сказать точно, было ли это как-то оформлено, было ли разрешение от властей, но думаю, что ничего такого не требовалось. Стариков и детей разрешалось вывозить, если находились попечители. О том, что Александр Трифонович побывал в Русском Туреке и что семья уже переехала в Смоленск, я узнал из писем сестер. Как все это произошло, описать подробно они, очевидно, затруднялись, и о многом я мог лишь догадываться.
Сложным для Александра Трифоновича был вопрос устройства всей семьи с жильем по приезде в Смоленск: где и как разместить шесть человек? Сам он занимал одну комнатенку метров пятнадцать, которая служила и кухней, и спальней, и рабочим кабинетом. Приютиться оказалось возможным только под крышей сестры матери – Анны Митрофановны. Избушка ее была мала, и лишь с натяжкой можно было считать ее пригодной для жилья: латаная-перелатанная, пегая по причине всяческих глиняных подмазок, но было всегда готова принять всякого, кто нуждался. Семья Трифона Гордеевича была родственно принята. И ничего. Было лето, и можно было использовать для сна навес и сенцы.
К началу лета 1936 года наш старший брат Константин жил и работал на Кубани в станице Прочноокопской, в колхозе. Теперь и ему было известно, что семья отца в Смоленске и что я непременно поеду туда.
Знал ли Александр в те годы что-либо о своем старшем брате? Что-то, конечно, знал, может, даже из моих отрывочных рассказов при встречах, но, видимо, знал мало, а может, только догадывался.
В последних числах июня 1936 года я ехал ночным поездом из Москвы в Смоленск. Прибыл часов в семь утра. На типично окраинной, поросшей зеленой травой улице Ново-Рославльской меня встретил Павлуша, а рядом уже была та заветная мазаная избушка, и кто-то нас заметил – юркнул в проем, и вот уже вижу: мать, сестры, тетя Анюта и ее ребята. Мать, с прижатыми к груди ладонями, смотрит, что-то говорит и… встреча. Объятия, волнения, вздохи и самые сердечные, трепетные слова материнской преданности и счастья:
– Ваня, сын мой! Дети! Милые мои! Будьте ж вовек благословенны! Пойдем же, пойдемте в хату!
Сидя на низеньком сапожническом табурете, я слушал рассказ мамы. Как всегда прежде, с прямотой и любовью к нам, ее детям, но на этот раз еще и с желанием как бы пережить вновь ту счастливую минуту, она рассказывала о том, как после долгой, многолетней разлуки нежданно-негаданно вошел к ней ее любимый сын Шура. Это было в Русском Туреке в середине апреля 1936 года.
– Нет, Ваня, вряд ли ты можешь представить, – продолжала она, – что я чувствовала. Кажется, одно такое мгновение в жизни стоит того, чтобы жить и быть матерью. Батька в кузнице был с Павлом, рядом, вот-вот должны были подойти обедать, и, знаешь, такая грусть напала на меня, что отвести ее можно только слезой. Слеза, может, человеку и дана природой, чтобы заглушить горе. И только бы сказать: "Где ж ты задержался, перевозчик ты мой?", а в дверь: тук-тук-тук! И не знаю, сказала "Да!" или не сказала, обернулась – входит… Шура. "Боже мой!" – вырвалось. Думала: привиделось мне, а он, мой родной, бойко так – ко мне, освободил руки – чемодан был – и: "Мама! Родная! Нашел же я тебя! – Обнимает, целует и опять: – Мама, милая, здравствуй!" Ну где же тут удержишься? Рада, а сердце почему-то никак не утихнет, и говорю ему, что, значит, мысли мои, мол, долетели до него…
Рассказ матери дополнялся и обрастал вставками подробностей, которые успевали делать сестры и младшие братья. Здесь же хотелось мне слышать и о встрече самого отца с Александром, поскольку все мы знали о их крайне трудной встрече в Смоленске летом тридцать первого года.
– Ваня, сынок мой! Разве ж могла я об этом забыть! Я сразу же дала понять Шуре, что благодаря нашему отцу, его мужеству и риску вот живы остались, слава Богу. Да ведь, правда, он и сам уже не мог не понять этого, но ни слова не сказал, а когда отец шоркал у двери, встал… Тут дверь распахнулась… и не передать: сухонький наш старичок так и замер. И головою: то вверх, то вниз – растерялся и ни слова. Обнял Шура его: "Вот оно как бывает, папа! Не надо вспоминать".
Когда я приехал в Смоленск, то отца в семье не было – уже успел договориться поработать в кузнице колхоза в Раковичах, где председателем был в те годы Никита Осипович Клеменков, знавший отца. Как раз мать рассказывала и о том, что Александр с натяжкой отнесся к отцовскому отходничеству – бродить по деревням и искать где-то приработок. "Надо бы уж отдыхать ему, хватит, без малого шесть десятков за спиной, – заметил он походя, – пора уже щадить себя", но отец свое: "Нет! Руки мои еще могут работать".
В те дни, 2–3 мая 1936 года, ждали прихода отца из колхоза. В нашей беседе мать снова возвращалась к рассказам о пребывании Александра в Русском Туреке. Говорила, что все его интересовало. Вот он беседует с председателем колхоза, то идет к отцу в кузницу, где отец правил лемехи, бывал и у реки, о чем, кстати сказать, впоследствии было написано очень милое стихотворение:
Кружились белые березки,
Платки, гармонь и огоньки.
И пели девочки-подростки
На берегу своей реки.
И только я здесь был не дома,
Я песню узнавал едва,
Звучали как-то по-иному
Совсем знакомые слова.
Гармонь играла с перебором.
Ходил по кругу хоровод,
А по реке в огнях, как город,
Бежал красавец-пароход.
Часов в девять утра кто-то из наших сказал: "Папка пришел!" На пороге появился Трифон Гордеевич с котомкой, не ведая о том, что сын Иван здесь, возле горемык, как он называл свою семью в годы странствий. Впечатление неожиданности и отчее чувство проявились в нем восторгом: "Да неужто, Иван, ты?! Орел мой! Д-да-авай же… давай обнимемся! Сынок! Ваня!" – Повернулся, схватил Васю, тут же Павел, Маша, – и всех называет с добавкой: "Мой пострел!", "Моя умница!", "Мое сновидение!" Как бы в смятении он начал говорить о том, что побывал в Починке, что дали ему паспорт, что он опять имеет свое имя и осталось только забыть все то, что пройдено. Отец, видимо, много кое-чего мог бы рассказать, он только-только еще успел определить порядок своего рассказа, как подкатила легковая машина, взвизгнули тормоза, послышались обрывки чьих-то слов, и тут мы увидели в окно, как из распахнутой дверцы машины осторожно выбирается… Александр! "Ой! Ваня, иди же навстречу!" – это сказала мать, и я махнул чуть ли не прыжком, а за мной и Павел, и дети хозяйки. Но гости – с Александром был и Михаил Васильевич Исаковский, – уже на крылечке.
– Ну, я как знал, вот и хорошо, что ты, Иван, здесь. Ну, здравствуйте, молодцы-братья, здравствуйте! Здравствуй, мама!
Он отдает матери пакет, авоську, обнимает ее, и мы уже в хате, Александр уже видит и отца, здоровается с ним за руку и тут же оборачивается к Михаилу Васильевичу и говорит:
– Миша! Поспешай! Порядок требует держаться правил. Представляю: наш Трифон Гордеевич! Мария Митрофановна, мама, догадываешься… Брат Иван… – смотрит на меня, чувствую, на мою ежистую прическу. – Прическа твоя – дрянная, да-да, не нравится мне. Это, знаешь, что-то не то боксерское, не то жиганское. Ты что, боксер?
Я с трудом выдавил из себя, что, мол, дело сугубо личное, что на этот счет у меня свое мнение, а он:
– Ответ правильный, но прическа – дрянь!







