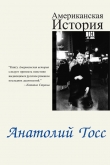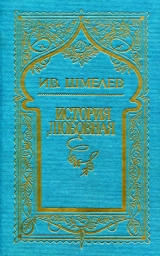
Текст книги "Том 6 (доп.). История любовная"
Автор книги: Иван Шмелев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 39 страниц)
Безмятежно баюкающая, как колыбельная песенка, детская радость-счастье – плескалась и пела в нем. И теперь казалось ему неважным, как устраивать жизнь свою. Это казалось важным на чужбине, где прямые дороги, заборчики и канавки… А здесь, в бездорожной хляби, – было совсем неважно: вольешься – и вот, не страшно! Устала его душа от многолетнего начеку, а здесь – все разливно-мягко, все льется-льется в неведомые глазу формы, все ищет места, как этот плывучий снег, вливающийся неслышно в землю.
Он купил много ненужного: и цветов, и платков, и меду; и длинных-длинных пирогов-лодок волжских, с запеченными в них кусищами рыбы-сомовины, жирно-сладкой, – вкусных в бродяжном детстве; и радостной, еще мерзлой клюквы, укрытой под соломкой, – гремучего красного гороху; и каленых орехов жигулевских, и… – вот они самые! – розовых пряников на меду, что покупал, бывало, у ручьисто-глазастой Тани…
Он терся с родной толпой, вбирая дыханье овчины, крашенины, коровьего масла, дегтя… – запахи духоты и воли, земли и снега, грязи и солнца русского, в гуле толпы весенней. Трепетно-сладко слушал давно неслыханную певучую речь родную, крепко и кругло бьющую, сыплющую зубоскальством, смехом, по которой тосковал не чуя, которая нужна, как ласка, как родное сердце, что где-то тут и для него бьется…
Он вернулся на постоялку, где приятно-знакомо пахло постными щами со снетками, где разверченный молодец лихо накрыл ему стол салфеткой, с запекшимися на ней рыбьими костями и солянкой, и с треском поставил грязноглазую перечницу-акульку. Но даже и эта грязь показалась' ему, требовательному в отелях Брюсселя и Парижа, совсем законной: на всем стояло клеймо – твое!
* * *
Ранней зарей, – еще не перелопались и не затекли лужи, под постный колоколок к заутрене, с хрустом выехали из городка на розвальнях, на паре лохматых лошадок, в веревочной упряжке, с круглолицым парнем, высвистывавшим скворчиное. И потянуло-поволокло его, мотая и колыхая, роняя в ямины, выдирая на взлобья, – понесло по родным просторам, под песни жаворонков, под журчливую воркотню потоков, под скворчиную дробь и свист. Верба золотисто пушилась по речушкам, смеялись пуховками-вербешками на покрасневших ножках.
– А что, здорово разлилась Ворюга? – спросил он парня.
– Шумит словно… – бездумно ответил парень, насвистывая скворчиное. – Надо быть, разлилась. Пожалуй, и мост снясла!..
– Тогда… как же?
– Ды-ть… надо быть, проедем, в поле, што ль, ночевать будем! Должны проехать… иначе как жа!..
Бездумно говорил парень и свистал беспечно.
И Кочину, аккуратно точному там, здесь казалось совсем простым – каким-то неведомым для него путем перебраться в санях через разлившуюся на версты Ворюгу. И он повторил бездумно:
– Должны проехать… Иначе – как же?..
– Обязательно должны проехать. Как так, не проехать!.. И встречный мужик, нежданно выплывший в санях-лодке из-за пригорка, отозвался на оклик:
– Сня-сла… как жа! На энтот… На Кривой Хутор лучше! Слышишь, ты!.. На Шереметку, гляди, трафься… а то зали-ват шибко!
– Да у Шереметки, ну-ка, плотину, поди, прорвало?!..
– Прорвало! Слышь, ты!.. На Шереметку лучше не подавайся!.. Слы-шь!? Бери прямо на… Старую Сторожку, а там… правей заводской трубы! Прямо лу-пи…
– Слышь!., чуток левей, смотри… левей трубы то забирай лучше… на Барашково прямо выправишься!.. Там, надо быть, суконщики уже паром пустили!.. Прямо стегай и стегай на трубу!..
– Вот ты его и пойми, далмата! – сказал парень, выглядывая по дали. – Вот что… – Лучше я тебя на Костино поверну… а там достигнем чего-нибудь. Я уже теперь все знаю. Лес тут у нас свалили, ну… дороги-то все и путаем. А то прямо бы на лес, и без хлопот!..
А, пускай… Можно и на Костино, и на Барашково, и на трубу можно, – не уйдут со своего места. Может, и паром наладят. И в поле ночевать можно…
И опять заплескала и закачала, втягивала в себя, парила вешним дыханьем даль – манила.
Глядел на нее Кочин – синело-голубело; глядел на солнечные вербешки, на долгие лужи-стекла, – и чуялось в разливающемся весеннем дне, в плесках и шорохах, что где-то здесь бьется и для него никогда не стихающее родное сердце.
1920–1930 гг.
Журавли
I
То, что случилось с Алей, – что она решила, как надо действовать, – случилось не вдруг.
Первое время за границей она чувствовала себя сравнительно спокойно: новые впечатления, уверенность, что так долго не может продолжаться, и весь мир, наконец, поймет; надежда, что на ее розыски в газетах придет письмо, и папа окажется в Америке, а Миша и Лялик где-нибудь на Кавказе, и вдруг явятся к ней в Париж. Подобные случаи бывали. Но годы проходили, а чуда не случилось.
Аля служила машинисткой, ходила по вечерам в Сорбонну, много читала о России, слушала на собраниях, как из года в год политики убежденно развивали, что такое произошло, и почему это произошло, и как к этому надо относиться: принимать ли революцию – или не принимать, бороться с большевиками – или не бороться, а подождать, когда сами они изменятся, или Россия сама их сбросит. Алю удручало, что серьезные как будто люди высмеивают друг друга, кипят и спорят, а решить ничего не могут. Она возмущалась и горела, теряла веру в деятелей, но наружно была спокойна. А жизнь шла и шла. Обзаводились семьями, устраивались на землю, примирялись с мыслью, что ничего не поделаешь, жить надо. Умирали. Кое-кто уехали в Россию, и, кажется, погибли. Иные поженились на иностранках, иные переменили подданство. Тот нанялся в легионеры, тот уехал в Бразилию. Единственно близкий человек, товарищ отца, полковник Тиньков с сыном – капитаном, скопив на заводе несколько тысяч франков, сняли ферму под Пиренеями. Это было большим ударом: обрывалась последняя нить, связывавшая Алю с прошлым. Полковник Тиньков, «дядичка», веривший непреклонно, как и она, что «все это скоро кончится», как будто махнул рукой: больше уже ждать нечего и надо устраиваться прочно. Аля спрашивала себя, не потому ли так ее подавляет это, что Митя Тиньков, который за ней ухаживал, и она ему отказала, увез с собой всякую надежду, что жизнь ее может измениться? Нет, – отвечала она себе, – вовсе не потому: а потому, что они, люди, безусловно, сильные, верившие, что «скоро кончится», укрепляли ее надежды, а теперь перестали верить.
Аля прекрасно могла устроиться. Где бы она ни появлялась, она видела исключительное к себе внимание. Стройная, синеглазая шатенка, с томно-глубоким взглядом, загоравшимся вдруг игрой, лаской и тайной силой, в которой мужчины видят что-то, их покорившее, сильная двадцатишестилетняя девушка, с чудесными волосами, которые она ни за что не хотела резать, она вызывала восхищение. Французы говорили о ней – princesse! Ее приглашали в синема на роли и обещали славу, в первоклассные модные дома – «картинкой», соблазняли выступить в кабаре, «где только одни американцы». Она выгнала от себя посредницу, предложившую ей миллионера. В конторе, где она служила, влюбился в нее француз хозяин, стал набавлять ей жалованья, писал любовные письма, в которых клялся, что «все положит к ее ногам». Помня обет, данный еще в Галлиполи, – «пока не узнаю все», – она разумела отца, брата и Лялика, – «не позволю себе и думать о личном счастье!» – она одолела колебания. Выйти замуж и жить в довольстве, когда «поход продолжается», было бы с ее стороны изменой! Так она думала – так и вела себя. Из конторы она ушла и поступила чтицей в католическую семью, к почтенной даме, которая называла ее – «дитя мое» и платила ей триста франков на всем готовом.
Строгая к себе, она не прощала и другим. Ее называли непримиримой и весталкой. Иные ее боялись: она была слишком прямой, последнее время даже резкой. На одном собрании она не выдержала и крикнула: «А ваши бомбы?!.. Или – ваша задача выполнена?..» Докладчик ответил с пафосом: «Я почтительно склоняюсь перед вашим „святым горением“, но… ведь патента на бомбы не выдается!.. „Вожди“ и „кадры“, пишут в иных газетах, еще имеются?..» Она не спала всю ночь. Смеют еще смеяться!..
Она перечитала, что только могла найти, о революционном терроре былых времен, и ее поразила исступленность, какой-то религиозный пафос: «наш святой подвиг», «наш священный долг», «высокое счастье отдать себя», «во имя величайшей из святынь надо уметь перешагнуть даже через трупы близких, переступить порог»… – эти фразы ей прожигали душу. Вычитанное из Михайловского – «Гронь-яра» – к народовольцам: «борцы этого периода поднимали нашу жизнь чуть не до уровня первых христиан», или «террор в 70-х годах не переделали, а не доделали», – поражали ее кощунством. Тогда – молились, почему же теперь – спокойствие! Миллионы умученных из их же «святыни», из народа… все святое осквернено, самое даже имя народа стерто, и… «эво-лю-ция»!?… Фальшь какая!..
Аля спрашивала себя: «А ты могла бы? Вон Дора Бриллиант требовала: „дайте мне бомбу, я хочу быть метальщиком, я не могу принять меньшей ответственности… я хочу переступить порог!“ А ты?.. Те, когда была действительно эволюция, верили только в террор. Теперь, когда только террор, убеждают поверить в „эволюцию“… Фальшь какая!..»
Она прочитала Ленотра о Шарлотте Корде, прочитала историю Юдифи, «Эсфирь»…
«А ты… не сможешь?!..» – спрашивала она себя.
Перечитала «Порог» Тургенева, – стихотворение в прозе, восторженно принятое когда-то русской интеллигенцией.
«Святая»!.. Переступила порог. Тогда – «святая»! А теперь? Почему так – теперь!..
«А ты, русская… не можешь?..»
Аля не отвечала себе, не знала.
Она была подлинно русская, из старой семьи военных. Ее пращур, стрелец-бунтарь, помилован был Петром за дерзость.
«С петлей на шее, встретился он с Царем глазами! – не раз страстно рассказывал ей отец. – Спросил Царь: «Бунтовал супротив Меня?» – «Бунтовал, Государь!» – сказал и не опустил глаз. Так и впились друг в друга. «Виселицы боишься?» – спросил опять Царь и показал плетью на перекладины, где качались. «Не боюсь, Государь! – сказал стрелец. – Хаживал я за смертью. За Тебя боюсь!» – «А почто за Меня боишься?» – усмехнулся жестоко Царь. «Нас сказнишь, кого под Тобой оставишь, тиших? С тиших какой же Тебе прибыток! вон Ты какой шумной! Шумные Тебе нужней!» Влип в него Царь глазами, а тот не сдает, как сокол на солнце смотрит! «Добро, – сказал Царь, – правдой Мне служить будешь?» – «Такому буду». – «Добро, – сказал опять Царь, – живи, шумной! служи меньшой старшому, а пуще Его – Матери служи, России!» И собственной рукой царской снял с шеи его удавку. Пушкарного строя урядника повелел писать в царскую свою охрану, Ивана Сокол-Стрельцова! И сложил Иван Сокол за Государя и Россию голову в славный Полтавский бой, – «у Царева боку, у правой Его руки, шведская пуля сразила в сердце!»
Картинка Сурикова висела у них в Лохове. Помнила ее с детства Аля, любила искать «Сокола». Показывал ей отец: «Все – Сокола, все – наши!»
II
Два события укрепили Алю.
Зимой неожиданно приехал Митя, привез золотой мимозы. Был он какой-то новый. «Жесткое что-то в нем, – определила Аля, – помолодел, загорел, сбрил усы… похож на английского спортсмена… но что-то в нем, странное что-то, жесткое?..» Он посидел недолго. Сказал, морщась: «Нет, довольно. Кролики, клевер… все это чепуха. Вот что, Аля… только никому не говорите. Прощайте, еду туда… папа знает. – И поглядел на нее прощально-нежно. – Не думайте, что я это… от разочарования, вы понимаете… что я хочу сказать. Личное… конечно, сейчас не время. Надо продолжать».
Аля почувствовала, как у ней упало сердце. Она озарила его глазами, взяла его руку и поцеловала молча. Он до того растерялся, что не успел отнять руку.
– Дайте я перекрещу вас, Митя… – сказала она сквозь слезы.
Он глядел на нее с печалью и восторгом. Нежно поцеловал ей руку, пошел к окну, посвистал тихо-тихо…
– Сегодня еду. Иногда вспомните?.. – сдержанно сказал он.
– Да, да… – сказала она, не соображая, – непременно… Расстались они свято и нерешительно.
Когда он ушел, Аля прислонилась к оконному косяку и все читала на той стороне сквозь слезы: «vins cafe liquers… vins cafe liquers…»
Когда мимозы засохли, она поставила их к иконе. Стала за него молиться.
В апреле, когда продавали на улицах фиалки, пришло от него условленное письмо: «помаленьку торгую, барышей нет». Значило это, что все благополучно, о них узнать ничего не мог.
Второе событие потрясло ее.
В октябре прочитала она в газетах, что «приговорен к расстрелу за связь с врагами советов земский доктор, бывший дворянин Семен Николаевич Кротков, 65 лет. Приговор приведен в исполнение».
Аля сначала не поняла, не верила Потом поняла и помертвела. Вот почему уже полгода не писал он ей. Только он еще оставался в Лохове, наводил справки о пропавших. Если кто из них жив еще и где-то еще скрывается, мог бы дать знать о себе верному человеку, доктору. И вот его убили!..
Вспомнила Аля мартовскую метель, когда постучались к ним два солдата и напугали… и так обрадовали! Бедные мальчики, с ввалившимися, измученными глазами, заросшие, постаревшие, в солдатских изодранных шинелях, в разбитых сапогах, обмерзшие и больные. Они пробирались к югу. Остался в ее сердце шепот замерзших губ, чуть слышные слова брата: «зашли проститься…» – и его лихорадочные глаза, и какие-то виноватые, печальные глаза Лялика. Вспомнился жуткий месяц, когда день начинался страхом, кончался страхом, когда они трое, на темном хуторе, прислушивались к лесному гулу, и браунинги лежали тут же. Жуткие ночи бреда, когда она терялась, не зная – что же?.. – а они лежали, беспомощные оба, – Миша в возвратном тифе, а у Лялика загнивала рана.
Вспомнила Аля, как пробиралась лесом, в снегу оврагов, путалась в темноте, забыв о волках, которые бродили по округе, вела удивительного человека, святого человека, мученика, Семена Николаевича. Два раза в неделю, под страхом смерти, брел за ней старик доктор, подбадривал. Светлое вспомнила Аля – в страшном.
Миша оправился, рана у Лялика закрылась.
– Через недельку можно и отлетать! – сказал на прощанье доктор, обнял и поцеловал обоих. – Летите, братики… за Россию!
И заплакал.
Роняя слезы в невидный снег, в последний раз вела Аля доктора из леса. В оврагах кой-где уже сочилось, мокло.
– А-ты, сапоги плохие… – вздохнул доктор, – ботиков не надел!
– Ноги промочили… бедный… – пожалела Аля, нашла в темноте его руку и поцеловала страстно.
– А плакать-то зачем? Слезки горячие какие… соленые! – причмокнул шутливо доктор и приостановился передохнуть. – А-ты, моя хорошая! А знаешь, придет время, и кто из нас выживет… обернется на наше прошлое и вспомнит светлое! Так только и познаются люди. Промочил ноги… тычемся с тобой в темноте… но за всю мою практику, за двадцать восемь лет работы по уездам, я не вспомню такого в душе… такого света! Словно кто-то меня прощает… Да, хорошая моя, Алечка… Я, позитивист, сорок лет в церкви не был, – и вот чувствую свет в этой ужасной тьме! Чувствую, какая может быть, какая есть тьма! Теперь только чувствую. И с болью вижу, за что родная наша, славная, бедная наша… и ни в чем не повинная наша молодежь… так отдает себя!., так страдает!.. Вот, затравленные, измученные, израненные, в лесу, больные… и вот, идут! За наши ведь преступления!., за правду, которую мы так подло проглядели, проболтали… Может быть, для меня это, эти путанки в лесу с тобой… легче мне от них стало!., как покаяние мне… может быть, и прощение?.. Да нет, прощения быть не может…
Помнила Аля, как доктор уткнулся в елку и всхлипывал.
– А-ты, что за подлые нервы стали! Ну, пойдем, моя хорошая…
И вот убили его.
И еще Аля вспомнила – мечтательные глаза Лялика и светлое, стыдливое его чувство к ней, вылившееся так робко-нежно, когда они сидели в вечернем лесу, в капели, на избяном порожке. На льдистом, уже синевшем снегу поляны лежали оранжевые и лиловые полосы заката, и привыкшие к ним снегирики прыгали у их ног. Миша колол дрова и приговаривал в звонком, морозном треске… – «хороша береза, лоховская! эх, последняя доколю!»
Лялик сказал, вздыхая:
– Завтра уходим…
И поднял карие ласковые глаза, горячие, в влажном блеске, к зеленоватому холодеющему небу, к голым березовым верхушкам, где еще багровело светом.
– Может быть, и не встретимся больше с вами, Аля?..
– Нет, мы должны встретиться, Лялик! – сказала горячо Аля, качая его руку.
– Должны? Вы думаете… – смущенно-радостно сказал Лялик. – Да, хорошо бы было. Помните, писали Мише на фронт… – «скажи твоему Лялику, мне его лицо очень нравится, он славный…»? И потом… – «если он хочет, я буду ему за крестную»! Вы помните?..
– Да, помню, – сказала Аля.
– Вот и пришло вам быть крестной, перевязывали меня, кормили. Знаете… будьте моей сестрой, названой!? Я был бы очень счастлив!..
И Аля – это ей показалось нужным и очень важным, – сказала тихо:
– Да. Я буду вашей сестрой, названой.
И опять взяла его руку и покачала нежно.
– Теперь я о-чень, очень счастлив! – радостно прошептал Лялик. – Весело я теперь пойду! У меня никого ведь, отчим один в Орле. А университета теперь, пожалуй, и не увидишь… Два года оставалось!
– Вы на каком были?
– Я избрал астрономию…
И поглядел на небо. Но звезды еще не выходили.
В десять часов Аля пришла к сосне на повороте, у края леса. Лоховский Аким – солдат, друг детства, уже поджидал с санями. Под широкой, приземистой сосной едва чернелось.
– Сейчас и кавалеры подойдут, было шумок слыхать! – бодро сказал Аким. – Эх, барышня… женатый я стал, а то бы и сам ушел от этого безобразия!.. Маленького вот отымать грозятся, равень у всех чтобы. Вот тебе и на!.. Ну, это погоди… даром, что ли, служил в солдатах, раны испытал?..
Подошли, с мешками. Попрощались… И вот донесло далекий звенящий шум, словно сыпалось где за лесом сухими палками.
– Журавли!?.. – сторожко сказал Аким. – Как раз на проводы.
Стало слышно курлыканье, вскрики тревоги и восторга, зовущие за собой сполохом. От этого крика в небе, от шума несущей силы у Али заныло сердце острой тоской по чему-то, тревогой и восторгом. На густой синеве, на звездах, зыбилась и звучала чуемая лишь в криках стая. Ушла, затихло.
– Вали с Богом! – сказал Аким. – С журавлями, это хорошо.
Хрупнули по снежку полозья, оклик из темноты – «маму поцелуй»! – и все. Осталось в глазах мерцанье, кряжистая черная сосна, воздушные, в инее, березы на поляне, мерцающие дымно, при свете звезд.
Весть о расстреле скрепила уже готовое. Но как все будет? Путей у Али не было никаких. Да ведь только начало надо… остальное все – в ней самой?
Решая и не решая, бросив свои дела, Аля выехала на ферму, в Шато де Бургонь, где-то под Пиренеями.
III
Але приснился сон.
Будто она у себя в Лохове, сидит одна в опустевшей зале и горько плачет: пьяные, наглые солдаты и мужики потащили сейчас куда-то ее рояль. В зале очень светло и холодно, в раскрытые окна дует, и виден голый, засыпанный снегом сад. Там орут и трещат кустами, – как будто ищут Мишу и Лялика. А они приехали с фронта, пьют чай в столовой и совсем ничего не знают. Надо сейчас же предупредить их, а она не может ни двинуться, ни крикнуть. Вдруг входит отвратительный человек, долговязый лоховскии учитель Лукин, похожий на удава. Аля в безумном ужасе, но спастись от него нельзя. Он мягко подпрыгивает в валенках, разматывает на шее свой грязный шарф, присаживается к ней так тесно, что прижимает ее плечом, разваливает ужасные свои ноги в валенках, сдавливает ей пальцы костлявой и липкой лапой и, обдавая табачной гнилью, говорит глухо, чахоточным, пустым голосом: «Что, Александра Вадимовна?.. Вы меня всегда презирали и называли не иначе, как „какой-то учителишка, Пу-кин!“?.. А вот теперь я здесь самый первый… товарищ Пушкин!.. И вот реквизнул у вас рояль… и все могу отобрать, до нитки, а вас выгоню на мороз! Вот захочу сейчас – и арестую Мишу и вашего жениха Лялика!.. От вас зависит… станьте моей любовницей!..» Тянет к себе и хочет ее обнять. Аля вырывается от него и бежит к дверям, чтобы позвать на помощь, но учитель страшно топочет валенками и сейчас выстрелит… Она закрывается от него, топчется у дверей и кричит в ужасе…
Проснувшись, Аля слышала, как кричала, и никак не могла понять, – что это?.. Какие-то беловатые полоски. Сердце стучало, до удушья. Гукнул как будто автомобиль, где-то говорили по-французски… – и ее охватила радость, что это сон, и с ней ничего не будет. Беловатые полоски – это ставни, разговаривает горничная в коридоре, убирает… она – в отеле, в тихом городке, у океана, вчера приехала из Парижа и сегодня поедет в Шато де Бургонь, пятнадцать километров от городка, на ферму «Пуркуа-Па?», к милому «дядичке», последнему, кто у ней остался… все ему объяснить, все, все… – и пусть он ее благословит!
«Господи, какой ужас… – думала про сон Аля. – Но до чего все ярко, кустики даже под окном, и милые трещинки на полу… и даже полоска на стене, где стоял рояль, и снег!..»
Все стало перед ней так живо, и так стало больно и жаль всего, что она закрылась одеялом и зарыдала.
В коридоре гремели чашками, пора вставать. Автобус уходил в 9. Струились беловатые полоски в ставнях, – от солнца за обнажавшимися платанами, от ветра.
«Но как же это я… если даже во сне так страшно? – подумала о своем Аля. – Но это во сне всегда, когда воля теряется. Господи, дай мне сил!»
И она стала одеваться.
В церкви, за мэрией, звонили по-деревенски, часто, – совсем как в Лохове.
Так она и подумала вчера, когда ее подвезли к отелю, и сразу здесь ей понравилось. В тупичке темнела старыми мшистыми стенами церковь, с георгинами и какими-то золотистыми цветами в садике. Старушки в черном шли вперевалочку к вечерне. Спали под платанами собаки, в мэрии кто-то играл на флейте, грустно. Автобус шел только завтра, и это было приятно Але: она никогда не видала океана. Оставив в отеле чемоданчик, она пробежалась по городку, уснувшему с окончанием сезона. Все на нее смотрели, как в уезде. Играли ребятишки в обруч, кубарики гоняли, старухи вязали на крылечках, ходили куры, почитывали старички газеты, – и славно звонили в церкви.
День был тихий и облачный, душный даже, хоть и октябрь, как бывает в этих местах, у океана. За городком начинался лес, – пески да сосны, как в Лохове. Сумрачный человек, с топориком на палке, указал ей дорогу к океану – лесом, прямо на mer souvage. Аля увидала сосны, залитые смолой, в плывущих ранах. Это были другие сосны, не розоватые, как у нас, в золотисто-воздушных пленках, а угрюмые сосны ланде, терзаемые вечно скобелями. Но воздух был тот же, крепкий. И та же глушь. И звонкие петухи за лесом. Поросшие сосняком холмы были совсем как в Лохове, если идти на хутор, – только берез не видно.
Але вспомнилось, как стояла она в снегу, в овраге, и Семен Николаевич, бедный… как он плакал!.. И никого, никого теперь!..
Накатывало гулом. Океан?..
Она увидала у дорожки – рыжик! Такой же, розоватый, оранжевая бахромка снизу, и тот же запах! Она поцеловала рыжик и спрятала в сумочку – милый привет России.
Песчаные, голые холмы. За ними – океан, бездумный, смутный от облаков.
Он вдруг открылся из-за бугра, огромный, – всей своей пустотой открылся, – и она почувствовала себя затерянной. Тяжелый, сонный, плескался он глухо по берегам.
Тяжел океан для одинокого. Его безбрежность, бездумное его качанье – давят душу незащищенную. Не умолкая, мерно шумит, шумит, – одно и одно, всегда.
Долго она смотрела. И вот беспределье и пустота – сжали ее тоской. Она поглядела к небу. Серая пелена давила.
«Такая тоска… Господи!.. – шептала она, теряясь. – Вечная, слепая сила… Господи, есть же Ты?!..»
Замерцало в глазах и закружилось. Она быстро пошла от океана, слыша за собой шум, бездумный, темный.
Вечер она просидела в номере, смотрела на желтые платаны, как опадали листья. Зажглись фонарики, у мэрии затрубили в трубы: какой-то праздник. Крепко играли марсельезу. Потом очень скучно танцевали, пускали фейерверк. В треске огней и труб чудились Але писки каких-то птичек. И она увидала птичек: они метались над площадью, прыгали по ветвям платанов, тыкались сослепу в балкончик, испуганные треском. Их было множество – всяких, мелких. Влетела одна в окошко, куда-то ткнулась. Аля зажгла огонь. На спинке кресла птичка держалась коготками, прижалась грудкой. Аля признала коноплянку-зеленушку. Нежно сняла, пригрела.
– Милая конопляночка, откуда?…
Не мигая, смотрела черными бусинками птичка. Задремала. Аля посадила ее под шляпку.
Огни погасли, кончился день у океана.
Проснувшись после кошмара, Аля остро почувствовала безмерность своей утраты, – почувствовала затерянность, как было вчера у океана. Вспомнила, что там Митя, что сегодня увидит «дядичку»…
«Нет, надо быть сильной, надо верить!.. – внушала она себе. – Не слепая сила… нет, есть Господь… и все в лоне Господа! живое, вечное, а не пустота… Дух Божий над бездною!.. Надо идти к Правде, искать Его!..»
Вспомнила про ночную гостью, вынула осторожно, поцеловала и пустила. Утро было чудесное. Щебетом, писком, свистом неслось с платанов. Откуда столько! Горничная ей сказала, что в эту пору всегда их много, – летят через это место, на Пиренеи, к югу.
– У нас миллионами их ловят! Едят, вкусные. Бедная конопляночка!..
В девять часов Аля выехала из тихого городка на Шато де Бургонь, лесной дорогой, совсем спокойная.
IV
От Шато де Бургонь до «Пуркуа-Па?» – как называлась ферма, – два километра Аля прошла пешком. В перелесьях сидели фермочки: домики, винограднички, коврики клевера, гривки засохшего маиса, ниточки золотистого патата, кучки розовых тыкв по дворикам. Дымились в садиках костерки бурьяна. Тащили в ящиках навоз ослики. Хрюкали по закуткам свинки. Старички пилили дровишки на зиму. Все было пригнано, прибрано, поджато. И всюду перелетали птички. «Неужели и дядичка такой же? – думала грустно Аля, приглядываясь к копавшим в огородах. – Полковник-артиллерист, специалист по баллистике, создавший свою теорию дальнобойной пушки! И ферма – „Пуркуа-Па?!.“»
Але сейчас же указали:
– Русский полковник?… Bon-homme, замечательный совщик! Вон белый домик с синими ставнями!..
Крыша широким скатом, шпалеры золотистого патата, клевер, торчки маиса и розовые тыквы. И Митя, ходил за курами!. Семь лет боев… три года на заводе, куры, патат и кролики… шкурки – кошатникам! Там – пришлые, негодяи, убивают, тлят и поганят все, сжирают, швыряют иностранцам… а здесь – достойнейшие, свои, герои, специалисты… разводят патат и кроликов, и это – счастье! Митя, с третьего курса кораблестроения… и сколько таких раскидано, и погибло, и погибает..!
В шляпе факельщика, в затертом френче, штаны в сапоги, стоял полковник в садике, шевелил вилами в костре. Аля узнала его по росту и сапогам: к ботинкам не мог привыкнуть! Тут же капитан Сумин, однорукий, копал, изоочась, картошку. Аля окликнула. Полковник уронил вилы, лицо его застыло. Она поняла и крикнула:
– Все благополучно! Я по своему делу, не успела предупредить!..
– Алик… Алик… – взволнованно говорил полковник, идя навстречу, по привычке одергиваясь и подтянувшись. – Ах, молодец… еще похорошела!.. По делу… не замуж, а?.. Господи, как я рад тебе, Алечка… – говорил он растерянно. – Погоди, руки грязные. Митя не писал?.. Нет, правда?.. Слава Богу. От июля было… Да ты бы телефонировала вчера, на машине бы за тобой, у мосье Рабо за бензин бы только, по доброму соседству! Не устала? Умыться если… Да брось, капитан, черт с ней, с картошкой! Ангел с неба!.. Казаку белого литр, за мной запишет! Латифундию поглядишь?… шесть гектаров… ну, черт с ними! Кур хочешь… кроликов?.. Ну, и черт с ними. Двести литров вина нажали, столько же покупать… Еще что?.. Патата для скота, скотов – старый осел и тройка лихих свиней… Сапожничаем с казаком, часы чиню, планы черчу, мэр – приятель, анализы делаю, доктор присылает… на аренду бы наскребать. Ну, как?..
«Дядичка» мало изменился, подсох, почернел, и руки жесткие. Морщин прибавилось, похож на горца…
– Питаемся… а вообще – пытаемся! Неинтересно, к черту… Идем.
– Разгону нам нету, барышня… – сказал знакомый Але казак, ростом с полковника, только моложе и пошире. – Промеж забору, для разговору. Японцу тут ползать!..
– Не уходить! – мотнул полковник на казака. – Гоню, ступай на Буко, под Байоной, артель там, к тысяче бы выгнал… прилип с Лемноса!
– Я говорю, что… Наберите на камиончик хочь, а мы с господином капитаном управимся…
– Играй обед!
Для торжества полковник надел пикейную тужурку и затопил громадный камин сосновыми дровами, «чтобы пальба была!» Капитан надел пиджак с приколотым рукавом и поставил букет золотистого патата, за неимением хризантем. Подавал казак-повар: потофэ картошка со шкварками, яичница на сале. Пили за «слетевшего ангела».
– Вино с «Пуркуа-Па?», или – «вен-па-пердю»! А как мы его давили!
– Винцо соответственное, только наше урюпинское куда! Вы-морозки!.. Графский винодел антиресовался: «скажите, как вы достигаете 22 градуса?»
– Спирту, мол, подливаю…
– Не-эт… А секрет. И не сказал!
– И мне не скажет!
– Вам я по дружбе скажу, как воротимся. Эх, сад-виноград… не побей тебя гра-ад..!
Аля увидала маленькую икону Спаса, на русской ленте.
К ленте приколоты ордена – белый Георгий, солдатский, еще… Ей сжало сердце. «Живут, сыты…» – думала она, – и хотелось плакать. Всех их ей было жалко: казака, которому нет разгону, дядичку, и однорукого молодого капитана, такого тихого, – у него начинался туберкулез. У него убили мать и двух братьев. Он был студентом-филологом, а теперь собирался уйти на Валаам или на Афеон, – но куда же пойдешь без денег и без руки! После обеда полковник сказал:
– Отпуск до ужина. Казак отправляется в поход, к мадам «Филе», чинить ей раму, дело соответственное. Сума будет смотреть на небо, не пойдет ли дождь, а мы будем щекотать душу. Кофе выпили, ликеры… выпьем потом!.. Сигары – кто желает – в Гаванне…
Аля видела, что у дядички «пели нервы»: он ходил, тихонько насвистывая, как Митя.
Она его хорошо знала.
Полковники, – и отец ее был полковник-артиллерист, – были друзьями еще со школы, в Петербурге жили одной семьей, и именьица их находились в одной округе. Но у Али с Митей почему-то были всегда раздоры. Они очень во многом не сходились. Им казалось, что другой заносчив и считает себя авторитетом. Во время войны, когда Аля была на санитарных курсах, Митя прислал с фронта карточку, где снялся с «сестрой», какой-то княжной Забелло, спасшей будто его от смерти. Княжна была очень некрасива. Когда Митя приехал, Аля смеялась, как он «попался», что таких князей нет, наговорила дерзостей, бросила курсы и поступила в консерваторию. Только через три года встретились они в Новороссийске. Митя помог ей похоронить мать, умершую от тифа, и почти насильно эвакуировал ее в Крым: она хотела остаться, чтобы пробраться в Сибирь, где находился ее отец. В Крыму она просилась в полевой лазарет, но ее назначили в Севастополь, и она узнала, что это сделал ей «назло» Митя. «Княжна» же оказалась в полевом госпитале в Джанкое. Встретились они снова в Галлиполи, где их помирил дядичка. Но и здесь они часто вздорили.