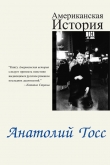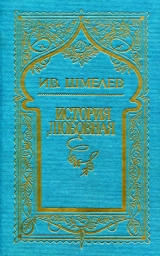
Текст книги "Том 6 (доп.). История любовная"
Автор книги: Иван Шмелев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
XLII
– Куда это вы такой нарядный? – спросила Паша.
– Ко всенощной. Завтра ведь Николая Чудотворца, великий праздник.
– А мне и помолиться-то некогда!..
Меня заточила совесть, и я вздохнул. Паша взглянула благодарным взглядом, – подумала, должно быть, что я по ней вздыхаю. А я подумал – какой я гадкий! Она мне швырнула «уточку», а я душусь. Никакой гордости, все ниже опускаюсь. Женька сказал: «Предсказываю тебе, что ты кончишь развратом!» Неужели это путь к разврату?… Что-то мне говорило – да, к разврату! – но я уже не владел собою.
Меня колотило лихорадкой, звенело в пальцах, – так все во мне дрожало. Не вернуться ль?… Звонили по церквам, и в этом звоне было для меня томленье, – голова кружилась. Проходившая мимо дама сказала господину: «Какой он бледный!» – про меня, должно быть. Это ужасно, если бледный!.. Не было магазинных окон – посмотреться: сады, заборы. Вот и «Риз-Положения», в березах.
Ноги мои дрожали и немели, когда я поднимался по ступенькам. Вместе со мною в церковь входил священник – служба еще не начиналась, – приветливо поглядел, – какой, дескать, примерный мальчик! – а я подумал, что это не к добру – священник. Шмыгали неслышно богаделки, стелили коврики, обмахивали перьями иконы, роняли свечки. Я встал направо, к стенке. «Направо, у колонны!» Посмотрел к колонне: отлично видно. Или встать поближе? Заслонят ведь. Вон уже встал один, лохматый, и старушонка. Звяканье дверей пронизывало искрой. «Прошкина тут стоят… вперед пройдите, места много!» – сказала богаделка и ткнула костью. Это меня озлило, и я уперся. «Разве у вас по билетам?» – сказал я резко. «Шмоняться ходят только…» – шипела богаделка, проходя. А я подумал: и это не к добру, пожалуй… Выйти на паперть, встретить? Было стыдно. Она же помолиться хочет, а я, как искуситель!.. Церковь понемногу наполнялась. Батюшка прошел с кадилом, диакон со свечою. Батюшка меня заметил и покадил отдельно, – дескать, примерный мальчик, покажу-ка ему отдельно, как в награду! Томила совесть, я пробовал молиться, но все напрасно: она не отходила. Бухало дверями, в сердце, – я косился. Запели: «Свете ти-хий… свят-ты-ыя сла-а-вы…» Сердце мое упало и рванулось… Соломенная шляпа, с широкими полями, с васильками!.. Она, вся в белом, как невеста, как божество!.. Белое «жерсе»! Пышные волосы, золотистого каштана, покрывали плечи, красиво обрамляли… Но лица ее я не видел. Она стала направо, у колонны. И там, где она стояла, струилось светом… Она молилась. Она горячо молилась! Я взирал восхищенным взглядом, как склонялась ее головка, как изгибалась шея. Маргарита!.. Чистая и невинная, как Маргарита…
Я стал осторожно продвигаться и стал неподалеку, у колонны. Какое это было счастье – стоять так близко! Я уже не слышал певчих; я слышал: она дышала! Я слышал, как шелестело ее платье, как переливались волны золотистого каштана, когда она молилась. Я смотрел с восхищеньем, как шевелились пряди, и в них трепетала и играла, как золотая рыбка, цепочка на полной шее. Крестильная цепочка! Я следил, как мраморные пальцы игриво поправляли падавшие на щеки пряди. С благоговением я смотрел, как падали складки ее юбки, белой, чудесной юбки, когда преклоняла она колени; как выглядывал крохотный каблучок-катушка из-под милой ее оборки, как прятался стыдливо. Я вдыхал чарующий аромат ее – как будто гиацинтов? – сладкий. Я прожигал возмущенным взглядом широкую спину какого-то болвана с подрубленными волосами, который встал почему-то перед нею и закрыл иконы. Он бухался перед нею на колени, и его сапоги с гвоздями касались ее платья. Как она горячо молилась! Она опустилась на колени и поникла… А я… – над нею. Мелькало в мыслях, что это ужасно дурно, что я же искушаю. Она предалась молитве, душу открыла Богу, а я, как Демон. «К тебе стану прилетать!..» За шестопсалмием мне звучало: «И будешь ты царицей… ми…и…ра-а-аааа…!» Вспоминался и Мефистофель, как он из-за колонны, в храме: «Маргарита, ты когда-то была невинна… теперь погибла… спасенья не-эт!»
Должно быть, мои взгляды и вздохи сказали ей… Она повернула голову и чуть взглянула. Она улыбнулась даже?! Я уронил фуражку. Она взглянула и мило улыбнулась. Я нервно оправил пояс и стал креститься. Я разглядел родинку, другую… и вспомнил Пелагею Ивановну. У той были просто бородавки! А это – милые родинки, как «мушки». Я разглядел полные, розовые губы, не розовые, а пунцовые, как пурпур, выгнутые капризно, нежно. И милый подбородок, немного полный, и носик, вздернутый чуть капризно, но очень мило, и щечки, пушистые, как персик. Я созерцал, забывшись, и вдруг – меня затрепало дрожью, толкнуло в сердце…
«Хвалите имя Господне, хвалите раби Го-спода… Аллилу-й-я!»
Она пошла, скользнувши взглядом через пенсне. Прошла, – и повеяло сладкими духами. Дыхание во мне остановилось. Я замялся… – и невольно пошел за нею. Кажется, все смотрели, но я не владел собою.
«Пусть, все равно… погибну… – мелькало во мне, как счастье, – и с нею вместе! С тобой мне ад, как рай чудесный… – вспомнилось из последнего моего. – Какое счастье!..»
Я шел на веревочке, за нею. Меня тащило. Мы вышли вместе, и я совершенно растерялся. Ноги мои сводило – счастьем, страхом. А она выступала так свободно, небрежно даже, чуть-чуть поводя плечами. Мелькало в мыслях: «Соблазняет… увлекает в бездну…» Я шел, как опьяненный, и в голове играло и стыдило: «Шла де-ви-ца… за-а-а во-одой… за ней парень молодой…» Я громко споткнулся – она не обернулась. Но все ее движенья говорили, что она знает, что я иду за нею. Меня тащило. И было нестерпимо стыдно, …кричит – «девица, постой… красавица, подожди-и!..» Она выступала затаенно, томно, – как будто ожидала: «Ну же…?» Соломенная шляпка говорила: «Так что же?!» Синие васильки кивали: «Можно, можно!..» И, кажется, ласточки кричали от восторга: можно!..
Мы очутились в переулке, за оградой. Я снова споткнулся, и меня окатило жаром. И вдруг она обернулась, улыбнулась… – и сразу ослепило.
– Ах, вы…! – спела она игриво. – Мы… знакомы?…
Я запнулся, обдернул пояс, сорвал фуражку. Она протянула руку, ужасно мило. Но что же надо?… знакомиться?…
– То… Тоня… – выдавил я смущенно.
– Ах, если вы То-ня… ну, тогда я Сима?… И она звонко засмеялась.
– Что же вы ничего не скажете? А так писали?! Вы смущены, То-ня? Чем вы смущены? что идете впервые с… женщиной?… Да ну-у же, начинайте смело. Что? боитесь вашего надзирателя?…
– Нисколько, а… вообще! И потом я уже в старшем… У нас просто… можно сказать – с сестрой!.. – выговорил я бойко, и стало легче.
– В таком случае, берите под руку. Да не так, не с правой руки! Ну, вот. Вы будете отличным кавалером. Не шагайте так, по-военному… я прямо задыхаюсь.
Я боялся взглянуть в лицо. Но она смотрела.
– Какой вы юный! Вам пятнадцать? Шестнадцать?! Да вы мужчина! Но… детское лицо какое! – сказала она нежно.
Я шел, ничего не видя.
– Пе-рышко раздавил! – заорал мальчишка, игравший в перышки. – Черт слепой!..
Я чувствовал ее дыханье, ее благоуханье. Плечо ее каса; лось, обжигало. Она прижимала мою руку.
– Но какой вы, однако, взрослый… в письмах! Вы прямо как мужчина!
– Когда выражаешь чувства… вообще, чувства к женщине… Простите… я, кажется, не так выразился?…
– «К женщине…» Ну, что? Ну, говорите… – сказала она, касаясь меня плечом. – «Чувства к женщине…?»
Я видел ее губки, похожие на херувимов, и вдруг подумал: «Мы будем целоваться?!»
– Что с вами?… – сказала она быстро, – как побледнели?…
– Разве?… – смутился я. – Не знаю… Может быть, от экзаменов… от всего пережитого?… Как я счастлив, что вы… вообще, не видали ужасов… этого потрясающего… Я видел картину преступления, этого потрясающего… – Да, мама говорила… Ах, да… оказывается, вы были знакомы… с этой толстой красавицей, которая все по окошечкам валялась! Были влюблены? Нет, правда? Что-то у вас было…?
– Так, пустяки… – уклончиво сказал я, рисуясь. – Она… вообще, дарила меня вниманием, но… это до замужества еще…
– Ка-ак, давно?! – захохотала она. – Вот не ожидала! Да вы, молодой человек, оказывается, уже о-пытный в «амурах»?! И целовались? и что-нибудь… серьезное?… Посмотрите в глаза… «дарила вниманием»?
– Ах… – загорелся я и почувствовал, что опять бледнею, – вы не так поняли, Серафима Констан…
Она перебила бойко:
– Говорите – Симочка! Мы же совсем друзья!
– Ах, я не могу… Серафима Константиновна… мне трудно так…
– То-ничка, скажите – Си-мочка! Ну, я так хочу!.. – повторила она настойчивей и притиснула мою руку локтем.
– Си…мочка… – робко повторил я и покосился: губы ее смеялись.
– Я же вам позволяю! Ах, какой вы стеснюга… А что писали?… «Целую твои… божественные ноги»?! Вы же позволили себе написать? А тут вдруг… Вы даже позволили себе такую интимность… написали про мою грудь! «Как пена вод морских»! А? В письме вы смели, а…
– Простите… – прошептал я, – но там это, вообще… как «поэтический беспорядок», сфера поэзии…
– Значит, вы все выдумали? И ваше чувство, ваша…?
– О, нет, нет!!! – воскликнул я горячо, – мои чувства вполне гармонируют с…
– Письмами? Прекрасно. И вы позволили себе называть меня «прекрасным телом, ароматы которого кружат…» ваши мечты! Так, «кружат»? а? Вы хотели… «расцеловать всю» меня?… – шептала она, заглядывая в лицо. – А теперь стыдно, а?… А если, – она опять притиснула мой локоть, и меня охватило жаром, – если вы вызвали во мне что-то?… Ваши письма прямо вулканического происхождения! Вы – мальчик, но в чувствах вы, как опытный мужчина! О-о… – погрозилась она перчаткой, – надо смелей, что думаете, то и делать! Не надо раздваиваться. Почитайте Шпильгагена, Жорж Санд… Они говорят, что в любви надо быть смелым! Любовь между мужчиной и женщиной… а мы мужчина и женщина? правда?… – это же так естественно!.. – болтала она, а я замирал от счастья, я видел сон. – Вы какой-то «роман» уже имели? Поглядите в мои глаза…
Я посмотрел в ее синеватое пенсне, за которым чаровали меня глаза. Они казались огромными, сияньем неба. – О, вы о-чень большой плутяга! И глазки вовсе не невинного мальчика! Серьезно, вы целовали женщин? Ага, сознались. Если вы целовали женщин, я не поверю, чтобы у вас еще не было романа!..
– Клянусь, Серафима Констан…
– Се-ра-фи-ма! Я так хочу. Мы достаточно близки, правда? А кто так страстно целовал заборы? Вы забыли?…
– О, Серафима… – прошептал я, и во мне зазвучало смутно: «О, Серафи-ма… о, Херуви-ма…» – слова студента.
– Вы ловко тогда меня поймали! Умеете, сладко чмокаете, мальчи-шка! То-ня… – прошептала она мечтательно, и я еще более смутился. – Помните, я писала, что я немножко… вакханка? А, романа не было? Вы – чистый, в таком смысле? Я еще впервые целовалась с «ангелочком»…? – сказала она взволнованно, показалось мне, и мне стало совсем легко.
Я понял, что с ней можно говорить совсем свободно: она смотрит на все естественно!
– Итак, я вам очень нравлюсь? Вы не разочаровались? Я красива?…
Она забросала меня словами и все прижимала локтем. И я невольно поддавался ее порывам. Было такое чувство – как будто таю.
«Боже мой, – спохватился я, – я и забыл про ландыш!»
– Что вы так вздрогнули? Вам страшно с… женщиной?…
– С вами… нет, Серафима… – пролепетал я. – Кого безумно любишь… Я не знаю, я схожу с ума от любви к вам…
– Что же вы хотели бы от меня?… Вы писали… осыпать поцелуями, вечно сидеть у моих ног и даже лобызать край моего платья! Будете довольны этим?… – прошептала она, склоняясь. – Вы читали «Дафниса и Хлою»? Нет?! Так надо вам дать прочесть. Это такая прелесть!..
– А там про что же?… – спросил я, стыдясь чего-то.
– Да про любовь! Один мальчик любил девочку, а попал на опытную женщину! И она научила его любви.
– Научила любви?… Как же она… научила?! Это же так само собой понятно… любовь! Научить любить нельзя! – сказал я с жаром. – Если человек не питает в душе чувства к… женщине, то чувству научить нельзя!..
– Говорите, говорите… это интересно! – сказала она, что-то во мне разглядывая.
Я смутился: что же еще сказать?
– А что такое – чувство? Ну, например, что вы чувствуете ко мне?… Что-то во мне вам нравится? Что же вам нравится?…
– Все! Ваши волосы, ваш голос… ваш стан богини!..
– Так… – сказала она нежно, – а видали богинь?…
– Статуи, скульптуры… – смешался я. – Но они без платья! Значит, вы меня воображаете… как статую? И вам нравится мое тело, да?…
– Нет, это… я не могу выразить. Что-то такое… вообще, таинственное, как тайна. В каждой красивой женщине… кажется мне, есть что-то особенное… таинственная прелесть…
– И вы хотите узнать, какая это… тайна?! – наклонилась она ко мне, и я скользнул боязливым взглядом по ее белой шее, по линиям ее корсажа. – Что же вы молчите, Тоня? Ну, что вы чувствуете сейчас?…
– О, я так счастлив!.. – воскликнул я и с ужасом заметил, как проходившая баба усмехнулась. – Я иду с вами, и во мне такая радость… Я так мечтал!.. что встречу таинственную и необыкновенную…
– «Царицу солнечных лучей?»… Мне ужасно понравились стихи, все стихи! И еще… «прелестны, невинны как ландыш весны»! Я выучила наизусть.
Я вспомнил опять про ландыш.
– Стихи стихами, но вы еще написали, что «ваш телесный образ божественно наполняет мою душу»! И выходит, что вы желаете чего-то «телесного»? а? правда, Тоничка?… Говорите прямо, я люблю, когда говорят прямо…
– Но я тогда горел безумием, Серафима Константиновна…
– Симочка! Нет, лучше говорите – Серафима.
– Я тогда ничего не помнил…
– А теперь, когда мы идем рядом, и я прижимаю вашу руку? Теперь вам уже… что вас наполняет?…
– Я вас люблю безумно, страстно… Серафима… – шептал я, уже ничего не видя, и голова кружилась.
Нет, я видел носочек ее туфли, выпрыгивавший из-под края платья, выгиб ее колена…
– Вот и Нескучный! – сказала она, – совсем и незаметно дошли мы с вами.
Зеленые березы золотились, качались в солнце. Было тихо, но как будто они качались. Солнце стояло низко, за кустами, и дрожало.
Она на меня взглянула.
– Теперь вы румяный стали, а были бледноваты. Глаза горят, что это с вами? Так разволновались?… Какой интересный вы, свеженькое лицо какое, как девочка… – шептала она нежно и прижимала локтем. – Посмотрите, как на нас смотрит сторож. Интересно, что думает?…
Старичок, с красным околышем, добродушно смотрел на нас.
– До которого часу можно гулять? – спросила Серафима. – А сколько погуляется, барышня… хоть до одинцати. Соловьи петь стали. Свои, знаю… Гуляйте на здоровье.
– Чудесный старик! – сказала она, смеясь. – Он сразу понял и покровительствует… влюбленным, правда?…
– Симпатичный старик, я ему дам на чай… – сказал я важно. – Копеек двадцать, я думаю?…
– Какой богач! Гривенника довольно.
– Что такое гри-венник! – шикнул я своим богатством, хоть и было у меня всего двугривенный. – Знаете, мой принцип, вообще… давать всегда хорошо на чай. Люди рабочие, все-таки… Пусть выпьет за ваше здоровье!
– За наше! – сказала Серафима, засматривая в глаза. Сердце мое вспорхнуло: какое счастье!.. И все осветилось счастьем: и сторож в придавленной фуражке, с буковками «Д. В.» – Дворцового Ведомства, конечно, – а мне припомнилось, как Женька называл этих сторожей – «Дай В зубы»! – и желтые корпуса построек, и купы дерев, дремавших, хранивших тайну.
Мы прошли предсадовую длинную аллею. Липы уже зелено дымились. В сочной траве под ними, у стен построек, слабо желтели одуванчики, закрывшись к ночи. Пахло ве-сенне-тонко. За каменной оградой сирени начинали распускаться.
– Идемте совсем поглуше, – сказала Серафима. – Где соловьи.
– У Чертова оврага? И еще, в Аллее Вздохов, там заросли! Ах, Серафима… я чувствую, что вы разбудили во мне мечты, поэзию. Этот старинный сад на меня производит чарующее впечатление!.. – мечтательно сказал я. – Мне хочется сочинить вам стихи, воспеть наше первое свидание…
Она восхитительно взглянула.
– О, я знаю, что вы поэт!.. Ну, попробуйте, интересно.
XLIII
Я углубился в мысли. Она посмотрела с любопытством.
– Вы сочиняете?… Это очень трудно?
– Пустяки! Впрочем, зависит от настроения. Но когда около тебя любимое существо, мысли слетают роем!.. – говорил я дрожащим голосом. – Вы, Серафима… не глядите. Я вам сейчас… Вы устали, дорогая?… присядем, если хотите, под эту липу…
И я вспомнил:
А садись под липу,
Будешь очень рад!..
– И вы сейчас сочините?… Ну, посмотрим. Она побежала, подхватив меня под руку.
– Какая же вы бегунья!.. Как девочка, честное слово…
– О, я с вами еще побегаю!.. – крикнула она, падая на скамейку и увлекая меня. И вдруг, поцеловала!
Я даже вздрогнул.
– Нет, нет… – зашептала она, смеясь, – немножко рано. Вы меня поцелуете, когда мы услышим соловья, да?
– А если не услышим?…
– И тогда поцелуете. Стемнеет, и мы повторим то… помните, у забора?…
И она стиснула мне руку.
– У, мальчишка… совсем увлекли меня!.. Ну, стихи?… Стихи у меня были с утра готовы, когда я ее увидел. Но я все думал. Она пожимала мои пальцы, играла ими.
– Кажется, я могу… Вот, что-то… Дайте мне вашу руку, и я сейчас сочиню стихи!..
– Она у вас.
Я стал целовать руку, пахнувшую как будто ландышами. Как это кстати!..
– Как ваша прелестная ручка пахнет ландышами! – воскликнул я. – У меня кружится голова…
Правда, голова у меня кружилась. Маленькая ее ножка царапала по песку носочком.
– Как вы, однако, ловко умеете целовать руки!.. Кто вам давал уроки? Оставьте, не поверю.
– Совсем ландышами, ландышами… – шептал я, целуя уже выше кисти.
– Вы угадали. Я всегда мою руки ландышевой водой. Это очень гигиенично, – сказала она. – Слышите, птичка…?
Над нами, в липе, посвистывала какая-то пичужка. Мимо прошел худой и бледный молодой человек и болезненно посмотрел на нас.
– Он нам завидует, как вы думаете? – спросила она и засмеялась нарочно громко.
А я все разглядывал пичужку, вспоминая свои стихи.
– Пойдемте туда, поглуше. Да, а стихи-то что же?…
– Вот, что-то у меня вышло…
О, если б ландыш скромный, нежный
Я мог найти один для вас,
Как вы… чудесно белоснежный,
Я услыхал бы Неба глас:
Любовь тебе открыла рай,
В душе твоей душистый май!
– Вы?! – воскликнула она, крепко сжимая руку. – Да вы совсем поэт!..
– Немножко… – сказал я скромно, замирая от похвалы. – Это ваши душистые руки дают мне силу!
– Идемте. Мы должны непременно найти соловушку. Идемте к Чертову оврагу.
Она подхватила под руку и потянула.
– Правда, как хорошо? Когда любишь, может быть, впервые?…
Я не помнил себя от счастья. Я хотел бы остановиться в аллее и целовать ее маленькие ножки. Но она все бежала. Волосы ее щекотали мои щеки.
– Постойте, – сказала она, – мы почти одного роста с вами? Давайте меряться…
Она стала ко мне лицом, вплотную. Я почувствовал даже ее ноги.
– Ну, что же… мои губы чуть-чуть повыше, на полвершоч-ка… – шептала она, и я слышал ее ароматное дыханье. – Вы… чего это побледнели?… Ми-лый… – шепнула она и поцеловала в губы.
– Догоняйте!.. – повернулась она и побежала.
Я видел, как волосы ее взметнулись, разлетелись, как завертелась над каблучками юбка. Я сейчас же поймал ее за локоть.
– Кажется, соловей…? Постойте… – зашептала она, дыша. – Слышите?… Не дышите, тише!.. Что вы такой… дышучий?…
Она затопотала.
Соловей нежно чокал, как будто целовались. В темно-зеленых елях, на поляне, к Москве-реке, черемуха еще мерцала грузно, осыпалась. Но пахла сильно. Я обнял Серафиму, осторожно…
– Ми-лый… – шепнула она, – увидят…?
Я быстро отдернул руку, но было совсем пустынно. Прямо, за рекой, красно садилось солнце. Молодые клены розовели.
– Скорей, идемте, где соловьи… – сказала Серафима нервно. – Здесь очень солнце, вредно моим глазам. Да, свет мне вреден, потому я и не снимаю пенсне. Так вот… Странно, как у нас с вами вышло! Мы все уже сказали в письмах!.. Теперь, что же у нас с вами… дальше? Нет, постойте… сперва скажите, что вы во мне нашли?…
– Я в вас нашел… идеал! – страстно воскликнул я. – Я мечтал, что вот, я встречу когда-нибудь… женщину, лучезарную женщину… как… я не знаю!.. Ваш нежный голос, ваши движения, ваши чудные волосы, ваши глаза… О, снимите пенсне… дайте мне ваши глаза… лучезарные глаза, как небо!.. – умоляюще шептал я.
Она отстранила мою руку. – Успеете, это будет там… – сказала она стыдливо. – Ну, как это вы сказали… «лучезарную женщину, как…» кто же?… Держите меня крепче, прижмите к себе… крепче!.. Нет, оставьте пенсне, после!
И она сама прижала меня к себе, охватив голову.
– Какой горя-чий. Почему вы такой… жаркий? Так волнуетесь? Почему это? боитесь… женщины? а? Ну, так – как кто же?…
– Я не знаю… что-то волшебное, нежное, как… Зинаида, в «Первой любви» Тургенева… вы читали?…
– Конечно. Чудесная девушка… или там… женщина…
– Она любила его отца, и поселила в душе Володи страшные муки ада!.. Он не спал ночи, целовал ее в мыслях… И со мной, то же… явились вы, и я полюбил вас безумно, с того вечера… помните, за забором Мика?…
– И… живая интересней для вас, конечно? И не будет «ада»? Вас я не буду мучить, как ваша Зинаида. Дайте скорее ваши губы…
Она сама нашла мои губы и даже надкусила.
– Ах, сладкий какой… мальчи-шка!.. – сказала она нежно и потрясла за плечи. – Не надо «ада», правда?…
– Нет… – сказал я тихо. – Но… может быть, вы читали, на мостике Чертова оврага стихи? Теперь их нет… Как вы смотрите?… «Эдип» написал, что «ад», а «Сенека»…
– И вы читали?! – воскликнула она и засмеялась. – Это же когда еще Кузик написал! Один знакомый студент, мы его зовем – Кузик! – И она пропела:
И не верь «Эдипу»,
Что любовь есть ад!
А присядь под ли-пу
И целуй-ка Ли-пу…
Будешь о-чень рад!..
– Это самое?…
– Но там не было – «и целуй-ка Липу!» – сказал я.
– Это мы уж потом присочинили. И даже больше…
– Это тот студент, с бородой? Я его видел у вас…
– Ревнуете? – спросила она, смеясь. – Он тоже в меня влюблен, и очень даже…
– А вы? Ради Бога, скажите правду… я так измучен!.. Вы… его любите?… Ради Бога, умоляю вас!.. – воскликнул я, падая перед нею на колени.
– Отку-да вы вообразили?! Успокойтесь, встаньте… увидеть могут!.. – прошептала она, оглядываясь. – Боже, вы плачете?! Ну, что вам… какой-то пустяк! Просто, знакомый наш… И она подняла меня. Она сама вытерла мне глаза платочком, сказала мило: «Какой бяка!» Я отвернулся, ломая руки от возбужденья, от стыда, от боли.
– Но я же видел! вы ездили к Троице!.. – сказал я, подавляя слезы. – Видел вас на извозчике. Он обнимал за талию…
– Однако, какой вы сыщик! Успокойтесь, милый… – потрепала она ласково по руке, – не раздирайте сердца. Сейчас я люблю то-лько одного… То-ничку!..
Она вдруг обняла меня, прижала к груди и стала ласкать и гладить.
– Идем туда… Я тебе все скажу… все… Ты мой, и я твоя… вся твоя, мой чистый, юный… мой… – шептала она нежно, увлекая меня куда-то.
Мы перебегали темневшие тропинки, пробегали кустами, спустились к каменному павильону с колоннами, прошли мимо глухого пруда, в холмах, завернули по кривой аллейке, к темному и сырому гроту. В голове у меня стучало, словно шумело ливнем.
– Стойте, Тоник… – сказала она, как будто не своим голосом, когда мы проходили гротом. – Поцелуй меня… крепче поцелуй!.. – шептала она, сжимая мои плечи. – О, как ты сладко целуешь… мальчик!..
Она меня чуть не задушила. Она перегнула мою голову и целовала-впивалась сверху, обжигала своим дыханием, волосами…
– Идем, я тебе все скажу, мой первый… мой… – сказала она, куснув мне ухо. – Почему ты такой смирный? а?… Ты боишься? Ах, какой ты мешок, мишка!.. – Она потрепала мои щеки, словно взбивала сливки, потом сжала мое лицо ладошками и потянула к себе на грудь. – Да какой же ты расчудесный… и горячий! Почему горячий, скажи? Ну, почему такой горячий?… Ну, что же ты молчишь?…
У меня голова кружилась и горела, серые стены грота колыхались…
– Ах, Серафима… – воскликнул я, – что-то со мной странное…
– До чего же ты интересный… глаза какие, как угольки! – шепнула Серафима и потянула меня на воздух.
Мы выбежали из проходного грота, прошли ущельем. Здесь было совершенно глухо.
– Нет, нет, дальше… Тут сторож иногда проходит… – торопила она куда-то. – Пойдем к самой окраине, к оврагу… Почему ты закрыл лицо?… Как ты мне нравишься… до чего же ты еще ма-льчик!..
Я говорил ей что-то, она не слушала. Она потянула меня в горку, шептала что-то, наклоняясь к моим губам, и ее васильки мелькали. Я не узнавал ее голоса, – странный какой-то шелест! Пальцы ее дрожали, куда-то торопили, скользили сухо в моей руке, казались ледяными. Мы попали в глухое, сырое место. Солнце уже закатилось, и здесь было зеленовато-светло, под сводом кленов. Она беспокойно осмотрелась, ее васильки мотались.
– Ах, это не здесь, подальше… – шепнула она рассеянно, и мы побежали дальше.
Белое ее платье шелестело, волосы развевались, веяли мне в лицо, цеплялись… «Вакханка… вакханки такие, безумные… – путались мои мысли, – бегают по полям и лесам, с дикими криками…»
– Вот сюда… – шепнула она, сжимая мои пальцы.
Мы выбежали на откос, где было еще гуще. Черемухи висели над Чертовым оврагом, кривились молодые липки и рябины.
– Немножко дальше… Я знаю одно местечко, похоже на беседку!..
Она подхватила юбку и показала ноги, под белым платьем. Я только и видел – ноги. Они мелькали, чернелись и манили. Она оглядывалась, бегу ли, смеялась и кивала, – совсем вакханка! Шинель моя путалась полами и цеплялась.
– Фу, задыхаюсь… – шепнула Серафима, улыбаясь. Она закинула за голову руки и дышала. Я видел ее шею, плечи. – Вот, здесь…
Это было самое глухое место, у Чертова оврага.
– Правда, здесь уютно, ми-лый?… Как ты меня волнуешь… – сказала Серафима не своим голосом. – Ну, поцелуй же меня, Тоник!..
Она протянула губы, схватила меня и сжала. Голова у меня кружилась…
– Сядем… – слышал я, как во сне, – какой ты странный! Что же ты все молчишь?… Какое бледное у тебя лицо?… Хочешь? – протянула она тонкую папироску. – Ах, Тоник… какой ты славный!..
Орешник и рябины вверху сплетались, и было похоже на беседку. Совсем под нами темнел овраг, откуда тянуло сыростью. Я сразу узнал место: резали мы здесь ореховые палки, с Женькой. Широкий пень от росшего когда-то дуба был весь исчеркан.
– Здесь бывают только влюбленные… – шепнула Серафима. – Знаешь, что такое, когда хочешь любить безумно, страстно?… Не знаешь?…
Она притянула меня к себе.
– Обойми же меня, крепче, креп-че!.. – шептала она, целуя. Я обнял ее за талию. Руки мои ослабли. – А кто писал такие страстные письма? а кто хотел… всю меня? Да обними же крепче… как женщину!.. – шептала она устало. – Ведь ты же мужчина!.. ты То-ня… мальчик То-ня!..
Ее отрывистые слова отдавались во мне, как взрывы. Я вздрагивал, словно просыпался от испуга. Мне было тошно, голова кружилась, в глазах ломило. Зачем она завела в овраг?… зачем мы пришли сюда?… Я устал… мне хотелось тихо любить ее, говорить нежные-нежные слова, сидеть рядом и говорить о моей любви. А она беспрестанно обнимала, тормошила, сжимала мои руки, кричала в уши и пахла до тошноты духами.
Словно сквозь сон я слышал:
– Ты очень меня любишь, очень?… Ну, что ты такой… Тоня? Ну, покажи… как любишь!..
Я вспомнил, что так говорят детям: «А ну, покажи, как любишь!» Она нагнулась ко мне, впивалась в мои губы. Мне было душно. Я слышал ее дыханье, зубы, сладкий запах ее волос…
– Да целуй же… крепче целуй!.. – шептала она, целуя. – Постой, я сниму шляпку…
Она сорвала шляпку.
– Мой первый… ты мой первый… мы так случайно… – шептала она бессвязно, – я должна тебе сказать все… как я несчастна!.. Я еще не знала самой настоящей, чистой любви! Все на меня смотрели, как на… ты понимаешь? Мой чистый, мой невинный!.. У меня был роман… Я тебе писала, какая я грешная… А каждая женщина тоже мечтает об идеале, видит в мужчине тайну!.. И теперь я нашла ее… в твоей чистоте, в этих невинных глазках… – шептала она страстно и обжигала меня дыханием.
Свод надо мною закачался, и все поплыло…
– Что с тобой… мальчик?… – слышал я чей-то шепот. – Тоничка, придите в себя!.. То-ничка! Гос-поди…!
Она стояла на коленях, терла мои виски и за ушами. Курточка и сорочка были расстегнуты. Мне стало стыдно, и все понеслось куда-то…
– То-ничка!.. – услыхал я ужасный голос.
Серафима стояла на коленях, терла мне грудь и целовала.
– Как же я испугалась, Тоник… нежный мой, славный мальчик!.. До чего ты чувствительный… Что, голова болит?… Горячая… Ты болен, мальчик?…
– Нет, ничего… – прошептал я горевшими губами, – домой… воды дайте… ужасно хочется пить.
Мне казалось, что где-то шумит вода. Меня погрузило в холод, и я очнулся. Она прижалась к моей груди, шептала:
– Милое мое тельце… Тоник… Славный ты мой… До чего я тебя люблю, цветочек!.. Она повернулась ко мне лицом, и я увидал глаза… Я увидал только один глаз… страшный! Я увидал темные, кровяные веки, напухшие, без ресниц, и неподвижный, стеклянный глаз! Этот ужасный глаз смотрел на меня безжизненно… «Не хотела снимать пенсне… – прошло у меня в сознании, – она кривая… урод!..»
– Глаз!.. какой у вас… глаз!!.. – вырвалось у меня невольно, в страхе.
Она вскочила, закрыла лицо руками. Я услыхал молящий, зажатый стон.
– Ах!.. Ты видел мое несчастье!.. – вырвалось у нее с мольбою. – Ах, Тоничка… ты теперь не станешь меня любить…! – Она подняла пенсне. – Ну, довольно… Пора идти…
Я опять почувствовал себя дурно. Серафима взяла мою руку, щупала пульс, шептала:
– Да, ты болен… Ну, как?… можешь пойти? Милый, надо… уже поздно… – уговаривала она меня, прикалывая шляпку. – От этих экзаменов, переутомился… Лучше?… Какие мы оба сумасшедшие!.. Мой мальчик… – она закрыла лицо руками, – не надо… дальше тебе не надо, ты уже почти знаешь, как любит женщина. Ты все забудешь, все?… Я наглупила немножко… Ну, дорогой, можешь пойти? Уже поздно…
Во мне боролись сознание и слабость. Хотелось уснуть, не двигаться. И хотелось скорей в постель.
Она застегнула на мне рубашку, поцеловала шею. Потом долго возилась с курточкой, отыскивая крючочки и пуговки.
– Что, опять дурно?… – спрашивала она испуганно.
Я хотел улыбнуться, хотел поблагодарить ее, что она так обо мне заботится, но губы мои не шевелились.
– Сейчас мы возьмем извозчика, и я тебя отвезу домой. Скажешь, что стало дурно… упал, а я случайно попалась и помогла тебе… Ты понял?… – спрашивала она в тревоге. – Чтобы не было сплетен, понимаешь?… Ах, Боже мой, извозчиков нет поблизости… Ты пока посидишь у сторожей в казарме, а я приведу извозчика. Ты понял?… Почему ты закрыл глаза?… опять плохо?… – слышал я смутно в шуме.
Вспоминаю, как сон. Проходили темневшим садом. Белая беседка, колонны и блеск воды. Черные ветви в небе, зеленые и голубые звезды. Как будто чокали соловьи, пускали трели. Она вела меня под руку, сажала на скамейки, веяла на лицо платочком, целовала и называла мальчиком. Наконец выбрались на широкую дорогу, постучались в какую-то казарму. Горели огоньки в окошках. Я с жадностью напился. Сидел в высокой и скучной комнате, с голыми белыми стенами, с красными занавесками на окнах. Сидел на табуретке, придерживаясь за стол, смотрел на Государя в рамке, на спавшую канарейку в клетке. Они качались. Усатый старик в розовой рубахе пил чай с баранками и все приставал налить: