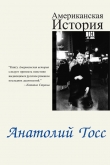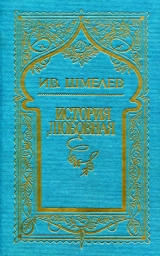
Текст книги "Том 6 (доп.). История любовная"
Автор книги: Иван Шмелев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 39 страниц)
Воняя луком и миндальным мылом, Куманьков расталкивал стариков и баб. Красные волосы его взмокли и растрепались, но он старался. Бабы жалели молодого на костылях и шептались: «Воители-то наши… молоденький какой, а хрестов-то навоевал!..» Старухи шамкали: «Сюды, родимый… к стеночке-то пристань, ловчее тебе будет, с палочками-то…» Шептали – слышал старый полковник – и про убитого его Пашу. Кругом вздыхали. У каждого было свое, болевшее. Он почувствовал, как жжет у него в глазах. Смаргивая слезу, он оглядывал небогатый храм, родную ему толпу, с которой его связала общая скорбь и горе. Давно связало, – через Бурая-пращура, помилованного Петром стрельца… раньше! Белый крестик, выбоина в бедре, шрам на шее, ноющая под сердцем пулька, могила сына в Смоленске… – все через эту связь, ради чего-то, к чему движется общая с этим жизнь его. Дано – и не раздумывай, принимай.
Он всегда просто думал. И эти чувствуют также просто: надо и принимай.
Они прошли к клиросу налево.
У открытого окна в решетке, за которыми видны чугунные плиты Зараменских, стояла прямая, высокая старуха, с изжелта-восковым лицом, в черном шелковом платье и в кружевной наколке. Молодой полковник узнал ее: все та же, как и тогда, когда кадетиком подходил к руке, а она без улыбки говорила, трепя по щечке: «Глаза-то… аквамаринчики!»
Священник поминал в алтаре болярина, – воина Михаила… – «о нем это…» – подумал молодой полковник о ротмистре, её муже, – болярина, воина Константина, Игоря… Старуха опустилась на колени. «Это о ее внуках молятся… – подумал полковник, – новопреставленного болярина, воина Павла…» Старый полковник тяжело опустился на колени. «О Паше…» – подумал молодой полковник и начал рассеянно креститься. «…за Веру, Царя и Отечество на брани живот свой положивших…» Потом – рабов Божиих, воинов, воинов, воинов… Церковь томительно вздыхала.
Перед «Иже Херувимы» в толпе зашевелились. Пробежал озабоченный Куманьков, шипел:
– Ее сиятельство!.. Ослобоните проход, недосягаемо! За платьице-то лапищами не щупайте… ду-ры!..
Пятясь и пригибаясь, он выбрался к простору, пошел накорточках и похлопал рукой по коврику:
– Соизвольте сюды, ваше сиятельство… на мя-кенькое ступаните-с… – вышептывал он, словно подманивал.
Старуха повела наколкой. Он поклонился ее спине.
Шла княгиня в черном, в серебристо-прозрачной шали, свесившейся углом с левой ее руки в перчатке, в белой широкой шляпе, с черным страусовым пером. Замкнутая спокойная, строго-изящная, «неотразимая», – с первого взгляда понял растерявшийся вдруг полковник. Ударило ему остро в ноги, до жгучей боли – в отрезанную ступню. Он увидел незабываемое лицо, в изумительно тонких линиях, – непроницаемое лицо, матово-белое, как тончайший, сквозной фарфор. Увидал милую родинку на шее, бывшую и тогда…всегда… изумительного изгиба шею – прелестный, волнующий сердце стебель живого неведомого цветка, возносивший чудесную головку… локоны, чуть приметные, чуть прикрывающие ушки… жемчужные сережки, трепетные у шеи, покойный, холодный профиль… розовый, нежный рот, который он целовал когда-то, уже не детский, в тонком, неизъяснимо-томном изгибе грусти, недоумения, вопроса… Он любовался в очаровании стройной ее фигурой, угадывая плечи, локти, изгибы кисти, – ласкал глазами, не сознавая – где он?… Острым, тревожным взглядом уловил он под шляпой поразившие его когда-то, еще в детстве – удержанный памятью удивительный разрез ее глаз, – нежащий, томный и угрожающий, от которого шло лучами. Уловил все очарование ее движений, устало-томных, сдержанно-скромных, полных укрытой ласки, скрытого в ней… чего-то, что называется… женственным… – что встречается редко-редко, что ведет за собой неотразимо.
Он уже ничего не слышал, прислонился к стене, взирал. Она потянула утомленно серебристую сквозную шаль, опустила ее с плеча, и шаль заструилась к талии. Он увидал теперь всю прелестную ее шею, сияющую над чернотой корсажа. Справа, из купола, влился луч, искрой зажег жемчужину, розовым тронул ушко, скользнул на шею, по серебристой шали, – осиял всю ее, траурно-жемчужную, – выбрал одну из всех.
Он взирал на нее, благоговея, смутный.
«Клэ… необычайная… прелестная… Клэ!..» – радостный и подавленный, мысленно шептал он. – «Ты была где-то… Клэ…»
И вдруг – уронил костыль. Его оглушило громом. На одной ноге, другая, в пустом сапоге, туго набитом тряпками – едва прикасаясь к полу, полковник быстро нагнулся за костылем, в смятеньи. Едва уловимый миг – княгиня повела шеей. И в этот, едва уловимый, миг поймал полковник блеснувший, золотисто-игривый взгляд, блеск «сухого шампанского» – топаза, который он помнил сердцем, – незабываемый. Этот миг-взгляд сладко поранил сердце, самую глубину его… – вызвал восторг и боль.
«Княгиня!..» – отозвалось в нем с силой. Он почувствовал, как он связан, и как несчастен, и как безумно счастлив… как никогда еще не был счастлив… что счастья он и не знал еще, что получил в этом взгляде что-то, безмерное, что теперь он безмерно сильный, и жизнь еще будет, будет… и он принимает все, какие бы ни были страданья!
«Клэ… чудная Клэ… Княгиня!..» – говорил он взглядом ее сережкам, склоненной ее головке, бледной ее щеке.
Его охватило страхом. Хотелось уйти – не смел. Стыдился себя, такого, с этими палками, на пустой ноге. Увидал белый крестик, вспомнил, что у него удивительные глаза, «как ночное небо», – так ему говорили женщины, – что она тоже женщина, целовала его когда-то, и он называл ее просто – Клэ… что она свободна, теперь война, люди – пустая пыль, что нет теперь ничего, чего бы нельзя было, что нужно же так случиться…
Не понимая, что ему говорит полковник, – а полковник шептал о панихиде, – он смотрел в восхищении, как чудесно играет ее шея, как склоняется милая ее головка.
После креста, полковник представил старой княгине сына.
– Слыхала, что герой… теперь и вижу… – покивала она на крестик. – Отвоевались, мой друг?…
– Пока… ступня отвоевалась, ваше сиятельство!.. – почтительно-официально скаазл молодой полковник; чувствуя, как смутился, как грубовато вышло.
– Ступня… вот хорошо сказал! – кивнула приветливо старуха. – Заезжайте… Расскажите мне, как у вас там…
Он поклонился молча. Перед молодой княгиней он весь склонился. Она покивала, молча. Но он уловил – скользнувшую золотую искру?… Нет, показалось это…
Она пошла, перетягивая устало шаль, – замкнутая в себе, холодная. Не слыша, что говорил полковник, он быстро пошел с толпою, путаясь костылями в юбках. На паперти он остановился. Куманьков вертелся у коляски, лакей отгонял его. Она смотрела над провожавшей ее толпой молодых баб и девушек… – и молодой полковник – может быть показалось это?… – поймал её взгляд, скользнувший. Серая тройка катила к выгону.
По дороге домой, старый полковник спросил, когда же он думает к княгине?
– Не знаю… в Москву мне надо…
Таким – ему не хотелось ехать, а «ступню» обещали через неделю только. Вспомнился адрес Ниды: за Сухаревкой, Садовая 17.
«А она…даже не подала руки…» – подумал он грустно.
– Протез поставлю, а то… с этими палками… связанность, и…
– Понятно, посвободней… – сказал полковник. – А, какова стала Клэ!..
– Да, интересна… – отозвался рассеянно полковник, глядевший в небо.
День был необычайно яркий: блестели хлеба на солнце, сияли дали. В спелых волнах хлебов, в подымавшейся облачками пыли, в налетавших пульками оводах, в заблестевшей воде меж ветел, в опутанных далью мыслях… – золотисто сверкали искры.
– А хорошо, папан!.. – сказал неожиданно полковник. – Удивительный день сегодня!..
– Да, припекает… Пожалуй, грозу нагонит.
«Милая… чудная… Клэ!» – вызывал полковник желанный образ, прикрыв глаза. Укачивала его пролетка…
Той же ночью выехал он в Москву, написав рапорты – о назначении на комиссию, о признании годным к строю, о назначении в боевую часть.
Высунувшись в окно вагона, в гулкую мглу лесов, он восторженно повторял: «княгиня… княгиня… Клэ…» На заворотах летели искры. Колеса выстукивали четко: княгиня… княгиня… Клэ!.. Он повторял за ними, глядел в темноту и думал:
«Зачем я ее увидел!.. Теперь… как же?… Или – не возвращаться больше?… Княгиня… княгиня… Клэ…»
Отбросил костыль и сел.
«Заеду, прощусь… только… без этого – посмотрел он на ненавистный костыль. – Зачем я ее увидел?!..»
Высунулся опять, на искры. Следил, – и слушал, как гремело в ночном лесу.
Сентябрь 1927 г.
Ланды.
Иностранец
Во второй половине сентября сезон на Серебряном Берегу закончился.
В Биаррице еще шумели ночные кабаки и прочие заведения, где развлекали себя отдыхавшие от кипучих дел богатые иностранцы, – американцы англичане, шведы, аргентинцы… – разбухшие от войны и швырявшие деньгами без счета. В предутренний, неурочный час платили еще сотни франков за бутылку шампанского, просаживали в баккара миллионы за одну ночь и бросали боярышне-певице за грустно-лихую песню сотняжку франков «натшай». Еще докучивали штандартные Чарли-Фрэди, наследники чикагских свинобойцев, сапожных, хлебных и всяких американских королей, носившие на тяжелых лицах громкий отцовский титул – «сэльв-мэд-мэн», «сам-себя-сделавший», тянули неслыханные смеси разной опойной дряни, задирали коневьи ноги, орали певцам-казакам – «ан-кор… паматьюшка-паволга!..» – и порой пьяно плакали над чем-то, растревоженные невнятной песней людей в «шэркэска». Но и здесь чадная буря утихала, – начинался подсчет доходов.
А в лесном городке у океана, в те годы еще негромком, с атласным пляжем, где воздух – сосна и море, – сезонное оживление заглохло. Убрали с пляжа веселые палатки, прибрежные отели позакрылись, и баскские молодцы-беньеры посиживали в кафэ за своим бэлотом, резались у фронтона в мяч и вспоминали – врали забавные случаи сезона. Пустой океан подремывал, похлестывал в пенные берега. Над мыльно-зеленоватыми валами тянули свои цепочки черные нелюдимые бакланы. Одиноко на берегу чернела выброшенная сентябрским штормом безвестная шхуна «Mi Unica» – с пробитой грудью, крепко затянутая песком.
Последним закрылся розовый отель «Сосенки», Луи Пти Жако, по прозванию «Корнишон», – за пупырчатый лоб и низкорослость, – виноторговца-трактирщика из Бордо. Отель стоял на ударном месте, с вольным видом на океан, работал первый сезон и прославился «пляжем» на плоской крыше, – нововведение, которым хозяин особенно гордился и называл его – «верхний пляж», – для слабых и ленивых. Гордился и названием отеля – «Пти Пэн». Перед отелем росли три чахлые сосенки, пригнутые зимними ветрами, и получалась забавная игра слов «Пти Жако – Пти Пэн». Закрытие задержалось из-за того, что зажилась большая английская семья, очень почтенная, обещавшая и на будущий год вернуться и привезти другую английскую семью. Дела торопили его в Бордо, но из уважения к таким клиентам Пти Жако решил отложить закрытие. Семья, наконец, уехала. Пти Жако отпускал последнюю прислугу и собирался с женой в Бордо, как случилось одно событие.
Был свежий, яркий осенний день. Океан снежно пенился у песков, плескал серебром на дюны. Воздух был напоен смолою и крепкой геречью дюнных трав, заглушавшей дыханье океана. Перед последним завтраком в «Сосенках» Пти Жако поднялся на «верхний пляж» прощально полюбоваться видом и покурить в лонг-шезе, со счетной книгой, где круглое сальдо ласкало глаз, – как позывающе захрипел мощный кляксон машины. Пти Жако поднялся и поглядел. Перед отелем стоял шикарный, сильный паккар, первоклассного биаррицского отеля, – в таких ездят лишь самые первоклассные клиенты. В машине сидел господин основательного вида, с внушительно-каменным лицом, с крепкой осанкой иностранца, – американца, почувствовал Пти Жако по каким-то особым признакам. Появившийся на позыв портье, уже снявший свою ливрею и похожий теперь на голодранца, – Пти Жако неприятно поморщился и привычно подумал – «глиста несчастная!» – потянулся к фуражке, которой не было, и почтительно объяснил, что отель закрылся до будущего года и принять, к сожалению, не может. Но иностранец, не слушая, уверенно вышел из машины и на каком-то ужасном языке выбросил два-три слова, что-то похожее на – «сами лючи… видель… океан». Пти Жако хотел-было крикнуть с крыши, что, к сожалению… и так далее, но удержался, мгновенно сообразив, что с крыши неприлично, особенно перед таким клиентом. Он только смотрел недоуменно, как иностранец, развалисто разминая ноги, пристукивая тяжелой тростью, пошел к отелю. Портье забежал почтительно и распахнул дверь настежь.
Пти Жако сейчас же скатился вниз и поспел встретить иностранца на первой ступеньке лестницы. Он уже приготовился особенно элегантно объявить, что его отель, к величайшему сожалению… – но каменное лицо повелевало: «сейчас же, самое лучшее». Пти Жако совершенно растерялся и вдруг позабыл слова. «Никогда в жизни со мной ничего подобного не случалось!» – рассказывал он после. Он побежал вперед и открыл лучший из салонов, в бельэтаже, стремительно распахнул все ставни и предложил всей фигурой глубокое кожаное кресло. Иностранец невнятно хрипнул, повел белобрысыми бровями и дернул челюстью; и тяжело погрузился в кресло, вытянув-раскорячив ноги в прочно сработанных штиблетах, в крутых шерстяных чулках, – крепко-спортсмэнской марки. Все на нем было веско, свободно, прочно. Крепкие ноги – отдыхали, руки засунуты в карманы, открыта у ворота рубашка, по-летнему, привольно. Но лицо оставалось неподвижным, непроницаемым. Оно все же что-то говорило, и Пти Жако по-своему перевел эту непроницаемость и важность: «мне нравится – и баста». Это ему польстило, мелькнуло что-то, задорное… – но тут же с досадой вспомнил, что отель закрывается, и ему нужно сейчас в Бордо. И принялся почтительно объяснять, изыскивая слова, что он очень польщен вниманием, понимает толк в людях, и беседовать на-юру в вестибюле… точнее сказать – в холле, не так удобно… – «но, видите ли, такая ужасная досада… как раз сегодня, и…» Иностранец повел бровями, вскинул их по-совиному, достал голубой платок и звучно-слезливо высморкался. Потом вытянул кожаный кисет и трубку и принялся заряжать неспешно. Пти Жако шустро подставил столик для куренья.
– Очень сожалею, мистер… – продолжал он предупредительно и далее виновато, – пожалуйста, курите, отдохните и… вообще… но, к величайшему огорчению…
– Сода-виски… – выпустил иностранец через трубку и повернулся удобнее в кресле – на океан.
Пляжа не видно было. И ничего, кроме пустого океана, не было: будто на пакетботе, из салона.
Пти Жако знал этот пуан-дэ-вю лучшего своего салона и очень гордился им, но Бордо его беспокоило. Он поклонился светловолосой, с проседью, крепко посаженной голове иностранно-го чудака и поспешил узнать от знакомого ему шофера, почему этот иностранец облюбовал его «Сосенки», и в чем, вообще, тут дело. На лестнице ему попалась уже отпущенная Розет, веселая, с розами во все щеки, спешившая к жениху в Тулузу, и он попросил веселую стрекозу подать поскорее иностранцу в «морской салон» – на мельхиоровом подносе! – сода-виски, как подавалось англичанам, с анисом и мятными лепешками. В холле он увидал оживленную кучку лиц.
Шофер биаррицского отеля, большеротый болтун Жюстин, сиял белоснежным балахоном и широченным диском своей фуражки, размахивал руками в оранжевых отворотах отельной марки, – рассказывал что-то, видно, сенсационное. Перед ним стояла мадам Пти Жако, сложив, точно на молитву, руки и закатив восторженные глаза, и по этому одному Пти Жако сразу определил, что тут нечто необычайное. Тут же стоял обмызганный портье, «эта глиста несчастная», смотревший Жюстину в рот с таким напряженным видом, словно вот-вот из этого лягушачьяго ротищи выскочит страшно-важное, и как бы не упустить его. Торчал тут же и лопоухий Жеромка – поваренок, задрав голову в колпаке и разинув рот. Жюстин-плут – «нос, как у фараона!» – видимо, был в ударе после хорошего аперитива: закидывал головой, пырял пальцем, растягивал лягушачьи губы и щурился от щекотной неги, как ящерица на солнышке. Его жуликоватые глаза были налиты смехом и чем-то еще, таинственным. Пти Жако сразу разбил очарование:
– В чем тут дело, Жюстин… почему ты его завез ко мне? ты же отлично знал, что отель закрывается, и по-ихнему понимаешь… почему ты не объяснил, и что это за тип, и… вообще, в чем дело?.. – закидал вопросами чем-то встревоженный Пти Жако.
– Ты послушай, что говорит! – восторженно повела глазами мадам Пти Жако и привычно поправила на муже галстук. – Совершенно необычный тип… какой-то полоумный!.. Знаешь, сколько ставят ему за километр… ну, как ты думаешь? По се-эм франков!! За прошлый месяц ему настукали… как ты думаешь…?!
– Ничего я не думаю, чорт возьми! – с чего-то расстроился Пти Жако.
– Больше шестидесяти тысяч! и это только по мелочам… пo-думать!..
– Что-о?.. – привскочил даже Пти Жако, и галстук его подпрыгнул, – шестьдесят тысяч за… километр! за… Но, ведь, это же, наконец, грабеж! это же… это чорт знает что… Врет старый плут, фантазии… Нет, серьезно, любезный друг…?
– На что серьезней… самый американский стиль! – хвастливо сказал Жюстин.
– И заплатил? наличными?..
– По-ихнему, чеками, понятно. И не вздохнул. Да ему плевать на это, шестдесят тыщ! Он три тыщи семьсот за аппартаменты в день платит… эти деньги у них карманные, мелочишка.
– Нет, Луи, ты послушай, ты послушай, какая тут… Этот ловкач, разумеется, никогда бы к нам не завез такого жирного каплуна, – понизила голос мадам Пти Жако, игриво грозя Жюстину пальцем, – если бы не захотел сам каплун!..
– Са-ам?!.. он, захотел, сам, ко мне?!.. – выпучил глаза Пти Жако и потер заблестевший лоб. – Ничего я не понимаю… как, почему… что за история… – тер он пупырчато-сизый лоб, стараясь что-то сообразить. И вдруг засиял в улыбках. – Вот что, дорогой Жюстин, старина… как раз на проводы, сейчас с нами позавтракаешь, устрицы обновим, пока тот покуривает… и сода-виски… Но это, знаешь… вот это так – удар-чик! Да он, что же это… с «начинкой»?.. – понизил голос и поглядел на лестницу Пти Жако. – Ты вострый, плут-старина… у тебя глаз-то наполеоновский, как по-твоему, с «паучком»?
– А чорт его разберет. «Паучок», понятно, имеется… да это что! А вот, есть у него… – пощелкал Жюстин языком и пальцами и подмигнул игриво, показывая этим, что у него есть, что порассказать, – такое закрутил!..
Прибежала запыхавшаяся Розет, корчась от разбиравшего ее хохота, и прыснула в ладони.
– Что? что такое?.. – устремились к ней Пти Жако.
– Он уж располагается… и чемоданы велит, и самое лучшее порто, и свежее яйцо, сахару… сам будет коколь-моколь!.. – покатывалась она, перегибаясь от хохота. – Что же ему сказать? Я немножко могу по-ихнему, англичанки меня учили… сказала, что закрываемся, а он только рукой махнул, стал свистеть.
– А, деревня!.. Постой, ничего не понимаю… Жюстин! – взялся за голову Пти Жако, стараясь что-то сообразить, – сказал ты ему, что отель закрывается, и?..
– Как же не говорить, сто ему раз твердил, туполобому. Мне же приятней иметь его при себе, проценты с отеля выгоняю и прочее гоню, понятно. Поговорите-ка с ним сами, мосье Луи, тогда узнаете. Надо знать, в чем тут самая загвоздка. Такое дело, что… Ловкачка одна, девчонка, а, может, и не девчонка, а целая мадам, русская певичка из «Крэмлэн д-Ор», назначила ему здесь рандеву. Ну, теперь понимаете?
– Ни-чего не понимаю… здесь? у меня… в «Пти Пэн»?!.. – Пти Жако обвел окружающих глазами, и в этом взгляде было и изумление, и гордость.
– Уж раз говорит Жюстин – верьте. И он теперь окончательно одурел. Вам рассказать все стильно – опять не поверите. Мы с ним три дня крутились, все Пиринеи обкатали, по всем курортам и санаториям, где только не были. Да ту разыскивали…
– Не понимаю, ни-чего не понимаю…
– Какая-то галлюцинация! – воскликнула мадам Пти Жако, в восторге.
– Чорт их поймет, этих иностранцев… путаники! – самодовольно сказал Жюстин. – Пряталась, что ль, она от него, или думает разыграть получше, только залетела в самую высоту, на льды!..
– На льды-ы?!.. – восхитилась мадам Пти Жако, а сам Пти Жако сказал:
– Романы бы тебе писать в газетах. Прошу тебя, говори серьезно, а это прибереги для Бордо, там у меня послушаем.
– Факт! – вскинул Жюстин плечом, приподнял широченную фуражку-диск и галантно раскланялся.
– Именно, на льды. Прикатываем, наконец, к чорту на-кулички, в этот, как его… комфортабельный самый санаторий, холодом вот где лечат, чахоточных?.. Да, прозывается «Эдельвейс». Это повыше будет того, как его… пик-то вот этот где… там виражи такие, с моим паккаром не развернет, другой кто… только мое искусство! самого маршала Жоффра возил не раз, очень доволен оставался, любил рискнуть. А этот и не глядит на пейзаж, только знает свое – «плю-вит»! Так чесали… эх, думаю, разобьем машину, американская голова про-щай! Прикатываем под облака… он сейчас бумажками шевельнул в бюро – все телефоны зазвонили… – стой, есть! Тут-то мы и накрыли птичку. И вдруг…
– Постой, ничего не соображу… Значит, так… – соображал что-то Пти Жако, – все планомерно надо. Розет, порто ему… на верхней полке которое, во втором ряду справа, еще англичанам подавали. Погоди… яйцо у мадам Сабо, с гнезда чтобы. Вещи … только и всего? – оглянул он два мерных чемодана, свиной кожи, с бронзовыми оковками.
– Это что с собой только прихватили, для охоты за той, а все в отеле у нас… третий месяц у нас стоит, а к вам на побывку только.
– Ну, накрыли птичку… ну, и что же? – горела от нетерпения мадам Пти Жако.
– Да погоди ты, с «птичкой»! – закипел Пти Жако. – Теперь как же?.. Мы же закрываемся, чорт возьми! Надо это все объяснить.
– Закрывайтесь – не закрывайтесь, а его уж теперь, шалишь, не выставишь. Он ваши «Пти Пэн» в книжечку вписал, только ему та сказала… и мне отъезжать велел.
– Да та-то откуда знает мои «Пти Пэн»? Впрочем, меня все знают. Говоришь – русская? Кто же у нас… русская … Матиль? не помнишь?
Мадам Пти Жако не помнила. Если она не помнила, это значит, что никакой «русской» не было.
– Да их и не признаешь, русских, – сказал Жюстин. – Та и за англичанку, и за американку вполне сойдет, так чисто говорит-играет – не отличить. Они по-всякому могут говорить, сколько я прошибался, а уж виды, кажется, видал. Русские женщины, могу сказать… такого стиля, – на всякие фасоны: и княгини, и графини, и принцессы, и… чорт их, откуда берутся только! А уж про стиль и говорить нечего, – модерн!
– А постой… – перебила мадам Пти Жако Жюстина, – одна, впрочем, помнится мне, была?.. Да, да, я теперь ясно вспоминаю… была, с шофером из Сэн-Жан-дэ-Люс. Он в замасленном балахоне, а она элегантная такая… сели прямо под перголя и просят завтрак. Натурально, все обратили внимание, такая пара! У нас англичане, почтенное семейство, так были аффрапированы… и молодые девушки у них… а тут, со своим шофером! Тут я сразу и поняла, что это русская, все они чуточку «дэтракэ», с этикой не считаются и приличий не понимают. Влез он, балахон в масле, сели, та его за руку все брала и в глаза ему так глядела… ну, совершенно неприлично в нашей обстановке, и английский тон, и… Так вот и вижу их. И, помню, чтобы от них избавиться, предложила им под наши сосны, где больше воздуху, там им и подавали. Если это та… да, она о-чень элегантна.
– Ничего себе, вид имеет, стиль, линия… и осанка такая, цену знает. Может, и из принцесс. Сто-ой, стой-стой… я помню того шофера… Говорите, из Сэн-Жан-дэ-Люс? Нет, тот, кажется, байонский. И та с ним катывала, внимание обратил. Полковник, будто, а совсем еще молодой, лет тридцать, черные усики…
– Верно, черные усики… синие, кажется глаза. Я еще подумала – красивый молодой человек, а как неряшливо одевается.
– Синие ли глаза – не знаю, а парень ничего, в стиль. Ну, теперь все понятно.
– Ни-чего не понимаю… о чем разговор? – все о чем-то раздумывал Пти Жако. – Ну, идем завтракать, дружище…
Завтракали в бюро: и семейная комната хозяев к отъезду была закрыта. Но стол был парадно сервирован: последний в сезоне завтрак. Жеромка отменно постарался, – хозяин нанял его в Бордо. Жюстин даже потер руками – фу-ты, какая роскошь! Кардиналом пылал омар, салат изумрудно маслился, целое блюдо устриц, холодная пулярда, осенние персики – каталонские, виноград-малага, и самая настоящая малага, и вэн-дэ-сабль, и гато с фруктами. Над чем потрудиться – есть.
– Так ты, старина, говоришь…
– Говорю, знать все надо. Порассказать вам – сразу понятно станет. К тому-то она и укатила! к своему шоферу, будто он в санатории. А этот прицепился. Ну она этого и крутит, между прочим… взбалмошные они, я знаю. А может и насмех, сказала про рандэву у вас, чтобы не наседал, скандал может получиться, шофер-то узнает если. Он уж очень напористый, американец-то. Его-то завертела в Биаррице, а шофер ее требует к себе, заболел, в санатории, ревнует… ну, она туда сюда виль-виль, а этот напролом, на льдах достанет… Ну, скандала перепугалась… вот вам и рандэву. А может и для пополнения бюджета, и этого хочет попридержать. Есть чего подержать. За ваше здоровье, мадам Пти Жако…
Пти Жако все соображал, растирая на лбу пупырки. Мадам Пти Жако сказала:
– Теперь ясно: двойная игра! Но это не наше дело, каждый отвечает перед своей совестью… – она была твердая католичка. – Как же, Луи, теперь?
– Совершенно выяснено одно: он будет е е здесь ждать. Та-ак…
Он позвонил портье.
– Чемоданы внести, и… помоги мистеру… что надо. Постой… Как по-твоему, отложим отъезд до завтра?.. – взглянул он нерешительно на жену и увидал по ее глазам, что это-то именно и нужно. – А ты… – поморщился он на обдерганного портье, тут же решив, что к новому сезону возьмет человека посолиднее, а не «глисту», – сейчас же надень камзол, руки вымой… волосы у тебя какие!.. Отель работает.
* * *
После солидного аперитива, повторенного, и повторенного еще раз, после отборных аркашонских устриц – «премьер», сентябрских, – из личного запаса, взятого для Бордо, покрытых белым вином, крепко сухим и в точную меру терпким, так называемым – «песочным», местным, – этим славится городок, – Жюстин окончательно развязал язык.
Не стоит и говорить о какой-то его любезности, о внимании к почтеннейшему мосье Луи, славному Пти Жако. Все только и говорят о нем и о первейшем его отеле с «пляжем», – и в Аркашоне, и в Леоне, и в Сустоне… даже в Биаррице и в Байоне… и, если хотите знать, по всем даже Нижним Пиринеям. Где только не крутились они с этим американским типом! За три дня настукали больше тысячи двухсот… Каких там франков… точнейших километров, по клейменному счетчику! Да, за девять тыщ перевалило, мосье Луи знает таблицу умножения.
– Вот это так – уда-рчик!.. – чокался Пти Жако, и носатый Жюстин-мошенник казался ему теперь самым приятным человеком.
Мадам Пти Жако уже успела переодеться, сменив дорожный костюм на голубой муслиновый капот, который, правда, слишком пышнил ее, но и молодил, придавая глазам цвет моря. Она слыхала, что американцы любят солидное, а голубые глаза особенно. Серый костюм Луи казался ей легкомысленным, и она успела ему шепнуть, что приличнее бы визитку и синий галстук. Жюстин, например, умеет одеться джентльмэном. Жюстин, действительно, был великолепен, во всем спортсмэнском, серовато-зелено-клетчатом, в мягкой фланелевой рубашке, с игривым галстучком.
Никакого недоразумения и быть не может. Он собственными ушами слышал, как та девчонка… – а, может, и мадам! – крикнула второпях – «ну, хорошо… измучена я… ну… розовый отель в X… „Пти Пэн“… дня через три-четыре!» Действительно, довертелась, лавируя между двух огней. Бледная, лица нет, и губы забыла навести, здорово как прищучил. Тот сейчас в книжечку – чик, готово. Факт! Как ей не знать, все знает. Эти прожженые русские че-го не знают! По всему свету рыщут, как бродные цыгане. Татарский народ, – монголы и казаки. И здесь скакали? Это они умеют. И поют здорово, только без аккуратности. Начнут, словно кюрэ на панихиде, а под конец так пустят, будто их черти лупят.
Жюстин заливался соловьем, но мосье Пти Жако интересней было узнать про иностранца.
Чистейший американец, нельзя чище: и жвачку свою жует, и челюсть, как полагается, ослиная, и поверх головы плюет. А внутри… чорт его разберет, с секретом. Будто лесами занимается, а приехал из Индии!
– Из И-ндии?! – изумилась мадам Пти Жако, – но почему из Индии?..
По справкам дирекции отеля. На чемоданах налеплено… места живого не осталось: и Коломбо, и Сингапур, и Индия, и Мельбурн, и Александрия, – и все самые первоклассные отели.
– И вдруг… к нам, в «Пти Пэн»! странно…
– Ничего странного! – вскинул плечами мосье Пти Жако. – Будут и из Новой Зеландии приезжать… стра-нно! До сих пор не написано в Париж… Изволь написать кузине Эмми, чтобы организовала в Декоративной Школе мой конкурс на нашу марку, как я установил: премия триста франков, моя идея – золото и лазурь… впрочем, не золото, а серебро, – «Кот д-Аржан»! И чтобы непременно «ударчик» был… ну, они там придумают. Эти пестрые ярлыки, всяких этих «Паласов» и «Кристаллей»… Стой, старина… иде-я! Дюна, сосна, и… эдакий «американец», с трубкой, рожа зубастая, и дым из трубки, как облака, и в облаках – мой «Пти Пэн»! А, ведь, недурно, а? Лесами занимается, говоришь?
Лесами. Все американские леса у него в кармане, лесной король. А ничего точно неизвестно. Занял аппартаменты, где останавливаются только магараджи да шах персидский, да король Сиамский, да… Прописано – «из Торонто», только. Мистер Эйб Паркер, президент Лесной Компании. Разные «лесные компании» бывают. В прошлом году тоже прописали «президента», а он настоял на пятнадцать тысяч и испарился, а в чемоданах одни кирпичи в газетах. Дирекция навела секретные справки в главном американском банке – «чего он стоит». Ответили за чеки – «без ограничений»!
– Без ограниче-ний?!.. – понизил Пти Жако голос и осмотрелся по сторонам. – Но, если на… миллион?..
– Без ограничений. За два месяца ни разу не заметили его с женщиной. Лет так под пятьдесят, но крепок и свеж, как первая редиска. Пьет как лошадь, и ни в одном глазу. И не играет. Но есть некая загвоздка: ищет!
– И-щет?.. что же он ищет?.. – спросила взволнованно мадам Пти Жако. Жюстин только пожал плечами.
– Натурально, предмет… по мерке.
– Боже, как это… но это ужасно романтично!
– Это что, романтично… дра-матично, скажите лучше! – болтал Жюстин, чувствуя, что в ударе. – У меня глаз наметан. Тут… может быть, драма назревает. А что вы думаете? Нюх! Весной был здесь г. директор Комеди Франсэз, я подавал машину. Ну, разговорились по душам, аперитивы, завтраки с ним в горах… и говорит: «эх, мосье Жюстин, вам бы к нам, какого бы Сганареля мы дали публике!» Говорю – мог бы и Тартюфа дать. Но… мечта всей жизни… Эрнани или… как его Рюи-Блаза! Трагический нюх во мне. И этот иностранец… пахнет. Были в Тарбе, что-то он там разыскивал. Заходил в мэрию, искал все какое-то семейство… Ошэ, или – Кошэ?.. Говорят, лет сто, как род пресекся. Показали место, где был дом, как раз у церкви. С планами ходили, комиссией. А там бистро. Три дня с ним пробыли. Все ходил, один. Тут-то я и приметил, как он прикидывает… же-нщин! Всех переглядел. На базаре тоже… Зашел к фотографу, – Тарб, сразу все и узнали. Затребовал альбом, архивный, переглядел. Выбрал одну, чуть ли не с дагерротипа, старинную. Торговка, рыбничиха с базара. Купил. Стали искать торговку, а она лет сорок, как померла. Чудила.