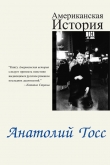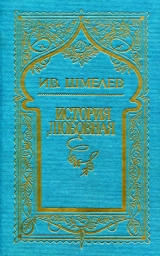
Текст книги "Том 6 (доп.). История любовная"
Автор книги: Иван Шмелев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 39 страниц)
Миша
Впервые о Кошкином доме Миша узнал от Домнушки.
– Чего не спишь, глазками щуришься? Возьму да выкину за забор, в Кошкин дом!
– В какой… ко-шкин?..
– В такой… Галки где прячутся!..
– А почему… галки?
– Потому. Посадили кота в тюрьму!..
– Глупая нянька! – рассердился Миша.
– А ты не говори чего не след, примера не бери.
Миша глядит к окошку. Ситцевые занавески, бегают по ним собаки, летят утки, и большой человек машет из травки палкой. И все собаки, и утки, и много человеков. В синюю щель на занавесках светятся звездочки на небе. За окном мороз, темная ночь, забор с дырками, за забором снег, лес, и в лесу – Кошкин дом. Там страшно. Днем бегают собачки, хватают за хвостики друг дружку, хватают снег. На деревьях летают галки и так кричат, что даже и через окошко слышно, словно шипит вода. За деревьями серый дом, на окнах его прибиты доски. Человеков там нет, и даже дворника нет.
Когда снег стаял, Миша увидал на Кошкином доме голубков. Они весело бегали по крыше друг за дружкой. И вдруг из черной дыры на крыше выпрыгнула кошка, села на самый краешек и принялась лизаться. Кошка была красная, как крыша. Выпрыгнула другая кошка, серая, как забор, и стала возить хвостом. Потом они стали целоваться. Миша от радости запрыгал: теперь он понял, почему это – Кошкин дом.
* * *
Многое уже знал Миша. Звездочки – глазки Божьи. Знал, что в Кошкином доме живут они, – надо перекреститься только! – и не надо говорить – «черти», а так, – они. Их отовсюду выгнали, а тут им ход. Кошки их не боятся, – «не православные». Узнав про них, Миша стал просить Домнушку закрывать щель на занавесках на ночь.
Когда опять навалило снегу, Миша увидал как-то, что в саду Кошкина дома бегает черная собака и маленькая собачка, черненькая. Подумав, он спросил Домнушку:
– А черти… – и перекрестился, – едят снег?
– Не поминай к ночи, глупый! – заплевалась Домнушка и покрестила Мишу. – А то и к нам налетят еще…
– Греться? А им…очень холодно? У них нет лежанки?
– Тьфу, ты… Крестись!..
* * *
Миша проснулся в страхе: они приснились! Они шли по саду и ели снег. Потом положили лапы на забор и стали смотреть на Мишу… – в тепло просились?..
– Няня… – заплакал он, – не пускай, не на-до!..
Нянька оправила лампадку. Летели утки, махали человеки. И стало жалко: они стоят на снегу и просятся. А тут хорошо, тепло. Спят тараканы на столе, около кружки с квасом.
* * *
Скоро Миша узнал «всю правду». Рассказал ему все Левон. Скажет, метлой похлопает и свистнет:
Ефто правда, ефто правда,
Ефто правда все бы-ло!..
Узнал Миша, что Кошкин дом огромный, «сто покоев», и все там, как было, когда сам Кошкин помер.
– Ну, нечистая сила водится, конечно. Как святки, она та-кую муру зачнет… и старик Кошкин, понимаешь, с ними, и горничная его, которая удавилась…
– А это как? почему?
– Ну, решилась жизни. Давай, говорит, удавлюсь. Ну, ступай к Антипу, он всего знает.
Антипу все известно. Он живет с лошадьми в конюшне. Там у него фонарь со свечкой, в железных клеточках, и пахнет сеном и лошадьми. А от Антипа пахнет колесами. Ночью приходит к нему «хозяин», мутный, «будто дымок», ходит у лошадей, следит, не украли ли овсеца у них.
– Говорят, намедни… – рассказывает Антип Мише, – овес краду! Я этого не могу. Он все знает. Закатает ночью – не отдыхи ешь!
У Миши даже в носу щекочет, от восхищения: «хозяин» какой добрый!
– А у тебя они…есть? Да эти, «черти»… тьфу, тьфу!.. – и Миша крестится.
– У меня быть не может, у меня хрест медный, вон… и вот еще, выжген, от плышшиницы. Это в Кошкином доме – там уж им самый вод!
– А страшно ему? Ах, какой ты глупый… Да Кошкину дому!
Антип раскуривает черную трубочку с цепочкой, надувает щеки и пукает – пуф-пуф-пуф. Голубые клубочки дыма плывут на Мишу.
– Как тебе сказать… понятно, страшно. Вот тебе метла, ладно. Стоит в уголку, ладно. Ну, подошла ночь, все поснули, ладно. Кто ее знает, она, может, на свою судьбу жалится? Да так. Плачет: мету-мету, а там меня на помойку!.. Каждое сучество понимает…
– И ворота?
– Обязательно. Как кому помереть, скрипеть начнут. А хозяину помереть… – с петель обязательно соскочут. А самовар? Самовар, брат, никогда не обманет… загудит, заплачет… – хозяину помереть! А то вот тараканы… Махонькие, а им все известно. Как пожару быть, – по-шли! И нипочем не удержишь.
Миша смотрит на строгого Антипа: почему он все знает? А потому, что особенный Антип: у него на глазу бельмо, и смотрит он на кого-то, кого и нет, а он где-то тут. Борода у него белая и длинная, как у Святого нянькиного. И над стойлами прибит медный крест, а над крестом подсолнух, сухой, колючий, весь в дырочках, как мед. Повесил его Антип из уважения: поднял на улице, когда проносили высокие иконы на трех палках, а святой подсолнух упал на мостовую.
– А то бы опоганили, замяли. А крест я для лошадок держу.
– А лошадки молятся?
– Неизвестно. Вот Чалый. Думаешь, не чует? Все, брат, чует. Убери крест… – ну, скучать будет… не дай Бог! И коваться Михал Иванову не даст, кузнецу. Узда, гляди… крестом делана. Окна, гляди – опять крестом. Ворота – крестом!.. На церквах – кресты. На грудях – опять кресты!..
Зарывшись в сено, где в самой глубине живут мышки, питаются, Миша смотрит, как Антип берет с полки горбушку черного хлеба, разламывает, покрестившись, на четыре куска, солит – и говорит Мише: «на хлебушка, крестись!» Крестится и сам на медный зеленый крест на стойлах и дает по куску Чалому и Кавказке. Жуют в тишине все четверо. Сидят на стропилах, перебирая красными лапками, голубки, прыгают воробьи в кормушки. А голубой ясный день глядит со двора сияньем. Ветром гонит воротину, – не скрипит! Голова Чалого выглядывает из стойла, чешется о побитый столбик. Миша протягивает руку, и Чалый, фыркая тихо брызгами, тянется к ней губами.
– Рабенок… – ласково говорит Антип. – Ты рабенок, и он рабенок. Три ему годочка только. А умней нас с тобой.
– Умней… А почему?
– Потому. От Бога, для пропитания. Прячься, Домна никак идет!..
Миша зарывается в сено. Пропал голубой день. В сене зеленовато, смутно. Хочется лежать долго-долго, совсем остаться, слушать Антипа, который все знает, как святые.
1928 г.
Музыкальная история
(Рассказ моего приятеля)
Случилась эта веселенькая история, когда мне было тринадцать лет, на переломе из отрочества в юность: я вдруг пристрастился к музыке. Я и теперь-то в ней мало понимаю, а тогда ничего ровно не понимал, и черные хвостики на нотах представлялись мне галочками на телеграфных проволоках, – но потянуло и потянуло к музыке, бывало, играет сестра в зале на рояле, – она училась в консерватории, и собиралась кончать «на виртуозку», – а я заберусь под фикус и слушаю, слушаю, как во сне. Вечер весенний, мартовский, падают капли с крыши, в форточку слышно, сквозь музыку, как галки справляют свадьбу, кружатся в сумеречном небе, кричат стукотливым криком… – а сестра быстро-быстро разыгрывает «Прялку», или мечтательную «Сомнабулу», «Труа ревери», или бетховенскую «Лунную сонату». Скоро у ней страшный экзамен с «публикой», она играет по пятнадцати часов в день, все уши прозвенела, только один я слушаю. Передохнет, отопьет водицы, покрестится от страха и спросит меня тревожно: «ну-как… ничего играю?..» Я говорю уверенно: «ты замечательно играешь… как Аренский!» А Аренского я уж слышал в консерватории, куда затащила меня сестра и ее подружка Лисагоровская; там известный всем музыкант Аренский играл свою знаменитую «Бурю на Волге», которую и сестра играла. Сестра обрадуется и скажет: «ну, это глупо, и ты дурак… а что я, выдержу?» Говорю – «обязательно выдержишь, вот ей-Богу!» Она и повеселеет, скажет: «поди сюда, и я тебя выучу играть». Но из этого ничего не получалось. Сколько раз принималась учить меня, выламывала пальцы, «ставила руки» мне, – нет, ничего не получалось. Побьется часок-другой и скажет: «нет, ты решительно долбежка!» А у меня один палец на правой руке болел, и ногти росли невероятно, и нот я не мог запомнить. «Нет, – скажет, – из тебя ничего не выйдет, ты идиот!» А я и не обижаюсь, знаю, что нервы у ней развинчены от такой игры – в обморок часто падала. Не всем же быть музыкантами – надо кому и слушать. И я слушал. И так меня захватила музыка, что я как с ума сошел. К Коршу уж не ходил – смотреть «Свадьбу Кречинского», или «Лес», Лии «Маскарад» Лермонтова: это уж всё я знал чуть ли не наизусть. «Маскарад» Лермонтова я отлично знал наизусть и разыгрывал перед мальчишками на дворе – за всех. Помню любимую первую картину, глее игроки «Иван Ильич, позвольте мне поставить?» – «Извольте». – «Сто рублей». – «Идет». – «Ну, в добрый путь». – «Вам надо счастие поправить, а семпелями плохо…» – «Надо гнуть!» Так мне нравилось это непонятное – «семпелями» и «гнуть».
Словом, я перебрался в Большой Театр. Ночи простаивал на морозе, чтобы достать на галерку за 35 копеек, откладывал пятачок от завтрака, спускал букинистам книжки и всячески изловчался, лишь бы попасть на «Демона» с Хохловым, или на «Лоэнгрина» и «Фауста» с Донским или Преображенским, ли на «Травиату» с Фостером. Я знал по имени-отчеству всех любимых певцов и певиц, знал наизусть многие либретто опер, и целая стопка их составляла теперь мою библиотеку. Я знал все славные арии, и когда в доме никого не было, пел во всё горло – «Привет тебе, приют священный», из Фауста, «Знойною степью идем» – арию Олоферна из «Юдифи», или – «В глуши лесов, за синими морями, высится замок, грозный Монсавальт!» – из «Лоэнгрина». Я мог пропеть «Демона» на все голоса, всего «Руслана», все арии Рауля и Марселя из «Гугенотов». Идешь из гимназии, отсидев два часа за «музыку на гребенке», фонари уже зажигают, – и напеваешь с грустью: «На землю спускается ночь, пора возвращаться домой»… – из «Гугенотов», хор. Остановишься на мосту и замурлычишь из «Жизни царя»: «В поле чистое гляжу, вдоль по реке родной очи держу!» На звездочку поглядишь – «Звезда вечерняя моя, тебе привет шлю сердцем я!» – из «Тангейзера».
И до того дошло это увлечение музыкой, что оказался я последним учеником и остался на второй год. Стали мне угрожать: «прописать ему надо музыку на музыкальном месте!» Ну, конечно, и прописали. Но увлечение только закрепилось. Я сначала не подозревал – да откуда же это увлечение? И вот, однажды, пою я в зале перед зеркалом «Демона». Только пустил высоченнейшую нотку – «и будешь ты царицей ми-и-и-ррра-ааа…» – сестра выскочила из-за двери и кричит с удивлением: «да у тебя, долбежка, удивительный у тебя слух!» Велела еще попеть. Я ей пустил из арии Синодала, Тамарина жениха, – «словно подломилися кры – ы-ы-лия-а-аа мо-и!..» Она и вытаскивает из передней… Эльзу Лисарговскую! И начали аплодировать. Я со стыда сгорел, а Эльза, коварная полячка, схватила меня за уши и затормошила и… поцеловала в глаз. Ах, как пахло от нее гелиотропом!
Но надо сказать об Эльзе. Она тоже была консерваторка, только по пению: готовилась поступать в театр. Высокая, тонкая блондинка, с золотистыми косами: шейка у ней была длинная и нежная и изгибалась, как стебелек. А глаза большие, голубые, как бирюза в крупных ее сережках, которые болтались. Ходила она к нам уже три года, сильно с сестрой дружила, а меня считала за десятилетнего мальчика, как вначале, когда познакомилась со мной. Возьмет за вихорчик и потреплет. Я ее, правду сказать, боялся. А вот почему боялся. Все у нас в доме говорили, что она полячка, а полячки очень коварные и хитрые, и потом у поляков не признают поганого: в чем белье парят – в том и говядину варят; и лучше от низ подальше. Плакала сестра, что «последнюю подругу отнимают»; а всё-таки настояла, чтобы ее к нам пускали. А я из Гоголя знал, что панночки очень хитрые и коварные, как, например, прекрасная полячка из «Тараса Бульбы», которая загубила бедного Андрия, так что он предал веру православную для нее и изменил славному казачеству. Потому-то я и боялся. Пела она необыкновенно, особенно – «слышишь, в роще звучали трели соловья», из Шуберта. И была до того красива, что у меня замирало сердце.
Я-то и прозвал ее Эльзой, из «Лоэнгрина», а звали ее Тося или Зося, по-настоящему. А я, конечно, был Лоэнргин. Бывало, поешь, вздыхая: «о, Эльза!»… и плакал, что так и отъеду на лебеде – распрощусь навеки, ибо – «я – Лоэнгрин, я Чаши той слуга!» Ну, той самой – Грааля Чаши. Очень бывало грустно. Как-то и говорит, сестра: «что-то ты, музыкант, краснеешь, когда Лисочка к нам приходит.. что за новости, уж не влюбился ли ты, долбежка?» Я завертелся по залу на одной ножке, от удовольствия. И пропел из «Демона» – «я скачу и лечу… о, Тамара… моя-а-а!» Она сказала – «выпороть тебя надо», и посмеялась.
Тут вскоре Эльза позвала сестру на именины, что-ли, и – «для пробного экзамена». Оказывается, к ней пришли товарки и товарищи по классу, и будут судить, провалятся или не провалятся. Сестра очень забоялась, но я ее подбодрил, что лучше сперва попробовать на дому, а потом и решится, провалится или не провалится. Она сказала, что, впрочем, всем ведь придется выступать, лучше попробовать. Прибежала Эльза и потащила сестру насильно, и меня почему-то прихватила.
– И ты будешь нас судить, ты продувной мальчишка, и у тебя слух чудесный! – Ну, угощали меня очень хорошо, поили шоколадом с бисквитами. Сестра отличилась, все даже удивлялись. И Эльза отличалась, и все тогда очень отличились. И пили потом лимонад с каким-то душистым вином и ели апельсины. Был там здоровенный молодой человек, по имени Трезвинский, который после в Большом Театре прославился. Была еще красивая барышня, тоже, кажется, из коварных полячек, – Скомпская, тоже потом известная певица, и еще, кажется, знаменитая потом Звягина или Эйхенвальд. И какой-то седой и хромой музыкант, Кашкин. Он, говорили, самый строгий из музыкантов, и всегда во втором ряду в партере сидит и на тетрадку «грешки» заносит. Великое было торжество. Я сижу и ем сливочные тянучки. Вдруг коварная Эльза схватывает меня и тащит на авансцену, к роялю, и говорит хромому старику про меня: «вот, Николай Димитрич, позвольте вам представить знаменитого певца, все-то оперы знает!». Коварная, так и чуял. Все закричали – петь! Рдин волосы взъерошил и стал разыгрывать. Слышу – из «Демона» под армию Синодала, про «кры-лья»! Как тут я не вертелся, как ни сопел, вытащила она меня из-под стола, куда я спрятался, и пришлось мне по строгому пальцу хромого музыканта идти на муку. Сперва я скрипел со страху, но вдруг, посмотрев на Эльзу, махнул рукой. Нате же, слушайте, коли так! и спел. Да так спел, что великан Трезвинский подкинул меня под потолок, а хромой музыкант, покачал волосатой головой и говорит: «и слух прекрасный, и голос будет». А Эльза меня поцеловала, как всегда, в глаз. Все решили, что все выдержат экзамен, и поехали прокатиться в Сокольники. А я окончательно пропал.
И вот тут-то и пришло мне на мысль… написать оперу! Для Эльзы. Я отлично знал все либретто, и как строится опера. Конечно, не музыку я хотел писать, – это уж дело музыкантов, – а либретто. Но либретто тоже дело великое. Приятно, когда читают: «„Нижегородцы“, опера в 4 д., музыка Направника, по либретто Калашникова»! Или там – «Жизнь за Царя», опера М. Глинки, по либретто не хуже барона Розена. Ну, разве можно так – «вдоль по реке родной очи… держу»?! А в «Демоне» и еще того хуже: «Тише, тише подползайте, стража крепко спит… всех их изрубим!» Глупо даже. Но были и прекрасные места, как, напр.: «караван наш запоздал, и напрасно нас сегодня поджидает князь Гудал»! И решил я написать оперу «Маскарад», по Лермонтову. Но со своей поправкой. «Партию Нины Арбениной исполнит меццо-сопрано Эльза Лисагоровская»! «Маскарад», опера известного музыканта Аренского – обожал его за его «Бурю на Волге», которую сестра удивительно играла, – по либретто… И тут стояла бы моя фамилия! А для Эльзы я придумывал удивительно «выигрышные» нотки.
И вот, в каком-то умопомрачении и страсти, принялся я составлять либретто. Написал я его в три дня. Я дал арии для Арбенина, которого должен был петь Трезвинский, дал и для Неизвестного – Бутенко, бас, который очень мне нравился в Руслане и в Марселе, и, вообще, наградил всех любимцев. Но для Нины – Эльзы я не пощадил самого себя. Я, можно сказать, весь истекся – для прославления красавицы-певицы.
Началась опера мрачной увертюрой, в которой должны проходить угрожающие звуки труб и барабана, как «подземное предостережение судьбы», – так я и написал в либретто, для сведения музыканта Аренского. Так и написал: «нечто вроде грома из „Руслана и Людмилы“». Пометил, что лейтмотив увертюры должен выражать стон женской души несчастной Нины Арбениной, из ее арии – «О, я невиновата, муж драгой… ты для меня один – никто другой!» – а также мрачную арию Неизвестного в маске: «Свершилось мщенье! ей нет прощенья! Ты не сказала – „я – твоя“… так пропадай, душа моя!» Опера начиналась блестящей картиной азартной игры на зеленых столах. Игроки, потрясая колодами карт и кошельками с золотом, поют у рампы «гимн игре», в страшно бравурном тоне, под одни медные инструменты, причем время проходит «подземное предостережение судьбы»:
Карты, деньги – наша страсть!
Это дьявольская власть!
Мы любви не признаем,
Ставим, кроем, гнем и бьем!
И каждый куплет хора игроков заканчивался припевом, лихо:
Мы игроки, мы игроки…
Каки-каки
Мы игроки!
Необыкновенно блестящей была дана картина маскарада, где под увлекательный вальс и пенье хором под вальс – «Какое жизни наслажденье превыше вальса нам дано?» – Арбенин – Трезвинский подносит Нине – Эльзе отравленное мороженное и поет арию – «О, дорогая… как ты бледна… Душой страдая, ты не верна… Ты изменила, меня казнила, так пусть могил-ла-а… рассудит нас!» А Бутенко – Неизвестный демонически хохочет у колонны, «„как Мефистофель“: О, тонкий яд любви обманной… прохладой сладкой напоит! Но – ха-ха-ха… тоскою странной… ха-ха-ха-ха… душа горит!» В апофеозе князь Звездич, всё потерявший в жизни, стреляет в игроков, и что-то еще очень эффектное. Ангелы уносят душу Эльзы – Нины на небо, а Неизвестный, в черном плаще, отворачивается от победного зрелища святых, проклинает свою судьбу и саркастически восклицает: «Не рад – иль рад? Так вот он, жи-зни маскарад!..»
Кончил – и написал музыканту Аренскому письмо, с приложением первого акта оперы. Писал, что «я чту Вас, как великого музыканта, творца „Бури на Волге“, и рад послужить Вам своим трудом. Прочтите, и, если понравится, я немедленно принесу Вам всё остальное, где эффектов гораздо больше». Написал, что у меня и мотивы арий придуманы, и даже могу пропеть; ноты писать пока я не умею, но у меня есть знаки, по которым всегда напою до точности. Приложи и адрес.
Я хранил это в страшной тайне. Ждал дни, неделю, – письма от Аренского не приходило. Прошли в консерватории экзамены. Выдержала и сестра, и Эльза. А я всё ждал письма. И вот, как-то врывается к нам с хохотом Эльза, – о, коварная полячка! – схватывает меня за уши и начинает крутить по залу и припевать: «мы игроки, мы игроки! Каки-каки, мы игроки!..» Я обомлел от ужаса. Оказывается – всё известно! Кому-то показала Аренский мое письмо, а я-то сглупа упомянул, что «музыка мне дорога, потому что я постоянно пребываю среди учеников консерватории и постиг все звуки, а моя сестра кончает „на виртуозку“ и ученица Вашего знаменитого директора Сафонова!» От Аренского всё узнал какой-то певец, сказал другому, и дошло до коварной полячки Эльзы… – и был мне великий срам. И срам надолго.
Года через два после этой истории встретила меня Эльза, уже поступившая на сцену в провинцию, и первым ее словечком было, на всю-то улицу: «каки-каки, мы игроки!» Она была еще красивей и еще коварней. В синих ее глазах, – теперь они стали синие! – играла обжигающая, коварная усмешка и сладко пронзала сердце. Эльза протянула мне ручку, пахнущую гелиотропом, и пропела, тряся сережками: «ты теперь почти взрослый, и я жду от тебя новой оперы – „Люблю тебя“. Обещаешь?» И засмеялась… ну, как Кармэн! Я долго глядел ей вслед, и в голове звучало: «бойся ты лю-бви мо-е-эй!..»
И дома проходу не давали. Чуть что – и начинается:
«Каки-каки, мы игроки!»
Тем моя музыка и кончилась.
Март, 1932 г.
Первая книга
Два месяца писал. Перечитал, переписал, прорезал, еще переписал, еще прорезал. Ну, куда такое! Стало грустно. И спокойно, будни. Послать – куда? Вспомнил редактора: «пишите, приносите». Принес. – «Зайдите… так, месяца через два». Сталосовсем покойно: еще не скоро.
Через месяц – письмо, полуславянским в заголовке: «Русское Образование». Удача! Не совсем: «зайдите переговорить». Иду, в волнении. Усач швейцар, когда-то недопускавший до самого, – «гимназистов никак не допускаем!» – распахивает двери к самому: «пожалуйте-с», – усы играют весело и строго. Всё то же: груды на столе, «леонтьевском». Пальма еще пышней, как куща. В седых кудрях, редактор, Анатолий Александров, приват-доцент: – «а, садитесь… вот в чем дело…» – сердце тук-тук-тук… – «недурно, можно напечатать…» – сердце, по-другому: тук-тук. – «Интересно дали. Напечатаем…получите недурно…» – приятный взгляд, – «а для студента и совсем недурно…» – черкает на бумажке, множит, рублей четыреста! Думаю: куплю Шекспира, Гёте, «Историю Земли», Неймайра – «Но вот в чем дело. Надо ой-что резать. В цензурном отношении, и… редакция не может согласиться с вашим взглядом на аскетизм… Погодите. Вы легко разделались с этим… „аскетизм плоти!“» – строгий взгляд. – «Постойте… Дух нашего монашества…» – лекция минут на двадцать. Слушаю с восторгом. Начинает листать, отчеркивать. – «Это неуместно. Что это за… „благо-уха-ние“, с тире, в кавычках?.. Старец, двадцать лет не обмывавший тела, преставился, и „от его тела истекало неизреченное благоухание“… это жи-тийное! а вы – в кавычках! вам смешно…» И снова лекция о «преображении плоти». Интересно. – «Даете новую речь, прекрасно… но не всё выносит книга: надо от-би-рать. Искусство слова…» Лекция о лове. Я в восторге. – «В общем, предлагаю сократить, вот, где синим… страниц тридцать. Вы согласны?» Я: нет, не могу. – «Почему?! „На скалах Валаама“ мне нравится, будет читаться с интересом. При некоторой игривости… – это у вас пройдет! – внутренно вы духовно-близки…» Ласково глядит. – «Ваша душа чувствует красоту святого…» Я рад, но на урезку не согласен. – «Не по-ни-ма-ю… – встряхивает кудрями, – вы же получите… и еще могу вам предложить… сделаем для вас триста оттисков, в рубашечку оденем, можете раздать по магазинам, как книжечку. Это вам даст больше ста рублей…» Я что-то говорю: это мое, если выбросить, это уже будет… Он поднимает руки к пальме: – «Вы чудак! не понимаю, что за… упорство!» – «Не могу». – «Но… цензу-ра!» – восклицает он. Это дает мне силы: – «Я не желаю подчиняться произволу!» – «О, ка-кой вы…Ну в таком случае…» – Холодный взгляд, холодное прощанье. Провожает усач, сочувственно: – «Вернул-с?» Дал ему целковый, за сочувствие.
* * *
«Как книжечку…» Самому издать? Прямо на Моховую, к К-ну, – мой поставщик «брошюрок». – «Да на что же лучше! такую книжицу закатим-с!..» Ловкий, ярославец, «с пеленок, скажу-с, при книжечках». – «Слушайте-с. Типографщица Е. Г., слыхали-с? Первый пионер, сам Гольцев поздравлял… женский труд ввела… облагодетельствовала, как сказать, про-грес-с…и в таком случае может брать дешевле все, не Кушнерев-с! Денежки вперед, понятно. Одно заглавие-с – „На скалах!..“ – из рук рвать будут. А с Картинкой, монастырек там… да пустим копеек 80 – тыщи пролетят! В глаз чтобы било покупателю, повеселей обложечку… ну, два завода, 2400, – на счетах чик-чок-чук, – вам тыщенку чистых, не меньше-с. Можете… рубликов 700 вперед? Чудесно. Завтра сама примчится, шрифт, бумагу…»
Завтра сама примчалась. Громада, шляпа в лентах, запыхалась. – «Женский труд, я первая… Гольцев поздравлял, дорогу женскому труду! В наших условиях…» – понизив голос, – «вы понимаете, полиция косится, обыски… первая ласточка… женщина – субъект гражданских прав, вы понимаете?.. Значит, вы мне 700 авансом…Завтра и в набор. Цицером? Прекрасно, я люблю цицеро… Цензура? Обойдем. Я в восторге, всю ночь читала…есть зацепки, но, по закону, свыше двести листов… разгоним, – без предварительной. Отпечатаем, три дня сроку…Не беспокойтесь, у меня рука…» – миг-миг, – «сколько раз сам Гольцев! Нет наличных?.. Ну как же?.. Ах, облигации? кредитного, московского? Охотно, по курсу, скидка на комиссию…» Трубка облигаций, сколько надо. Кладет в мешочек, вся красная, в удушьи.
Книга будет.
* * *
Корректоры, запах краски, радость. Первые листы – чудесно. Клише: скала над озером, под ней монахи, в лодочке, – «в глаз чтоб било покупателю». Ноябрь. Первая книжка, – красота!
«На скалах Валаама»
Тут обрывается: Бутырки, две недели. Университет – Манеж – Бутырки.
Дома, наконец. Телеграмма: «Книга задержана, будьте в Цензурном Комитете… Е. Г.» Гром с неба! Вспомнился редактор, Шекспир, Гёте… «по магазинам раздадите». Было бы уже в журнале. И – горделивое сознанье: жертва гнета! Ах, юность, юность…
Цензурный Комитет, на кисловке. Накурено, казенно, палачи. Вот главный: князь Н. В. Шаховской, – как будто и непохож на князя: одутлое лицо, мочалистое что-то на лице. Прищурясь: – «Вы… автор? Это что же, пикник из Валаама устроили? Не возражайте. Так нельзя-с. И порнография… Да позвольте, у бабы моют в банях… мужчин! Ну, не на Валааме… еще бы вы – на Валааме! В Финляндии, но в книжке о Валааме! И про пьяных купчиков и девок… В диалогах, да, но!.. Можете полюбоваться…» Показывает экземпляр «цензуры»: всё красно, залито. Затерзанная жертва гнета. – Не возвышайте голоса, г. студент. Да, потеряли, сами на то шли, – «„без предварительной“! Вам сколько лет?» – Даже благодушно: – «Э-эх, ю-нец, пи-сатель. Вот что. Не волнуйтесь. Приходите вечерком, и мы поборемся: будете отстаивать свое, а я свое».
* * *
Пьем чай. Князь – будто и не цензор, а добрый дядя, «благородный человек». В кабинете – комфорт, культура. Шкапы, в зеленых занавесках, книги, книги. Есть один, «секретный»: «мученицы», сожженные. – «Может попасть и ваша, если не согласитесь на „операцию“». Горько, но соглашаюсь. Князь – мягче: – «В чай коньячку?..» Чудесный человек, обворожительный, культурный… про-грессивный! я почти влюблен. Страница за страницей, проверяем. Князь уступчив: – «Хорошо, оставим. Да… вы в этом смысле?.. Ну, оставим. Больно, а? Не по живому телу. Ху-же? Это так кажется, обтрепитесь». После работы – говорим друзьями. Нет, он либеральный, прогрессивный, сам подгнетом… какой он цензор! Двадцать страниц отбито. Четыре вечера боролись. В итоге: вырвать 27 страниц. – «Перепечатают и вклеят, только. Да, приплатите: за грех и наказание». Князь сверх-любезен: показывает тайны: «мучениц», сожженных: – «Вот „Прогресс нравственности“, Шарля Летурно, пустая книжка! Ка-ак, читали?! Странно, сожжена». Показывает парижские журналы, карикатуры на приезд царя. Нет, он хороший. Я открываю ему душу, про книгу. Он тоже: – «Покаюсь, я немножко виноват. Дал одному приятелю… драматург Невежин, знаете? Ему понравилось – разговор народный. Дал другому – Ширинскому-Шихматову, синодальному. А тот – „интересно, но!..“ Запросил К. П. Победоносцева. Вот телеграмма, самого: „задержать“. Чего вы удостоились! Что делать… Посадили вас не мы, а типография, советчики. Дорогонько, вдвое-с», – помял он книжку. – «А сколько припечатают? Могут. Снимут сливки… бывает это».
Приятный человек. Погиб при взрыве, на Аптекарском.
* * *
Книга вышла, израненная, в пластырях, – февраль, 1897 г. «Била в глаз». «Сам Гольцев» написал о ней страницу, в «Русской Мысли». «Русское Богатство» – тоже благоприятный отзыв: понравилось про «общину» и про «народ». «Новое Слово» – красная рубашка, рождавшийся марксизм, – разделало: слог бойкий, но о чем: о затхлой жизни, об «изжитых предрассудках», «эксплоатация труда религией». Книга продавалась. – «Плоховато, 247 всего! – морщится К-н, – зарезала цензура». Я вспомнил князя: «снимут сливки». Не знаю. Так и тащилась: 248, 260, 293. Через год, К-н: – «только занимает место, лучше забирайте раз недовольны… не пошла». Продал букинисту за гроши. После мы с ней встречались – на Сухаревке, в нижнем, в Твери, в Архангельске… предлагали переиздать. Не согласился: ошибка юности.
Десять лет – ни строчки, не тянуло. Удручило? Не думаю. А просто – не исполнилась душа. Исполнилась – заговорила.
Давно ее не видел – свою ошибку. А посмотрел бы.
Февраль, 1934.
Париж.