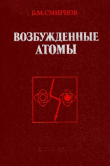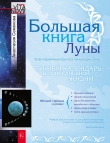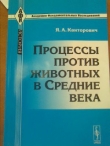Текст книги "Наши марковские процессы"
Автор книги: Иван Попов
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– А почему у вас на росписях ангелы нарисованы с такими толстыми шеями и с бейсбольными битами? – спросил кто-то, показывая рукой на свод церкви.
– А вы видали когда-нибудь ангелов без бейсбольных бит? – самодовольно ухмыльнулся Коста Выжаров. – Вообще видали вы когда-нибудь ангелов – только не в кино и не на иконе, а живьем? Нет. Ну а что ж тогда?!? Некоторые видели, говорите? И где? В реанимации? Не очень-то верьте таким россказням – о душе, которая после клинической смерти из рая вернулась. Вознеслась, это, значит, душа к небу, и увидала там высокие фигуры в белых одеждах и с крыльями за спиной, и повели эти фигуры в белом душу в рай, значит. Только вот кто бы объяснил человеку, что фигуры эти в белом – никакие не ангелы, а доктора с медсестрами, которые в реанимации у постели больного торчат да пари держат, перескочит ли он яму, а если нет, то через какое время его вперед ногами вынесут. Так что один совет вам от меня: не путайте рай с реанимацией! А ангелов – с медицинскими сестрами, хе-хе-хе… А теперь соображение насчет бейсбольных бит. Представьте себе, значит, невооруженного ангела, которого поставили защищать, к примеру, бюро обмена валюты, или там – платную автостоянку. Да этому ангелу на второй же день службы голову проломят… Кто? Злые силы, разумеется. Те самые, от которых он объект защищал, куда его поставили. Если злые силы наткнутся на ангела из тех, что на иконах рисуют – хилого да одним луком небывалым вооруженного, – о том ангеле считайте, что уже некролог его прочитали. Другое дело, если он здоровяк по меньшей мере кило на сто, с битой, да и с сотовым телефоном, чтобы подкрепление вызвать в щекотливый момент. Так что, сами видите – времена меняются, и ангелы тоже…
– А вы не боитесь, что вашу церковь могут закрыть по закону о борьбе с сектами?
– Так ведь мы не секта. «Первая частная», строго говоря, даже и не церковь, потому что мы зарегистрированы как торговая фирма, а не как религиозное объединение. Мы попросту продаем религиозные услуги, как, скажем, попы, окропляющие святой водой открытие банковских офисов, только эти попы не зарегистрированы по закону о торговле и потому не платят налоги – а мы, хотя бы по идее, платим. Цели у нас – как у любой торговой фирмы: расширять рынок, предлагать новые услуги, в общем – стремиться к наживе, а не к религиозной пропаганде…
– А почему же вы тогда издаете религиозные материалы? – спросил кто-то снизу и помахал над головами толпы несколькими книжечками в пестрых обложках.
– А почему бы и нет? В конце концов, это ведь тоже вид услуг, тем более, что в наших толкованиях и писаниях вы нигде не найдете разжигания религиозной, расовой или какой бы то ни было вражды. Вы посмотрите только: на книжном рынке предлагают «Майн кампф», «Протоколы сионских мудрецов», интернет наводнен пропагандой воинствующих исламских сект, а кто-то вдруг станет призывать к запрету издания «Евангелий от братков» или там «Послания Эмиля Кириллова-Крокодила брокерам по недвижимости»… Вы не знаете этого послания? Там рассказывается, как Магомет послал горе факс: «Явитесь, пожалуйста, такого-то числа такого-то месяца во столько-то часов в такое-то место ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА». И поскольку гора, ясное дело, к Магомету не пошла, то пришлось ему самому оторвать от стула свой толстый зад. Между прочим, сейчас самое время сказать, что сегодня в шесть часов вечера начнется проповедь; будет читаться нравственное послание под заголовком «Убьем страхователя в себе самом»… Что вы расшумелись: тема вам не нравится или что-то другое? Если не нравится, то скажите прямо, а не вносите смуту среди остальных… Так… значит, вы все-таки не против темы, – это хорошо. В двух словах, идея проста: в душе всякого человека сидит по одному маленькому страхователю, который постоянно прет наружу, на волю, чтобы развить там бурную деятельность, какую ему хочется, а потому нужно вовремя осадить этого внутреннего страхователя, подавить его поползновения еще в зародыше, так сказать… Подробностей я не знаю, я ведь как-никак не духовный пастырь, а всего лишь ответственный за связи с общественностью. Приходите вечером и услышите всю проповедь. А субботнее послание будет на тему «Стикеры6565
стикер – (от англ. sticker) наклейка
[Закрыть] – народные защитники». Тема, сами понимаете, – интересная, богатая нюансами и толкованиями…
В этот момент кто-то дернул Фому за рукав; он обернулся и увидел Максима Лесидренского.
– Выйдем на улицу – выкурим по сигаретке, – предложил он тихо, чтобы не мешать презентации. Фома ответил, что не курит, но тут Лесидренский снизил голос еще больше и прошептал, что ему нужно кое о чем поговорить в связи с профессором Дамговым. Фома кивнул и стал выбираться из толпы, бросив последний взгляд на своего бывшего однокурсника, извергающего мутные словесные потоки с красного заседательского алтаря. «Ты смотри, как обтесался! – думал он. – Когда-то я и сам мог ему двумя-тремя хитрыми прибаутками рот заткнуть, а теперь целая толпа журналистов никак с ним сладить не может…» В это время взгляд Фомы скользнул по стене над алтарем и остановился на одной детали росписи, которую он до сих пор не замечал. Высоко слева, между толстошеими фигурами святых, стояла стройная Фемида – богиня правосудия, – в классической римской тоге и с завязанными глазами; в левой руке она держала весы, а в правой размахивала бейсбольной битой.
– И когда же должен появиться профессор Дамгов? – спросил Фома. Лесидренский пожал плечами, зажигая сигарету, потом сделал рукой с зажигалкой неопределенный жест.
– Видимо, вообще не появится. По сценарию он должен был сидеть там за столом, слева от ответственного за связи с общественностью, да кто его поймет? В последнее время Владко Дамгов совсем во все тяжкие ударился, извиняюсь. Лично я думаю… – При этих словах Лесидренский понизил голос и приблизился к Фоме. – …что он скрывается. Причем не от кого иного, как от собственных спонсоров из фонда Святого Димитра Общего.
– А почему скрывается? Денег им задолжал?
– Деньги – чушь. Обманул их просто с монополией на языковую инженерию, а этого они ему ни за что не простят. Ведь из-за одной только этой монополии ему дали денег на суперкомпьютер, а после того, как выяснилось, что нелегально где-то уже работает вторая лаборатория по языковой инженерии, он повис на волоске. Спасает его на данный момент лишь то, что еще неизвестно, у кого в руках вторая лаборатория… А вы как думаете? Спасет Дамгов свою шкуру?
– Не знаю, – ответил удивленный вопросом Фома. – Я, похоже, вообще не в курсе, что за игры вокруг нашего отдела играются.
– Да, верно – такие вещи по идее распространяются только в форме слухов. До какой вообще степени профессор ввел вас в курс дела?
– А почему вы спрашиваете? – осведомился в свою очередь Фома, которому этот поворот разговора совсем не понравился.
– Я – внештатный консультант «Ятагана», – сказал Лесидренский и достал из кармана служебное удостоверение объединения. Фома не успел хорошенько его разглядеть, так как собеседник быстро убрал его обратно, но все же убедился, что дело – нешуточное. – Наверху хотят, чтобы я ориентировался в должках Дамгова, потому что он уже совсем вышел из доверия…
– Не знаю, в какой степени могу вам помочь, – прервал его Фома. – Я сам в полном неведении. Вот, например, вы – из нашего института. А сколько раз за последний год вы видели профессора Дамгова?
Лесидренский собрался было ответить, но вдруг задумался и так и остался стоять с открытым ртом.
– Да, понимаю, – сказал он наконец, – понимаю, о чем вы. Мой вопрос метил на другое, но выходит, что о языковой инженерии вы, скорей всего, не знаете вообще ничего…
– Вы совершенно правы.
– И вам наверняка хотелось бы узнать о ней побольше?
– Я не против, – сказал Фома. – Если только это, конечно, не страховая тайна какая-нибудь, а то кто его знает…
Лесидренский бросил окурок и зажег новую сигарету.
– В принципе, это не тайна, только вот – как бы вам все объяснить? Если сказать прямо – вы, наверняка, станете надо мной смеяться, для вас это прозвучит до того несерьезно, тем более, что вы – человек здравомыслящий, с математическим образованием, да еще компьютерным… Поэтому я начну немного издалека. К примеру, вы видели сегодня росписи на стенах «Первой частной». Вы, наверно, думаете, что боссы уже совсем оборзели, раз их иконописуют апостолами, а их «бугаих» – святыми девами, и что все это, пусть и хорошо выглядит, все-таки – полный идиотизм: в конце концов, из бандитов трудно сделать святых. Однако тут возникает такой вопрос: а с чего мы так уверены, что наша – христианская – церковь сама не произошла от какой-нибудь подобной силовой группировки? Не верите? Между прочим, в истории имеются достоверные документы, что появление христианства совпадает по времени с запретом, наложенным римскими властями на иудейских разбойников с большой дороги в связи с регистрацией ими охранных фирм… Не смейтесь, я серьезно! Лично меня никто не сможет убедить, что первые христианские церкви не были просто офисами, где люди платили, чтобы им отпускали что-то вроде нашей «Божьей защиты». В этом контексте обратите внимание, в каком качестве рекламировали Иисуса Христа: в качестве спасителя! И от чего же спасал их Иисус? Или от кого? Братья Стругацкие прямо утверждают: апостолы Иоанн и Иаков были разбойниками.6666
Речь идет о романе А. и Б.Стругацких «Отягощенные злом» (прим.авт.)
[Закрыть] Ну, и что же это тогда, как не силовая группировка? А есть и еще кое-что: торговцы в храме! Да!!! – Тут Лесидренский совсем вошел в раж, глаза у него выпучились, как в экстазе, а жесты стали такими энергичными, что он чуть не залезал Фоме в рот. – Да, торговцы! Во всех храмах на свете, во все времена и эпохи, были и торговцы. Без исключения. Возьмите хотя бы наш Дворец культуры: если принять, что это храм культуры – сейчас в нем лишь лотки да киоски, и рождественские базары, пасхальные, и так далее… Почему тогда Иисус и его люди пошли разбивать лотки в Иерусалимском храме? И самое главное – разбили их! И согласно уголовным досье римских властей, никто и слова не сказал! А куда смотрели стражники, спрашиваю я, там ведь, наверняка, и стражники были? А в сторону смотрели, вот в чем дело! Все началось с того, что торговцы не захотели платить Иисусовой группировке рэкет, а потому пришли молодцы, поразмахивали палками, поувещевали немного, переломали инвентарь и ушли восвояси. Стражники тоже были в игре, потому и прикинулись, будто ничего не видят… Да, но вышел прокол, в группировку внедрился агент римских служб, некто Иуда Искариотский, он заложил босса и того взяли за жабры. На самом деле Пилат, как и всякий прокурор, наверняка, был «схвачен» апостолами при помощи нехилой суммы денег, и вовсю старался вытащить Иисуса сухим из воды, да евреи сказали: «йок, бей ага эфенди,»6767
фраза, полностью состоящая из турцизмов: йок – нет; бей – турецкий титул; ага – чиновник, господин (обращение к турку); эфенди – господин (обращение к турку)
[Закрыть] упаси нас от него, распните его, чтобы и мы успокоились! И предпочли отпустить другого разбойника, не из той группировки…
В это время разволновавшийся Лесидренский нечаянно куснул сигарету не с того конца, обжег язык и разразился длинным и витиеватым трынским6868
Трын – город в Болгарии
[Закрыть] ругательством. Потом отбросил остаток сигареты и продолжал уже спокойнее:
– А возьмите страховую компанию «Ллойд». Согласно документам, ее основала через подставных лиц группа видных английских пиратов. Одним словом, не только на ограбленных кораблях решили заработать, но и на неограбленных… Но проблема в другом. Как вообще иудейские разбойники с большой дороги смогли так прочно замаскироваться под церковь, что основанная ими группировка непоколебимо стоит уже целых два тысячелетия? Как так: одна ничем-ничто гангстерская банда превратилась в основу всей нашей цивилизации?.. Тут мы можем пойти и дальше. Ведь в чисто физическом плане роль сегодняшнего государства практически неотличима от роли – назовем его так – авторизованного рэкетира. То есть, страхователя. Что говорит государство шантажируемому им налогоплательщику? «Отстегни-ка мне столько-то налогов, а не то худо будет!» Совсем как наши спонсоры из «Ятагана», – но почему тогда государство считают чем-то по идее хорошим, а «страхователей», по крайней мере, до недавнего времени – обобщенным образом зла? Различие лишь в том, что одни размахивают битами, а другие – налоговыми законами, но столь ли это важно? Где проходит тонкое различие между рэкетиром и хранителем порядка? Скажите?
Лесидренский сделал паузу, словно ожидая от Фомы ответа, но поскольку тот не знал, что сказать, профессор продолжал:
– В словах. Да, именно так, только в словах! Одни их называют так, а другие иначе, и ничего более. Весь вопрос – в легитимации, в ценностях, в психической установке… Идея проста: «Я, – говорит авторизованный рэкетир, – не просто беру у вас деньги, а делаю это во имя справедливости». Видите, как мала разница, но в то же время – как решающа и труднопреодолима: за два тысячелетия разбоя ни одной другой банде не удалось заставить полмира читать молитвы у себя в офисах! Были успехи и помельче в том же направлении, – например, у рыцарского ордена госпитальеров-иоаннитов. Карьеру они начинали охранниками дорог к Святым землям, но постепенно увлеклись и стали рэкетировать все, что рэкетировалось, и делали это целых два века; лишь когда они затребовали страховку с самого папы римского, то их взяли на мушку и отлучили от церкви… А теперь возникает вопрос: как может, например, одна группировка, вводя в обращение необходимые для ее целей слова, сменить идеи и установки людей так, чтобы из простого вымогателя превратиться в столп общества? Создавая новый комплекс ценностей и ожиданий, то есть, новый язык, может ли она легитимироваться, превращаясь из ситуации в культуру?..
В этот момент откуда-то из дебрей пиджака Лесидренского раздалось мелодичное попискивание, слегка приглушаемое шерстяной тканью; он сунул руку в карман и достал радиотелефон неизвестной Фоме системы, явно сберегаемой только для служебного пользования в рамках страховой индустрии.
– Алло! – крикнул в микрофон Лесидренский; в ответ долетела длинная тирада, искаженная до неузнаваемости помехами и плохой связью, так что Фома вообще не смог различить с треском вылетающие из трубки слова и улавливал только ответы Лесидренского. – По идее объект должен был быть на объекте… нет, нет… да, я был на объекте, но видел там все, кроме объекта… да… да, сейчас же отправляюсь… разумеется… перед самой спевкой!
Как только разговор завершился, Лесидренский убрал радиотелефон и обернулся к Фоме:
– Коллега, мне нужно явиться в институт, так что… Вам туда же?
Фома пожал плечами в знак согласия и последовал за Лесидренским, направившимся к тропинке, шедшей с краю луга.
– Вы же на машине были? – вспомнил он вдруг.
– Пусть стоит тут, на стоянке «Первой частной». Она хорошо охраняется – под «Божьей защитой» да тому подобное, – а то угонят еще. – И Лесидренский повел Фому по тропинке мимо мирно пасущегося стада овец.
– Итак, на чем я остановился?.. – попытался он восстановить свою прерванную телефонным разговором мысль. – Ага! И вот, значит, два тысячелетия назад иудейские соратники наших спонсоров сделали решающий шаг: взяли и написали евангелия. То есть, не сами, конечно, написали: страхователи-то, как правило, не бог весть какие грамотеи, – наняли, скорей всего, двух-трех бедных студентов по еврейской филологии из Иерусалимского свободного университета и те им свершили всю работу. Между прочим, «евангелие» означает благую весть. «Радуйся, дочь, ты родишь сына божьего», – сказал ангел и стал расстегивать штаны… А теперь серьезно. «Вначале было слово» – так начинается одно из евангелий, – от Фомы, если не ошибаюсь… Да-да, вы правы, от Луки.6969
В действительности так начинается евангелие от Иоанна, а не от Луки. (прим.авт.)
[Закрыть] Как это растолковать? Большинство людей склонны видеть здесь связь с кабалистикой, оккультизмом и вообще магическими практиками, где используются так называемые волшебные словечки, – скажем, пресловутый тетраграмматон, представляющий собой имя Божье, но записанное определенным образом. Видите, как устойчива вера в то, что слова сами по себе могут изменить реальный мир. Но как обстоят дела в действительности? Один из пионеров языковой инженерии Виктор Пелевин говорит: «Мы живем среди слов и того, что можно ими выразить. Словарь любого языка одновременно является полным каталогом доступных восприятию этой культуры феноменов; когда изменяется лексика, изменяется и наш мир, и наоборот.»7070
Цитата из очерка В. Пелевина «Зомбификация» (прим.авт.)
[Закрыть] Заметьте – И НАОБОРОТ! В этом идея языковой и ценностной инженерии: целенаправленно манипулируя языком, достичь перемены всего общественного сознания, а значит – и жизни. В сущности, языковая инженерия очень похожа на генную, ведь язык, кроме всего прочего, – это своеобразная генетическая память общества – наследственный материал, которым манипулирует языковой, или социальный, инженер. Например, десятого ноября… Стоп! Что, по-вашему, тогда произошло?
– 10 ноября? – переспросил Фома. – Мирослав Мирославов-Груша родился – столп болгарского духа в мире и в стране… А, нет, вру – это другого числа было. А 10 ноября… А-а, припоминаю, кажется. Что-то случилось, но никто так и не понял – что. По телевидению и в газетах вдруг ни с того ни с сего бая нашего Тошо хаять начали…
– Верно, хаяли его! Но это была не обычная грызня и оплевывание кого-то или чего-то. Тогда сбросившие твоего бая Тошо стартовали операцию по смене языка. Просто одну определенную категорию слов перестали употреблять – а на их место пришли новые слова, которыми их заменили! Это было нужно, чтобы сменить политическую систему, перепрограммировать избирателей так, чтобы они безусловно и безальтернативно пожелали политической перемены… Ага! Я сказал «перепрограммирование избирателей» и вспомнил одну важную вещь. Языковая инженерия по сути своей – самая радикальная из технологий промывания мозгов, или, – пользуясь более красивым, безболезненным и наукообразным термином, – «гуманитарных технологий». Такие классические технологии работают с языком как статично заданным, пассивно изпользуя его смысловые коды, модели, понятия, установки. А языковая инженерия активно манипулирует этими понятиями, кодами и даже логикой языка – будь то почти полностью, как 10 ноября, или же лишь отчасти… Словесные сотрясения более мелкого масштаба организуют довольно часто и по любому поводу. Вот, к примеру, выражение «Валютный совет». Вы знаете, что его взяли на вооружение совсем недавно, чтобы заменить предыдущие волшебные термины – «Приватизация» и «Структурная Реформа», – поскольку они не справились с тяжестью задач, которые должны были вынести на своем горбу, и капитулировали. Каких задач? Самая простая из них: убедить людей, будто их политические избранники не просто едят и пьют за народный счет и крадут все, что плохо лежит, а вершат это во имя чего-то другого, чего-то высшего… Сейчас этим «высшим», во имя чего едят, крадут и пьют в верхах, объявлен Валютный совет, до этого была Реформа, Светлое Будущее… Это – слова-носители. Истинная опора власти. Их сила, разумеется, постепенно истощается и в конце концов их снимают с вооружения, но заменяют новыми… В наше время замена происходит очень легко: достаточно сунуть в лапу шефам СМИ, или там припугнуть, и слова-носители начинают извергаться по всем станциям и каналам в эфире, во всех газетах, стотысячными тиражами, и так каждый божий день. А вы наверняка знаете, что есть одно утверждение, которое приписывают партайгеноссе Геббельсу, и утверждение это имеет строгое доказательство в теории нейронных сетей… Да, да, нейронных сетей! Ведь именно их установила в головах у людей природа. Итак, что же сказал Геббельс? «Любая ложь, повторенная N раз, при достаточно большом N становится достаточно неотличимой от истины.» И отсюда еще одно утверждение на уровне теоремы, на этот раз из законов Мерфи: «Истина эластична.» Вы изучали когда-нибудь нейронные сети? Только на компьютерах, а не на людях? Ничего, принцип тот же. Но вы наверняка не знаете, что новые слова-носители сочиняют при помощи компьютера. Да, и это-то и было целью нашего с вами здесь разговора! Во всем мире операции по языковой инженерии планируются с помощью суперкомпьютеров – точно таких же, как тот, что вы ожидаете у себя в отделе. Основная идея, с какой вам дали на него деньги от «Ятагана», состояла именно в том, что они хотели иметь как можно более полную лингвосетевую модель, чтобы выдавить из нее как можно более эффективные слова-носители, а построение такой лингвистической модели – операция трудоемкая и поглощает адски много машинных ресурсов. И все, наверно, шло бы хорошо, да только завертели вот вашу машину в каком-то бюрократическом водовороте, а в это время где-то в другом месте заработала нелегальная лаборатория по языковой инженерии, хотя слово «нелегальная» здесь вряд ли уместно, ведь это не запрещенная деятельность…
В этот момент они достигли фибролитовых построек на краю луга, обошли их сквозь разросшиеся вдоль тропинки кусты и вышли на узкое пространство между ними и оградой. И там, словно явившись прямо из слов Лесидренского, стояли, громоздясь одно на другое, старые полотнища с лозунгами, оставшимися с самых различных времен и Этапов Большого Пути: «Вперед к светлому будущему», «Дела, дела и только дела»,7171
лозунг времен социализма в Болгарии
[Закрыть] «…за быструю смену системы» (начало лозунга терялось под остальными полотнищами), «Демократия с малого, но навсегда!», «А ты что сделал для дела структурной реформы?», «Налоговые инспектора – ум, честь и совесть нашей эпохи»… А на самом верхнем полотнище свеженамалеванными огромными буквами краснело новое заклинание: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВАЛЮТНЫЙ СОВЕТ – СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!»
– Здесь – мастерская лозунгов, – пояснил Лесидренский, поймав взгляд Фомы, пока они пробирались по тропинке к дыре в ограде. Дыра была по сути дела небольшим парадным входом: из ограды была выломана целая секция, а за ней, на территории института, была установлена небольшая, переделанная из автомобильного прицепа будка, в которой дремал какой-то старик – наверно, вахтер или сторож дыры. Фома и его коллега прошмыгнули мимо старика, прошли еще несколько метров по каменным плитам, уложенным дорожкой между деревьями, и вдруг оказались у восточного края длинного институтского здания, совсем недалеко от главного входа.
Фома заметил, что как только они вышли на асфальтовую стоянку перед институтом, Лесидренский стал вести себя как-то странно. Разговорчивость его улетучилась, словно дым, он замолчал, съежился и начал осторожно поглядывать вверх на окна здания. И тут Фома вспомнил два предыдущих разговора о суперкомпьютере – с профессором Якимом Рангеловым и членкором Герасимом Ивановым (да будет земля ему пухом): как они приглашали его к себе в кабинет, несли таинственным тоном всякую ахинею, а потом вдруг выставляли вон и замыкались изнутри. И самое интересное, дали ему красную папку, затем желтую… И в голове у него затеплилось что-то вроде догадки.
– Коллега, – обернулся он к Лесидренскому, – когда я смогу взять у вас зеленую папку? – Цвет он выбрал совершенно случайно, думая, скорее всего, о смене цветов светофора. – Ту, что лежит в сейфе у вас в кабинете…
Тут Фома смущенно замолчал, потому что Лесидренский внезапно стал как вкопанный, лицо у него резко побледнело, а глаза остекленели и приняли выражение безнадежности.
– Во-первых, кабинета у меня нет, – ответил он неуверенным голосом, – да-да, именно так, кабинета у меня нет – месяц назад его по договору с «Ятаганом» переоборудовали под кафе… И к тому же, зеленую папку вы должны были по идее получить не у меня, а у другого. Я в иерархии стою слишком низко. Надо было…
В это мгновение откуда-то сверху раздался молодецкий свист; Фома поднял голову и увидел выбритую до блеска макушку на мощной шее и крепких плечах, свесившихся из открытого окна последнего этажа. Шестого, пересчитал он машинально для верности.
– Жми сюда! – выкрикнула голова прямо в лицо ему и Лесидренскому. Фома ничего не понял, но коллега его вмиг запрыгал, радостно замахал руками и, не попрощавшись, вприпрыжку бросился по ступенькам в институт и исчез в темном прямоугольнике двери.
Странное поведение Лесидренского немало озадачило Фому, но не настолько, чтобы навести на какую-либо определенную мысль. Тем более, что после всех этих побасенок о церковной карьере иудейских разбойников он чувствовал себя так, словно мозг у него был полностью промыт и совершенно непригоден для рассуждений, и ему, пожалуй, не оставалось ничего иного, как дотащиться до какого-нибудь бара и провести там остаток дня в разговорах о матчах. Или еще лучше – поиграть в бридж в «подполье» в компании наверняка пившей там сейчас свой джин Марии и хищного фикуса-мутанта. И Фома уже направился было к подвалу, но мимоходом бросил взгляд на прилепленные к стеклянной входной двери некрологи: хотел посмотреть, что там написали по адресу Герасима Иванова.
Некрологов было два. Один, как и положено, был с фотографией и длинным перечнем званий: «чл.-корр., проф., д-р к.т.н. Герасим Иванов», шло краткое славословие, а в конце – подписи руководства всей академии. А другой… Фома взглянул на него и не поверил глазам. Потому что в нем было написано:
«Второго числа сего месяца, в среду, внезапно скончался профессор Яким Рангелов – основатель и многолетний руководитель отдела комплексных систем… Поклонимся его светлой памяти.»
Фома ощутил, как по спине у него снова поползли мурашки.
«Тучи сгущаются, – мысленно повторял он. – Сгущаются у меня над головой, то есть, вернее, над суперкомпьютером, но это то же самое… Нужно что-то делать. Пора уже разогнать в конце концов эти тучи, прояснить ситуацию, а если потребуется – войти для этой цели и в самый центр циклона, в самую гущу событий; ведь в центре циклона, кажется, туч никогда не бывает?» Окончательно уяснив серьезность положения, он тряхнул головой и решительными шагами направился к кабинету шефа.
Кабинет признаков жизни не подавал – в том смысле, что все внутри было так, как Фома оставил утром: не было профессорских окурков в пепельнице, не было и брошенной на стол газеты «Бессмысленный труд». Фома включил компьютер, набрал адрес страницы, куда поместил статью «Общая теория Института», и устремил взгляд на монитор.
Статья все еще была там; он прочел ее наспех по диагонали, чтобы припомнить ход рассуждений. Ощущение было довольно странным – Фома сам удивлялся тому, что писал полгода назад, хотя и без сомнения распознавал и тогдашний ход своих мыслей, и всю логику текста. Он словно возвращался в какое-то давно прошедшее, но не совсем забытое состояние, когда мир выглядел простым и ясным, и казалось, что еще чуть-чуть – и все тайны будут раскрыты… И вдруг Фома обнаружил, что последняя часть ему абсолютно незнакома. Ни заглавие – «Институт как вычислительная система», – ни содержание не будили в нем никаких воспоминаний. Походило на то, будто их добавил к статье совершенно иной человек.
«Кто это в файлах моих ковырялся? – спрашивал себя озадаченный Фома. – Может, из органов, или, не дай Бог, страхователи? Но их-то что в моей тупоумной статье заинтересует?»
Все было настолько неясно, что он отбросил догадки и принялся читать текст.
«От всех мыслимых вычислительных систем, когда-либо реализованных в мире, Институт отличают две черты.
Во-первых, это – почти абсолютная оторванность кратковременной памяти от долговременной. Если принять за долговременную память ИХСТБ диссертации и протоколы научных советов, а за кратковременную – пустую трепотню в барах и кафе, то это выглядит совершенно очевидным. Информационные кванты кратковременной памяти почти никоим образом не отпечатываются в долговременной. Из-за этого последняя превращается в совершенно не связанную с настоящим моментом каноническую историю, а первая абсолютно лишается каких-либо корней, теряет какую бы то ни было инертность и консервативность и начинает бешено колебаться при любой сколь угодно малой перемене внешнего информационного поля…»
«Уж не Ивайло ли это написал? – пришло в голову Фоме. – Про бары и научные советы это его, вроде, идея была…»
Фома поднял телефон и набрал номер своего коллеги, но там никто не отвечал, и он вернулся назад к статье на экране.
«…Во-вторых, огромная часть информационных рецепторов Института обращена не к внешнему миру, а к самому себе, непосредственно к инфопотокам его внутренних переживаний. ИХСТБ – это бесконечно интровертный, углубленный в себя сверхразум. Любой попавший в него из внешнего информационного поля квант претерпевает немыслимое число внутренних отражений и трансформаций, проходит через неисчислимые положительные и отрицательные и обратные связи, давая начало в конечном счете целой лавине дочерних информационных квантов, мутируя иногда до полной неузнаваемости. Результат этих «мыслительных» процессов ни с чем из внешнего мира не соотносится – потому что информации ИХСТБ не излучает, если не считать поток отчетов, обещаний и лозунгов, а также услуг, оказываемых по страховой линии «Ятагану», за которые однако отвечают лишь отдельные звенья, крайне автономные и оперирующие по чисто формальным показателям. Огромная часть ресурсов Института занята поддержанием именно информационных потоков в его скрытых слоях, в основном, – в его неформально-кафешной компоненте, или, другими словами, – его «внутренней жизнью», сверхбогатой, сверхзакрытой, полностью автономной и, вместе с тем, бесконечно неустойчивой, не связанной ни с какой историей и лишенной всякой инертности и чувства цели и направления.
Внешняя информация обрабатывается сверхразумом ИХСТБ исключительно в цепях кратковременной памяти, причем обрабатывается параллельно и, что самое важное, – бесструктурно. Не существует вычислительных цепей и обратных связей, общих для всех инфоквантов, не существует даже и общей логики. Каждый квант рассеивается по всему вычислительному пространству (т.е. по всем служащим, которые являются информационными клетками Института); в различных точках этого пространства он резонирует и проявляет себя, главным образом, в виде дочерних инфопотоков – и так создает все множество локальных окружений и логических систем, которые, однако, готовы самоликвидироваться при первом же повороте генеральной линии внешнего инфопотока. Превратить какое-либо из этих окружений в устойчивую вычислительную структуру невозможно из-за блокировки долговременной памяти. Последней, лишенной связи с мыслительными процессами, остается лишь быть манипулируемой извне, по страховой линии, что в сущности и делается, но это не оказывает никакого осязаемого влияния на «внутреннюю жизнь» Института.
Но такая система незаменима для целей информационного моделирования. В самом деле, в ней реализуются всевозможные ассоциативные ряды, всевозможные локальные конфигурации инфоквантов – ведь отсутствуют ограничения со стороны долговременной памяти в виде самоцензуры и канонических рефлекторных цепей.