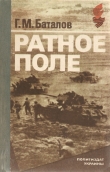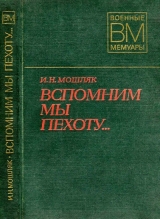
Текст книги "Вспомним мы пехоту..."
Автор книги: Иван Мошляк
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Иван Мошляк
ВСПОМНИМ МЫ ПЕХОТУ


УРОКИ ЮНОСТИ
Когда вспоминаю я далекие годы моего детства, вижу прежде всего бескрайнюю, ровную, пеструю от обильного разнотравья алтайскую степь. В то время была она полудикая, нераспаханная. Бродили по ней кабарги и лисицы-огневки, козули и волки, а в небе парил орел, высматривая добычу. Более полувека минуло с той поры, но и по сей день живет во мне полученное в детстве впечатление необъятности мира, необыкновенной, дух захватывающей просторности неба и земли. От края и до края совершенно чистая, не загроможденная ни строениями, ни линиями высоковольтных передач и никакими другими творениями рук человеческих, степь представлялась мне явлением величественным, вечным и незыблемым, над которым люди не властны. Да и не часто, бывало, повстречаешь в степи людей. Поселения располагались редко. От моего родного села Родино ближайшее село находилось в двадцати пяти километрах, а до ближайшего городка Славгород было сто двадцать километров. Подводой до него приходилось добираться два дня, а то и все три-четыре, смотря в какое время года отправишься в путь.
Земля тут была жирная – чернозем. Пшеницу родила не хуже кубанской. Осваивать дикую степь украинские переселенцы начали еще в прошлом веке. С Украины приехали в алтайские степи и мои предки. Села здесь внешне выглядели так же, как на Украине, – белые хаты. Только не было пирамидальных тополей да вишневых садов – не приживались они в суровом сибирском климате. Если летом держалась обжигающая сухая жара, то зимой стояли морозы в тридцать-сорок градусов. А то затянет небо темной хмарью и зарядит пурга на неделю, да такая, что носа из дому не высунуть, или подует легкий, ровный ветерок, по-местному – хиус. Коварная это штука. Поднимается он обычно в ясные морозные дни. Выйдешь из тепла – и вроде бы не замечаешь его: так, сквознячком потягивает. Потом чувствуешь – лицо начинает деревенеть. Вовремя не спохватишься, не ототрешь щеки снегом, считай – обморозился.
Натопить хату – тоже задача нелегкая. Лесов поблизости не было, а значит, не было и дров. На топливо шел кизяк – коровий да конский помет. Печи у нас клали русские, с лежанкой, так, чтобы сразу можно было обогреть весь дом. Кизяку требовалось много. Хорошо было тем, у кого скотины полный двор. А кто имел одну коровенку, тому и тепла негде взять. Малоимущему, бедному крестьянину всюду было трудно. Жизнь к нему почти всегда оборачивалась теневой стороной, а если при этом еще и природа была неласкова, то уж и вовсе не видел он светлых дней.
В такой вот бедняцкой семье в 1910 году родился и я. С той поры, как помню себя, семья наша не вылезала из нужды. С детства слышал я разговоры родителей о куске хлеба. Отец мой, Никон Кириллович, имел земельный надел, но обрабатывать его не мог. От болезней и бескормицы пала лошадь. Отец часто вспоминал Гнедую и горевал о ней, как о близком друге. На покупку другой лошади не хватало средств. Надел пришлось сдать в аренду соседу, мужику справному и прижимистому. На лето отец нанимался к «обществу» в пастухи. Занятие это было ему не по душе. В те времена пастушеское ремесло считалось последним делом. В пастухи шел уже совсем неимущий человек. Конечно, от пастуха зависел нагул скота. Поэтому к пренебрежительному отношению прибавлялось сочувствие: пастуха жалели, совали ему сверх платы краюху хлеба или кусок сала, чтобы «помнил добро».
Отец же мой был человек гордый, с чувством собственного достоинства. С памп, детьми, – суров, но справедлив и отходчив во гневе. Знал он лучшие времена и мир посмотрел. Служил в русской армии, участвовал в русско-японской войне, имел четыре Георгиевских креста – полный кавалер. И вот полному георгиевскому кавалеру приходилось из лета в лето «крутить коровам хвосты». Но в те времена заслуги перед отечеством не ставились ни во что, коли за душой у тебя не было ни гроша. Местный богатей Бескоровайный в войнах не участвовал, всю жизнь занимался умножением собственного богатства, но урядник и наезжавший иногда становой пристав здоровались с ним за руку и его, а не моего отца-пастуха почитали «истинным сыном отечества».
Все же пастушескую должность отец оставить не мог, потому что пастушеский доход давал возможность семье существовать, хотя и впроголодь.
Я до сих пор помню аппетитный солодовый запах хлеба, когда мать, достав из печи свежеиспеченный каравай, прижав его к груди и держа нож острием к себе, начинала отрезать толстые, мягкие, дышащие паром ломти, а мы, дети – я, два брата и две сестры, – сидели вокруг стола и следили за каждым ее движением. Рот мой наполнялся горьковатой слюной, которую я поминутно сглатывал. Мы не знали ни пряников, ни конфет, ни фруктов, поэтому ничего вкуснее свежеиспеченного хлеба для нас не было. Перед каждым из нас отец клал по большому ломтю, и мы в ожидании, пока мать поставит на стол большую деревянную миску постных щей или овсяной похлебки, подгоняемые голодным нетерпением, отщипывали каждый от своего ломтя по крошечному кусочку, отправляли в рот и долго-долго, до ощущения сладости, жевали. Потом деревянными ложками из общей миски начинали черпать горячую похлебку и, чтобы не пролить ни капли, пока несем ложку ко рту, подставляли под нее ломоть. Он пропитывался похлебкой и оттого казался нам еще вкуснее. Покончив с обедом, мы тщательно собирали хлебные крошки, лепили из них шарик и, стараясь продлить удовольствие, опять долго-долго пережевывали.
То, что привилось в детстве, остается на всю жизнь. И по сей день запах свежего хлеба, сам вид его вызывают у меня чувство, похожее на благоговение…
Суровость природы, самих условий жизни вырабатывала в людях независимость, трезвость ума, решительность, смелость, трудолюбие, способность ответственно относиться к любому делу. Такими чертами характера обладали мой отец и мать, прививали они их и нам, детям.
Летом 1918 года, после мятежа белочехов, отец ушел с отрядом красных партизан. Все заботы о пропитании семьи легли на мать и сестру. Когда наступила пора уборки хлеба, они нанялись к Бескоровайному на жатву. Вечером, накануне начала работ, мать позвала меня с улицы в хату, сняла со стены серп размером поменьше обычного, подала мне и сказала:
– Пойдешь, сынок, завтра со мной. Пора учиться жать, ты уже большенький.
Шел мне в ту пору восьмой год.
В нашем селе была школа. Мать очень хотела, чтобы я выучился на «фершала». Для нее, испытавшей всю горечь скудного полуголодного существования, непереносима была мысль о том, что и мне в жизни выпадет та же батрацкая доля. Сестра пошла в школу поздно (считалось, что женщине образование ни к чему), Только к четырнадцати годам окончила она первый класс. Осенью восемнадцатого года сестра отвела меня в школу, вооружив единственным учебником – своим букварем, который я хорошо знал: предыдущей зимой с помощью сестры научился читать по складам.
Запомнился мне на всю жизнь мой первый учитель Михай Яковлевич Бондаренко. Человек средних лет, очень серьезный, но не строгий, он со всеми был ровен, внимателен, мягок. Сколько любви и терпения проявлял он к каждому из своих учеников! От этого человека я впервые узнал, что Земля – планета, одна из многих, что она имеет форму шара и вращается вокруг своей осп и вокруг Солнца, благодаря чему происходит смена дня и ночи, а также смена времен года. Я узнал про далекие материки и страны, про то, что существуют люди с черным цветом кожи, про извержения вулканов и землетрясения, про огромные пароходы и многолюдные города. От Михая Яковлевича узнал я, откуда «есть пошла Русская земля», о том, как пращуры наши отстаивали ее от вражеских полчищ, жизни своей не щадя. Узнал я, кто такие Александр Невский и Дмитрий Донской, Козьма Минин и Иван Федоров, Суворов и Кутузов, Степан Разин и Емельян Пугачев. Мой первый учитель рассказал мне, что такое пролетарская революция, кто такие большевики и кто такой Ленин.
Все это казалось мне так ново, так изумительно интересно, что зачастую даже естественное для мальчишки желание поозоровать на уроке отступало. Михай Яковлевич умел рассказывать, умел увлечь своих юных слушателей. Впоследствии знавал я многих учителей, встречались среди них и отличные. И все же, думается, мне повезло, что на заре жизни был у меня скромный сельский учитель Михай Яковлевич Бондаренко. Ведь даже первую настоящую книгу – «Робинзон Крузо» – прочитать мне дал именно он.
Михая Яковлевича давным-давно нет в живых. Со временем уйдут из жизни и его ученики, но не уйдет то доброе, что он воспитал в них и что они, конечно, передали своим детям…
Школа наша была преобразована в семилетку, и я ее закончил с похвальным листом. Родителей несказанно обрадовал мой успех. Мать прямо-таки расцветала, когда соседки говорили ей: «По всему видать, Порфирьевна, ученым будет сынок-то».
В тот день, когда я пришел из школы с похвальным листом, мать подарила мне новенькую сатиновую рубашку-косоворотку, а отец достал сшитые им кожаные сапоги и попросил примерить. И сапоги, и рубашка пришлись впору. Особенно обрадовали сапоги: они были первыми в моей жизни. Никогда потом ни одна обнова не доставляла мне столько удовольствия.
Отец, вернувшись с гражданской, продолжал пастушествовать. Советская власть утвердилась на селе. Жить стало легче. Но тут на нас свалилась новая беда – тяжело заболела мать. Отец возил ее по врачам, старался по мере возможности следовать их советам. Это требовало немалых средств. Пришлось продать корову, кое-какой инвентарь. Постепенно хозяйство пришло в полный упадок. И мне, окончившему с похвальным листом семилетку и мечтавшему о техникуме, пришлось опять наняться в батраки к тому же Бескоровайному (в годы учебы на лето я уже нанимался к нему на полевые работы, но тогда я жил дома, а теперь и жить перешел к хозяину).
Бескоровайный взял меня охотно. Исполнилось мне пятнадцать лет, был я паренек крепкий, жилистый, мог на горбу мешок зерна снести и не охнуть. Жизнь сделала меня смолоду выносливым, терпеливым, приучила к лишениям. Впоследствии, во время службы в Красной Армии, особенно в годы Великой Отечественной войны, наука эта мне очень пригодилась. Если, бывало, иных моих товарищей выматывали длинные переходы, бессонные ночи, голодание, холод и сырость, то я переносил все это довольно легко. Хотя должен оговориться, такой науки жизни, какую я прошел в отроческие и юношеские годы, не пожелаю современной молодежи. Ныне у нее есть способы закалять себя, не жертвуя ни здоровьем, ни чувством собственного, достоинства. Этим молодежь обязана старшему поколению, которое в жестокой борьбе отвоевало ей право на новую, прекрасную жизнь.
Бескоровайный, крупный мужчина лет пятидесяти, хозяйствовал строго. Работников держал в ежовых рукавицах. Во время пахоты по нескольку раз на дню приходил в поле, проверял глубину вспашки, осматривал лошадей – не запалены ли. Если что не по нему – следовала скорая расправа.
Как-то прошел я гон, начал поворачивать лошадей. Плуг был не задействован, то есть скользил ножами по земле, а лошади вдруг разыгрались и, вырвавшись у меняя из рук, помчались поперек поля. Откуда ни возьмись– хозяин, налетел коршуном: «Что ж это ты делаешь, безрукий дьявол, поганая твоя образина?!» Да с маху как саданет мне в ухо, я и с ног долой. Вгорячах вскочил, ну, думаю, живому не быть, а тебе, гаду, смажу еще похлеще. Смотрю, бежит за лошадьми. Я – следом. Лошадей он остановил, обнимает обеих за морды, лицо какое-то размягченное, доброе, какого я раньше у него и не видывал, и приговаривает ласково: «Ну-ну-ну, ну что вы всполошились, милые, ну успокойтесь, красавицы мои, вот вам, хлебца отведайте», и дает обеим по краюхе хлеба с солью. У меня и злость вроде прошла, и кулаки разжались. Показалось мне тогда, любил он лошадей. Потом уж понял: не вообще лошадей он любил, а своих лошадей, собственность свою.
Больше меня Бескоровайный не бил, но что касается оскорблений, тут он не стеснялся. Проспишь лишние полчаса – поднимает с руганью. Вообще поднять батрака он считал себя вправе в любое время, хоть среди ночи. «Ты себе не хозяин, я твой хозяин» – было у него любимое присловье.
Из года в год копилась в моей душе ненависть к этому человеку. Нет, пожалуй, даже не к нему, а ко всем людям такого типа, к хозяевам. Бескоровайный был лишь их воплощением.
Десять лет уже существовала Советская власть, газеты призывали к борьбе с эксплуататорами, а тут получалось, что им живется вольготнее некуда. Во мне начинало просыпаться классовое самосознание.
Мою ненависть к эксплуататорам усилило и свалившееся на нашу семью горе – умерла мать. «Мы бедные, – думал я тогда, – потому мать и умерла. Небось Бескоровайный не подохнет, он богатый».
Сумбурные, наивные мои понятия о классах и классовой борьбе вскоре сменились точными и ясными представлениями. Случилось это так.
До меня дошел слух, что в селе образовалась комсомольская ячейка. Что такое Коммунистический Союз Молодежи, я знал и раньше – в школе объясняли. Но мне казалось, что ячейки комсомола могут существовать только в больших городах. Кому придет в голову создавать ячейку в пашем глухом степном селе? Да и зачем? Комсомольцы – это молодые борцы с эксплуататорами. Комсомол нацелен на мировую революцию. А с кем бороться у нас в Родине? С Бескоровайным? Так такие, как он, пока разрешены Советской властью. Они выращивают хлеб и продают его государству. Это у меня руки на Бескоровайного чешутся, потому что он эксплуатирует меня. Но какое до того дело комсомолу? Комсомол ведет борьбу в мировом масштабе.
И вдруг новость – создана ячейка. Я узнал, что находится она в двухэтажном кирпичном здании сельсовета, принадлежавшем до революции купцу. Как-то вечером, отпросившись у хозяина якобы навестить отца, отправился в ячейку. Подошел к зданию, постоял и не посмел войти. Дело происходило ранней весной, одет я был в дырявый кожух, в латаные-перелатаные катанки, на голове – вытертый треух. Куда же в таком виде в ячейку?
Через несколько дней – дело было утром, выгребал я навоз из конюшни – подходит ко мне хозяин, хмуро так говорит:
– Оставь пока, выдь за ворота, там тебя какая-то власть требует.
Бросил я вилы, вышел. Мне навстречу шагнул парень в кожаной тужурке, когда-то черной, а теперь вытертой до белесого цвета. На ногах опорки, брюки дудочкой, пузырятся на коленках. Протягивает руку:
– Здорово, Ваня. Не узнаешь?
Присмотрелся: Петро Фоменко, мой одноклассник. Смешно мне стало: вот так власть! Всю жизнь Фоменки, как и мы, Мошляки, с хлеба на квас перебивались.
Поздоровались. Говорю, посмеиваясь:
– Комиссаришь, что ли, кожанку-то одел?
– Вроде того, – отвечает, – секретарь комячейки.
Должно быть, он заметил, что я остолбенел от удивления, поэтому спросил:
– Ты чего, не веришь? Вот чудак! Кому же, как не нам с тобой, и состоять в комсомоле! Вот пришел звать к нам. Все же ты семилетку кончил. Опять же батрак, эксплуатируемый класс.
– Погоди, – говорю я, а в горле пересохло, и голос, чувствую, у меня чужой, хрипловатый, – значит, и я в комсомол могу вступить?
– Вот чудак, – смеется Петро, – так комсомол и создан для таких, как ты. Пошли в ячейку, чего мы на улице-то говорить будем.
Я не знал, на что и решиться. Отпрашиваться у хозяина – пустой помер, не пустит, дело, скажет, на безделье меняешь. Почувствовал Петро мое колебание, подтолкнул в спину:
– Пошли. Кровососа своего не бойся, пусть только гавкнет, мы его живо приструним. Я же еще селькор, в губернской газете печатаюсь. Он, волкодав, меня знает и слова тебе не скажет, ручаюсь.
В помещении ячейки, тесной, прокуренной комнатушке с длинным столом и скамейками по обе его стороны, нас ждали большинство комсомольцев села – семь человек. С некоторыми из них я учился в школе, других просто знал в лицо. Поздоровался с каждым за руку, сел. Попросили рассказать о моей жизни, о том, что думаю насчет политического момента и вообще о классовой борьбе. Сперва говорил я робко, запинаясь, но слушали меня внимательно, сочувственно. А под конец так разошелся, точно на митинге, и так изложил свое понимание классовой борьбы, как борьбы с бескоровайными в мировом масштабе, что меня тут же единогласно приняли в члены Коммунистического Союза Молодежи. Было это в 1929 году.
После собрания Фоменко дал мне почитать кое-какие брошюры. Из них я впервые узнал о марксистской теории классовой борьбы. Брошюры эти пьянили меня, открывали поразительные вещи: я, батрак из глухого алтайского села, состою в рядах борцов за социальную справедливость, являюсь орудием социального прогресса, личностью, которая плечом к плечу с другими такими же эксплуатируемыми делает историю человечества.
Кстати, более всего в истинности этих положений меня убедило поведение хозяина. Когда поздно вечером я заявился домой, Бескоровайный против обыкновения не только не обругал меня, но даже слова упрека не сказал, лишь посмотрел мрачно, исподлобья и отвел глаза.
С того дня я уже перестал быть безответным батраком. Я был не один, за мною стояли товарищи по ячейке. Это обстоятельство сразу отразилось на отношении хозяина ко мне. Грубая ругань прекратилась, а право отказываться от лишней работы я взял сам. Бескоровайный злился, но терпел. Считал меня работником выгодным – о повышении оплаты я не заикался, к тому же любил лошадей, да и они ко мне привыкли.
Петро Фоменко направили на работу в уездный комитет комсомола, а вскоре его избрали секретарем уездного комитета. Как-то в середине осени приехал он к нам на собрание ячейки. После собрания попросил меня остаться. Уселись за столом друг против друга.
– Все батрачишь? – спросил Петро.
– Батрачу.
– Дохлое это дело, Ваня. Понимаешь, никакого будущего не сулит. А бедняцкой молодежи теперь все пути открыты.
– Так куда денешься – семья.
– Что семья… Братья уж самостоятельные, сестры тоже, отец работает. Тут, понимаешь, такое дело… Объявлен набор комсомольцев в Красную Армию. Дело, конечно, добровольное. Но и берут не всякого, а по рекомендации уездкома. Ребята нужны крепкие, международное положение – сам знаешь… Ты парень, по-моему, подходящий. Сознательный, водкой не балуешься, силой не обижен. – Он улыбнулся. – Ручищи вон – возьмешь врага за глотку, тут ему и карачун. В общем, – Петро опять посерьезнел, – советую идти в армию добровольцем.
Предложение было неожиданным. Конечно, в Красной Армии службу проходить все равно придется. Но сейчас добровольно, с комсомольской путевкой. Доверие товарищи оказывают, дело почетное.
– Дай срок, Петро, с отцом посоветоваться надо.
– Ладно, на раздумья тебе – два дня. Надумаешь – приезжай в уездком, дадим направление, характеристику, и валяй в военкомат.
Отец мое желание пойти добровольцем в Красную Армию одобрил:
– И то, хлопец. Что тебе всю жизнь, что ли, на кулаков хребет гнуть? Послужи трудовому народу.
Через день я был в уездкоме у Фоменко. Он выдал нужные бумаги, и я отправился в военкомат. Там работали двое друзей по комсомольской ячейке. С их помощью быстро оформил документы и пошел на прием к военкому. Он поздравил меня, сообщил, что буду служить в пехоте. Через неделю мне предстояло явиться на сборный пункт.
Радостно и легко стало на душе. Вот и кончилось мое четырехлетнее батрачество у Бескоровайного. Круто поворачивалась моя судьба, жизнь выводила на большую дорогу. «Буду красноармейцем, защитником завоеваний революции – должность у нас в стране почетная. Оружие, которое мне доверят, будет направлено против бескоровайных в мировом масштабе. Уж я-то их знаю, на своей шкуре испытал, каковы они, эксплуататоры, и, в случае если придется стрелять по ним, не промахнусь», – так думал я, возвращаясь в уездный комитет комсомола.
Петро, узнав, что я принят, обнял меня и, сияя улыбкой, сказал:
– Ну, Ваня, желаю дослужиться до комдива. А что? Очень даже возможное дело! Ты парень гвоздь!
Вспомнились мне его слова много лет спустя, весной 1943 года, когда, будучи в звании полковника, я вступил в командование 62-й гвардейской стрелковой дивизией…
Через неделю вместе с несколькими односельчанами-призывниками я прибыл на сборный пункт. Съехалось нас со всей округи около сотни человек. Подтянутый военный с четырьмя треугольниками в петлицах стал выкликать фамилии – распределять новобранцев по командам. Тут мне пришлось расстаться с односельчанами. Оказавшись среди незнакомых людей, я почувствовал себя как-то неуютно, однако старался бодриться.
Вечером нашу команду на подводах отправили в город Славгород. Добирались мы туда двое суток. Выгрузились около станции. Впервые на девятнадцатом году жизни увидел я город, железную дорогу, товарный состав с пыхтящим паровозом. Нас посадили в теплушки и повезли в Ачинск. Монотонно стучали колеса вагона. Я сидел на парах и чувствовал, как от этого стука тоскливо сжимается сердце.
С каждой минутой я все дальше удалялся от родного села, от семьи, от друзей, от могилы матери, от уклада жизни, к которому привык с детских лет и который был мне так понятен и близок. Тоска по тому, что я покинул, страх перед новым, неизвестным вызывали во мне почти физическую боль, выжимали слезы из глаз. Думалось:
«Может, напрасно покинул я родное село? Что ожидает меня впереди? Какие испытания? Военная служба – дело не шуточное. Она требует собранности, мужества, сноровки. А коли в бой придется пойти, под пули? Хватит ли сил побороть страх смерти, не броситься наутек?..» Тут я представил себе моего бывшего хозяина, целящегося в меня из окопа, и страх мой как рукой сняло, тоска начала отпускать сердце. Появилась бодрость, сознание нужности предпринятого мною шага.
Заснул я лишь за полночь. Но выспаться не удалось – вскоре поезд прибыл в Ачинск.
– Выходи из вагонов! – послышался зычный голос.
Мы очутились на высокой товарной платформе. В темноте угадывались приземистые длинные пакгаузы. Раздались команды: «Становись!», «Равняйсь!», «На пра-а-во! Шаго-ом – марш!».
Колонна наша миновала железнодорожные пути и свернула в поле, в сторону от города. Вскоре с нами поравнялся командир с четырьмя треугольниками в петлицах, знакомый нам еще по сборному пункту.
– Куда это мы идем, товарищ командир? – всполошено спросил парень, шагавший впереди меня.
Командир внимательно посмотрел на него и заговорил спокойно, размеренно, как равный с равными:
– Вот что, ребята, раз и навсегда запомните: таких вопросов задавать нельзя. Боец Красной Армии должен точно и четко выполнять приказы и команды, а куда его ведут – про то обязан знать только командир. Есть такая штука – военная тайна. Слышали?
– Ага, – отозвался парень.
– Не ага, а так точно, товарищ командир.
– Так точно…
– Ну вот и хорошо. А теперь помолчите, потому что разговаривать в строю не положено.
Так началась для нас, новобранцев, военная служба.