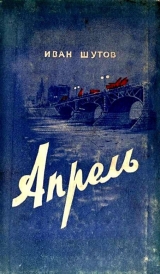
Текст книги "Апрель"
Автор книги: Иван Шутов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Лаубе решил переждать, пока Гельм исчезнет с глаз. Но трубочист плелся через двор так неторопливо, точно был не трубочистом, а бездельником рантье.
«Но ведь не на прогулку же он идет, черт побери! Или он задумал мешать мне пить?» – бесился Лаубе.
На плече Гельма висела веревка с чугунным шаром и стальной прут, согнутый в круг. Трубочист не спешил, как бывало, незаметно прошмыгнуть через двор. Увидев Лаубе, он усмехнулся, подошел к столику, положил на него плохо отмытую руку. Насмешливо прищурив глаза, фамильярно и снисходительно кивнул Лаубе.
– Стакан вина, хозяин! – произнес Гельм. – И поскорее! Я тороплюсь.
Сдерживая возмущение, Лаубе ответил трубочисту спокойно:
– Вино стоит денег.
– Кстати, вы мне должны, – сказал Гельм.
Лаубе иронически скривил губы:
– Не помните, Гельм, сколько?
– Слишком много, чтобы запомнить.
Порывшись в кармане, Лаубе достал монету в пять грошей, и бросил ее на стол:
– Хватит?
Гельм презрительно хмыкнул:
– Цена капли вина. Вы мне больше должны.
– Не больше, чем любому нищему. Запомните это.
– Больше! – Гельм пристукнул ладонью по столу. – Я не нищий. Вы не расплатитесь со мной и всем своим винным погребом.
Лаубе решил держаться в рамках презрительной вежливости.
– Что за дурацкая манера считать всех своими должниками!
– Не всех, а вас. Вот за это, – трубочист указал на пустой рукав.
– Я вам дам совет, – ехидно улыбнулся Лаубе. – Пока русские не оставили Вену, ищите среди них того, кто лишил вас руки, и потребуйте с него компенсацию.
– Это Сталинград!
– Ну и требуйте у него! – взъярился Лаубе. – Почему Вена должна поить вас своим вином?
– Вы пытались сломить Сталинград моими руками.
– Я? – Лаубе изобразил на лице удивление. – Я?!
– Да, вы, акционер одной известной компании. И вот видите… я остался без руки.
– Жаль, очень жаль! – Лаубе развел руками. – Я очень сожалею, Гельм.
– Вы жалеете, что я не лишился головы? Вам было бы спокойнее?
– Вы слишком большого мнения о своей голове. Какое беспокойство от пустой головы?
– Нет! Моя голова кое-чем начинена. Да… Я много думаю о вас и вам подобных людях, которые своими делами вызывают в мире войну, а когда она начинается, не идут на поля сражений, а прячутся за спинами таких, как я и мои товарищи. Вы разрешаете нам время от времени умирать на войне, лишаться рук и ног…
– Браво! Браво! – Лаубе два раза хлопнул в ладоши. – Вам, Гельм, следует выступать на митингах. Кое-кто теперь нуждается в болтунах о вечном мире. Вы на этом смогли бы подработать больше, чем на чистке труб. Кто на крыше может слушать вас? Только вороны. А по улицам теперь слоняется много бездельников, и им…
– Молчать! – спокойно проговорил Гельм. – Вас надо уничтожить, Лаубе! Вы – вредный микроб старой страшной болезни. Однако хватит разговоров. Иоганн, дай мне стаканчик, я сам налью себе, не дожидаясь приглашения хозяина.
– Дай ему стакан, – процедил сквозь зубы Лаубе. – Дай, и пусть пьет.
Гельм наполнил стакан, посмотрел вино на свет. Лаубе еле сдержался, чтобы не выбить стакан из руки трубочиста. Откуда взялись эти барские замашки у нищего? И как он пьет!
– Вы плохого мнения о моей голове, – сказал Гельм, поставив пустой стакан на стол и вытерев ладонью губы. – Она заполнена адресами многих ваших друзей и знакомых, которые, как и вы, решили пока жить тихо. Вы делаете вид, что не знаете их. До поры до времени, конечно. Вы не так одиноки, Лаубе, как прикидываетесь. Я знаю… Я ведь вхожу в дома свободно, как черный патер.
Гельм снова налил в стакан вина.
– Пейте поскорее, Гельм, – раздраженно проговорил Лаубе. – Пейте.
– Я пью за то, чтобы вашей шайке не удалось начать свои дела снова и лишить еще кое-кого рук.
– Пейте и избавьте меня от ваших речей. Их ждут вороны на крышах. Они радостно встретят своего Цицерона.
– На сегодня довольно! – Гельм стукнул донышком стакана по столу. – Не забывайте, Лаубе, что я теперь существую для того, чтобы постоянно напоминать вам о вашем преступлении.
– Идите своей дорогой!
– Я иду. Своей дорогой.
Гельм положил на стол пять шиллингов и неторопливо вышел со двора. Лаубе бросил в угол стакан, из которого пил трубочист.
– Наглая скотина!
…Настроение у Лаубе было испорчено. Пить ему уже не хотелось. Раздражение усилила зазвучавшая из окна на третьем этаже песенка. Пела двадцатилетняя Рози – бойкая и неутомимая работница Райтеров. Она недавно приехала в Вену. Лаубе представил себе стройные и сильные ноги девушки, затянутые в шерстяные красные чулки. Эти ноги носили крепкое, здоровое тело деревенской красавицы. «Хороша, как молодая кобылица, – думал Лаубе, глядя на часто проходившую по двору Рози. – Из нее могла бы выработаться для цирка прекрасная дама-борец».
Рози была равнодушна к вниманию хозяина дома. Она вежливо ему кланялась, желала доброго утра или вечера. Однажды Лаубе остановил ее и предложил «поскучать» с ним. Рози громко рассмеялась:
– Вы большой шутник, господин хозяин. У меня нет времени для скуки. – И ушла, соблазнительно покачивая бедрами.
Досадливо морщась, Лаубе слушал пение Рози:
Ласточки летят в родные горы,
Ласточки летят, не зная горя.
С ласточками мне бы улететь,
А могу им только вслед глядеть.
И под эту песенку старуха с бесстрастным, как у иконы, лицом вкатила во двор коляску на велосипедных колесах. В ней лежал человек. За коляской шофер такси нес чемоданы.
Старуха при каждом шаге, словно лошадь, поматывала головой, а перо на ее шляпе, казалось, хотело оторваться и улететь. Запах нафталина распространился по двору. Лаубе с большим интересом смотрел на старуху.
Что за бабушка времен англо-бурской войны? В каком музее так прекрасно сохранилась? И кого она везет? Больного сына, внука? Ведь здесь нет ни врачей, ни торгующих чудесными снадобьями шарлатанов. Не нищие ли это, странствующие по дворам?
Но человек в коляске не похож на нищего. Из-под светлой шляпы выбиваются пряди львиной гривы, какую носят представители богемы. Тонкие руки лежат на коленях, прикрытых пледом. Лицо его бледно, губы бескровны, и только глаза полны жизни и глядят молодо.
Пораженный Лаубе поднялся со стула, шагнул навстречу коляске. Да ведь это глаза Лео Катчинского, прославленного музыканта, в которого в апреле давно отшумевшего года влюбилась первая венская красавица Фанни Винклер!
«Да полно, Катчинский ли это?» – усомнился Лаубе. Возвращение пианиста представлялось ему совершенно иначе. Катчинский должен был войти во двор высокий и стройный, с гордо, как в прежнее время, поднятой головой, в легком весеннем пальто, в блестящих башмаках на толстой подошве, под руку с золотоволосой красавицей, улыбающейся чудесно и молодо. Шофер с чемоданом, пестрым от гостиничных наклеек, был бы обязателен при этом. Но эта старуха, нелепое перо на ее шляпе, эта коляска…
Шофер поставил чемоданы, поклонился и ушел. И Лаубе почувствовал, что он обязан что-то сказать и вспомнить, о чем-то спросить.
– Здравствуйте, Лаубе! – тихо произнес лежащий в коляске человек с глазами Катчинского.
– Маэстро Катчинский! Вы ли это? – проговорил изумленный Лаубе.
– Да, это я. Возвратился на родину. – Катчинский улыбнулся легко и радостно. – Ваш старый жилец.
– Я очень рад, – пробормотал Лаубе.
– Полно. Рады ли вы тому, что я возвратился калекой?
«Калека, – подумал Лаубе. – Еще один калека в моем доме».
Взгляд его остановился на руках Катчинского. Как беспомощно и жалко выглядели они! Воск свечей, заупокойная месса, звон погребального колокола представились Лаубе при взгляде на эти руки. Пальцы их так исхудали, стали такими тонкими! На них не было ни обручального кольца, ни перстня с рубином – подарка Фанни. Значит, музыкант Катчинский кончился…
Лаубе взял руку Катчинского, подержал ее в своей. Он почти не чувствовал ее, до того она была легка.
Звон стекла и громкие рыдания заставили Лаубе оглянуться. Посредине двора стоял хаусмейстер Иоганн. Лицо его было искажено болью, слезы обильно текли по морщинистым щекам. Он порывался что-то сказать – и не мог. Обойдя осколки, он направился к коляске и, став перед Катчинским, низко опустил голову. Он молчал, неловкий, дрожащий, но искренний в своей печали. Горестное молчание старика сказало Катчинскому больше самых горячих слов. Глаза его стали влажными.
– Не надо, Иоганн, – тихо проговорил он. – Не я один такой. Я рад тебя видеть.
– Что же это? Что? – простонал старик. – Неужели война… и вас не пощадила?
– Да, Иоганн.
Хаусмейстер ушел, согбенный и, казалось, еще более постаревший. Плечи его подрагивали.
Некоторое время Катчинский и Лаубе молчали. Катчинский – взволнованный проявлением искреннего горя, Лаубе – стараясь собраться с мыслями и решить, что сказать Катчинскому, о чем спросить его.
– Я предлагаю выпить за ваш приезд, маэстро, – наконец проговорил Лаубе.
– Хорошо, – ответил Катчинский. – За мой приезд.
Лаубе обошел осколки стекла и, пробормотав по адресу Иоганна: «Старый сентиментальный осел», – спустился в подвал. Здесь, в прохладной темноте, у бочек, пахнущих пряно и горько, он оценил все преимущества возвращения Катчинского. Дрожащими руками нащупал в связке ключей крохотный ключик и, удовлетворенно улыбнувшись, подумал: «Об этом пока ни слова. Проявим участие и заботу. Но где же красавица Фанни, которой вскружил голову Катчинский. Она, конечно, бросила беспомощного музыканта. Ей ли, королеве балов, толкать коляску калеки, ухаживать за ним, подавать лекарства, беседовать с врачами, выслушивать жалобы больного… Таковы женщины… Но что же случилось с Катчинским? Что так беспощадно изломало его? Он одинок и беспомощен, убит горем. Нужно помочь ему, окружить его заботой и вниманием. Не старая ворона, а хорошенькая горничная должна ухаживать за ним. Я предоставлю ему врачей и отличное питание, цветы каждое утро. Он стоит этого…»
Щурясь от яркого солнца, Лаубе поставил на стол две бутылки вина. Старуха в архаической шляпе внесла в квартиру чемоданы, открыла окно во двор. Лаубе видел ее, бесшумно двигающуюся по комнате.
– Выпейте, маэстро! – Лаубе наполнил стакан, подал Катчинскому.
Тот взял, хотел поднести к губам, но стакан выскользнул из руки и звонкими осколками рассыпался по плитам двора.
– Нет… мне, видно, больше не пить вина.
Рука его бессильно повисла.
«Сегодня часто бьется посуда, – подумал Лаубе. Неплохой знак».
– Я выпью за вас, Катчинский, за ваш приезд.
– Спасибо.
Лаубе уселся за стол, задумчиво уставился в угол двора.
– Я вспоминаю тот далекий апрель, маэстро. Чудесная была весна! Как беспощадно время! Оно разрушает многое. Все рухнуло, и я, как крыса, едва вылез из-под обломков. У меня нет ни сил, ни надежд! Но я рад вашему приезду.
– Сомневаюсь в этом, Лаубе.
– К чему сомнения? Разве у вас не было доказательств, что я не был равнодушен к вашей судьбе? Не слова горя и печали смогу предложить вам, а нечто другое. Я пью за ваше выздоровление!
– Нет, Лаубе, кажется, мне больше не быть здоровым.
– Что вы, маэстро! Мы поднимем вас на ноги. Деньги всесильны. Они способны создать чудо.
– Но у меня их нет.
– Можете располагать моими.
Катчинский долю молчал, казалось погруженный в воспоминания.
– Нет, – заговорил он, – я не нуждаюсь в вашей помощи. Вы десять лет тому назад помогли мне, но ваши деньги не принесли счастья. Золотым ключом вы открыли мне дверь Америки. И что же? Я там был мимолетной сенсацией. На меня смотрели как на диковинку. Многие приходили в концертный зал, чтобы отдать дань моде, послушать музыканта, о котором писали в газетах, что его руки так дорого стоят. Дорого стоят… – Катчинский горько улыбнулся. – В начале концерта слушателями еще владел интерес: что же дадут эти необыкновенные руки? Затем они чувствовали разочарование и досаду. Лео Катчинский, оказывается, играет не хуже и не лучше других заезжих знаменитостей. Значит, цена рук, о которой раструбили газеты, не более как рекламная уловка. О, Лео Катчинский ловко выуживает из карманов публики доллары! И этим исчерпывался интерес ко мне. Во втором отделении слушатели платили мне безразличием. Они были равнодушны к тому, как я раскрывал сокровищницу мелодий Моцарта, как владел инструментом. Они не слушали меня. Я их обманул, не дал, по их мнению, ничего экстраординарного, и они мстили мне за это: глазели на туалеты дам, скрывали зевоту в пухлых ладонях. А утром, читая в газетах отчет о концерте, скептически улыбались и думали, что их теперь не проведешь: лучше уж убить вечер в варьете, где клоун-эксцентрик исполнит Моцарта на кухонных сковородках, не рекламируя себя великим музыкантом…
«Он, видно, заболел там не только физически, – думал Лаубе, слушая Катчинского. – Моцарт не в большом почете в Америке. Это огорчает музыканта. Глупец! Не может понять, что мир живет в промежутке между двумя схватками. Моцарт – лишний».
Катчинский откинулся на подушку, закрыл глаза. Казалось, он заснул. Лаубе наполнил стакан. Журчание вина заставило Катчинского поднять голову. Глаза его блеснули болезненно ярко.
– Я бежал из Америки, этого современного Содома, бежал от наглой ее крикливости, от вульгарной пестроты, от угнетающей душу механизации. Мне там не было места… В Лондоне меня встретили лучше. Я разъезжал по стране. Но… началась война. Я не буду рассказывать подробностей… Мне тяжело… Бомба попала в наш дом. Фанни была убита, я ранен осколками в позвоночник. И вот… последствия. Лондонские друзья помогли мне возвратиться на родину…
Схватившись за голову руками, Лаубе зашатался из стороны в сторону.
– Фанни… убита бомбой? О боже!…
– Как жестоко отомстил нам ее отец! – тихо продолжал Катчинский. – Я узнал: во время владычества наци в Австрии он стал директором Рейхсбанка. Он планировал финансовые операции, питавшие войну. Он открывал сейфы, и золото плыло широкой рекой на «фау-2», на бомбы… Он убил свою дочь, искалечил меня. Будь проклято его имя и всех, кто…
Катчинский откинулся на подушку.
– Да, – проговорил Лаубе. – Старый Винклер был порядочной скотиной. Но… маэстро, что с вами? – Лаубе подошел к коляске, всмотрелся в бледное лицо Катчинского, поправил плед на ногах. Тот не шевельнулся. – Что с вами? Вам плохо?
Он позвал старуху. Вместе с нею снял Катчинского с коляски, отнес в квартиру и, уложив на диване, на цыпочках вышел во двор. Оглянувшись на окно квартиры Катчинского, Лаубе поспешил к себе. В кабинете он извлек из ящика стола небольшую шкатулку. Среди бумаг, потерявших ценность, нашел ту, которая была нужна сейчас. Десятилетие не отразилось на ней. Она была новенькой, хрустящей. «Теперь он не смог бы так четко подписаться», – подумал Лаубе, бережно укладывая бумажку в шкатулку.
А на третьем этаже, выколачивая пыль из ковра, Рози пела:
Ах, апрель, веселый месяц,
Ах, апрель!
Легкое весны дыханье,
Птичья канитель.
Ах, апрель! Цветут фиалки,
И звенит ручей.
Сердце мне отдать не жалко -
Взять его сумей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Над городом плывут перезвоны колоколов. Отголоски торжествующей меди доносятся до двора Лаубе. Колокола перекликаются под весенним небом певучими голосами и постепенно, один за другим, умолкают. В ближней кирхе начинает звучать орган. Мощный поток хорала течет по улицам полноводной рекой. На скорбной ноте орган обрывает свое пение. Колокола молчат.
Наступает не тревожимая ничем, прозрачная, как голубое апрельское небо, тишина. Быть может, в такие же тихие часы в старинном доме невдалеке от Грюнанкергассе Моцарт и написал свою «Женитьбу Фигаро». Это было два столетия назад. На высоте второго этажа на стене прибита мемориальная доска с первыми тактами моцартовского творения.
Тишина длится недолго. Снова звенят колокола, и умолкший было орган исторгает целую бурю звуков. Воскресный утренний час посвящается молитве. Улицы пусты.
Во двор выходит однорукий Гельм. Садится на скамью у зеленой от плюща стены, закуривает. Сидит он долго. Слушает пение органа, думает. Четкий стук каблучков заставляет его насторожиться. В арке ворот показывается празднично одетая Рози. В бархатной черной корсетке с зеленой шнуровкой, в красной каемчатой юбке, в зеленых чулках до колен и новых туфельках она великолепна. Тяжелые русые косы уложены на голове диадемой. В красных от непрерывной работы руках Рози держит небольшой молитвенник с перламутровым крестиком на кожаном переплете – дар благочестивой фрау Райтер.
Гельм встрепенулся, выбросил сигарету.
– Рози! – тихо позвал он.
Рози остановилась. Гельм подошел к ней.
– Здравствуйте, господин Гельм, – девушка улыбнулась.
– Здравствуй, Рози. Молиться идешь?
– Да, господин Гельм. Я тороплюсь к воскресной службе.
– Слушай, Рози, – глуховато сказал Гельм. – Богу было бы более угодно, если бы ты помогла мне сегодня привести мой угол в порядок. Мне это трудно сделать одной рукой.
В глазах Рози Гельм увидел сочувствие.
– Но ведь сегодня воскресенье, господин Гельм.
– Тем выше бог оценит твою жертву.
Рози минуту колебалась. В это время устрашающе загремел орган. Гневными, казалось идущими с самого неба, голосами он говорил о страшных муках, ожидающих грешников, предвещал катастрофу и проклинал весеннюю землю, на которой, как утверждали патеры, накопилось слишком много греха.
Рози вздрогнула, глаза ее округлились от мимолетного страха. Гельм понял тревогу девушки, взял ее за руку. В легком пожатии руки Гельма Рози почувствовала поддержку и опору. Страх исчез.
– Я понимаю, Рози, – заговорил Гельм, – ты работаешь всю неделю с утра до ночи. В воскресенье хозяйка отпустила тебя на молитву. Тебе эти часы очень дороги. Но разве доброе дело не лучше, чем пустая молитва, которую читаешь не сердцем, а только устами? Кажется, так говорят патеры в кирхах? Понимаешь, с одной рукой я не справлюсь, а помочь мне некому.
– Хорошо, – решительно сказала Рози. – Я помогу вам.
Они прошли двор и под лестницей в мансарду спустились вниз. Квартира Гельма состояла из небольшой комнаты и крохотной кухоньки.
– Бог мой! – воскликнула Рози, увидев пыль на подоконниках, черную паутину по углам. – Как вы живете в такой грязи?
– Переодеться ты сможешь в кухне, – сказал Гельм. – Там в шкафу есть халат и туфли.
Гельм принес ведро воды, достал жесткую щетку, мыло и тряпку.
Подоткнув полы халата, шлепая туфлями, Рози взялась за работу. Все пришло в движение. Повеселевший Гельм выносил грязную воду, приносил чистую, согревал ее на газовой плитке, скреб щеткой пол и разговаривал с девушкой.
– У тебя доброе сердце, Рози.
– Доброй быть лучше, чем злой.
– Ты подарила мне свой воскресный отдых. Наверно, пожалела калеку?
– Люди должны помогать друг другу. А что вы остались без руки, в этом не ваша вина.
– Конечно.
– И еще я сочувствую тем, кто одинок. Ведь я тоже одна на свете. Под Штоккерау у нас было свое хозяйство, но отец умер в феврале этого года, и все хозяйство пошло за долги. Пришлось наниматься в горничные. Жизнь очень трудна, но я не боюсь никакой работы. А вы, господин Гельм, недавно приходили к Райтерам прочищать дымоходы в кухне. На вас так много было сажи! А сегодня я вас и не узнала. У вас, оказывается, очень симпатичное лицо.
– Спасибо, Рози, – улыбнулся Гельм.
– Где вы потеряли руку?
– В Сталинграде.
– Вы, должно быть, очень не любите русских?
– Почему я должен их не любить?
– Ведь они лишили вас руки.
– Нет, Рози, руки меня лишили не русские, а шайка Лаубе.
– Лаубе? – Рози удивленно взглянула на Гельма. – Ведь он не был в этом Сталинграде!
– Ты, видно, многого еще не знаешь, Рози. У меня нет причины ненавидеть русских.
– Вы, должно быть, хороший христианин, господин Гельм, если прощаете своим врагам.
– Ну, нет, – усмехнулся Гельм. – Врагам я вовсе не намерен прощать. Но русские не враги мне. Я был их врагом, когда носил солдатскую форму и служил фюреру. Совершилось величайшее преступление – нас превратили в палачей народов. Нам говорили: «У французов белый хлеб и вино Шампани. Это несправедливо! Хлеб и вино должны принадлежать немцам. У норвежцев рыба. Русские владеют огромными пространствами на Востоке, а немцы ютятся на клочках земли в центре Европы. Это несправедливо! Фюрер призван положить конец вековой несправедливости. Он даст землю и хлеб, вино и рыбу великой германской расе…» Иначе говоря, нас призвали все это отобрать у других народов, стать разбойниками. На меня напялили мундир, мне сказали: «Ты должен сражаться за величие и честь своей страны». Что же угрожало синим горам и зеленым долинам Австрии? Я не знал. Каждый, кто не был окончательно глуп, на войне понял, что любовь к родной земле существует не только у немцев. Слова о фатерланде, за который я должен сражаться, были враньем! Я догадывался об этом еще во Франции, но понял в Сталинграде. Мы дичали и сходили с ума среди развалин города, штурмуя остатки домов, в которых укрепились русские солдаты. Целый месяц ни на один час не прекращалась битва на улицах. Глаза болели от едкого порохового дыма. Он копился в наших глотках, словно сажа в трубах…
– Боже! – тихо проговорила Рози. – Какой ужас вы пережили!
– А нас гнали все на новые и новые штурмы. За месяц наша рота пополнялась шесть раз. Пять человек, не выдержав страшного напряжения нервов, сошли с ума, двое застрелились, кое-кто ругал самыми страшными ругательствами русских за их упорство, за то, что им недоступно чувство усталости и страха. «Почему они так держатся за эти развалины? Ведь города нет, он сметен, борьба за него бессмысленна!…» Но я думал другое: «Степи и леса России! Это сыновняя любовь к вам вызвала гнев и невиданное упорство Сталинграда… Зачем я пришел сюда? Кто меня звал? Я борюсь против свободного народа, моя борьба преступна, и если я навеки лягу среди руин Сталинграда, значит меня постигла заслуженная кара». Я молил судьбу, чтобы она избавила меня от кары. Я хотел понять, кто в этом мире прав, кто виноват, и стать на сторону правых… И вот нас погнали занимать развалины большого дома. Над ними целый час кружились самолеты, сбрасывая свой страшный груз. Затем ударила артиллерия. Казалось, в развалинах не осталось ничего живого: только дым и прах. Мы пошли на штурм. От дома нас отделяло несколько шагов. И в одном из темных проломов окон, над нагромождением кирпича и согнутого железа, как пламя, вспыхнуло легкое красное полотнище. В первый момент я не понял, что это такое. Но когда оно развернулось, я увидел золотую звезду. Это было боевое знамя. Оно пламенело, как кровь всех, кто погиб за торжество революции. Полотнище было истерзано осколками. Оно полыхало над развалинами, а мы шли на него. Русские открыли огонь. Я не успел залечь. Пули раздробили мне руку. Я выронил оружие и упал, потеряв сознание… Пришел в себя в госпитале… Домой я вернулся без руки и здесь нашел людей, которые мне все объяснили…
– Как это страшно! – тихо проговорила Рози.
– Да, Рози, страшно той несправедливостью, которой мы служили. Но теперь, – голос Гельма окреп, – если мне придется выступать против истинных врагов моей родины, то только под тем знаменем, которое я видел в Сталинграде.
– Вы еще думаете воевать, господин Гельм? – удивилась Рози. – Значит, это правда, что говорит доктор Райтер: «Скоро в мире снова запахнет порохом».
– Нет, Рози, я не о той войне говорю, которую имеет в виду Райтер. Пока живы такие люди, как я, – а их много на свете! – мы будем бороться против войны всеми своими силами. За мир слишком дорого заплачено. Мы будем хранить его, как собственное сердце.
– Доктор Райтер еще говорит, что у русских нет атомной энергии.
– Нет, так будет. Но она им понадобится не для войны. А кроме того, на их стороне сочувствие таких людей, как я и ты, Рози. Ты ведь тоже не хочешь нового побоища?
– Мне даже думать об этом страшно, господин Гельм.
– Вот что, Рози, – серьезно сказал Гельм. – Не называй меня господином.
– А как же? – удивилась Рози.
– Товарищем! Товарищ Гельм. Или же товарищ Фридрих.
– Товарищ? Для меня это непривычно.
– Привыкай. Только так и должны называть друг друга люди труда. Мне говорил об этом Зепп Люстгофф.
– Кто это?
– Мой друг, Рози. Ах, что это за человек! Я горжусь им. Я хожу на собрания, где он выступает. Слушаю его, учусь у него. Я хочу быть таким, как он. Вчера я рассказал ему о своих столкновениях с Лаубе – как я ему досаждаю словами. «Ты этим ничего не достигнешь, Фридрих, – сказал он. – С ним нужно бороться иначе…» При встречах Зепп говорит мне: «Здорво, товарищ Гельм!» Это прекрасное, сердечное обращение – товарищ. И я хотел бы, чтобы и ты так же называла меня.
…Через два часа упорной работы в комнате и кухне пол стал как новый, подоконники засияли. Кухонная посуда, стулья, шкаф, стол, рамы олеографий – все, как показалось Гельму, улыбалось, испытав на себе прикосновение рук неутомимой Рози. Она мылась и переодевалась на кухне. Из-за неплотно прикрытой двери слышалось ее пение. Вдруг она громко рассмеялась.
– Фридрих, слышишь? – выкрикнула она, и оттого, что Рози так дружески и просто обратилась к нему, сердце Гельма радостно забилось.
– Да, Рози, слышу!
– Я сначала подозревала, что ты хотел меня разжалобить и заманить в ловушку. Как неопытную девчонку! Если бы это было так, то я бы тебя здорово отлупила. Я ведь сильная.
– Ну что ты, Рози! – смущенно ответил Гельм. – Я об этом и не думал.
– Я ведь вижу, как на меня посматривают и доктор Райтер и хозяин дома. Им хотелось бы обмануть меня.
– Они мерзавцы!
– Я знаю, чего они хотят. А тебе я скажу, что тому, кто полюбит меня по-настоящему, я буду хорошей подругой.
– Полюбит? Как бы это со мной не случилось, – тихо проговорил Гельм.
Рози умолкла. Из кухни она вышла чистой, нарядной, бойко постукивая каблучками туфель, прижимая к груди молитвенник. Гельм подал ей флакон одеколона.
– Ну, в кирху я окончательно опоздала, – весело проговорила Рози.
Гельм взял ее за руку:
– Спасибо, Рози. Ты поступила как настоящий товарищ. Я не справился бы с одной рукой.
– Зато у меня две руки, – улыбнулась Рози. – Я тебе всегда могу ими помочь. А что нам делать, Фридрих, с воскресным днем? Он ведь только начался…
– Сегодня, Рози, устраивается пикник. Хочешь, примем в нем участие? Будет интересная беседа. Возможно, ее проведет Зепп, и ты увидишь его. А потом повеселимся, потанцуем. Соберутся мои товарищи по заводу. С ними тебе не будет скучно.
– Хорошо, – согласилась Рози. – Пойдем к твоим товарищам. Но гулять, не отмолив грехов за целую неделю?
– Грехи? У тебя грехи? У твоей хозяйки, по-моему, их куда больше, однако она не пошла сегодня в кирху.
– С тобой мне как-то легче стало, – призналась Рози. – Не чувствую себя одинокой.
– Ты готова? Идем сейчас же. К дому через десять минут должна подойти машина. Молитвенник оставь, сегодня он тебе не понадобится.
Над городом снова стали звенеть колокола. Но Гельм и Рози не слышали их зова.
Катчинский видел эти колокола. Их тусклые бока были окраплены пятнами голубиного помета. Они пели над городом древнюю песню. Огоньки у распятия, замирающие под высокими сводами раскаты органа… «Это хорошо и свежо было в детстве, – думал Катчинский. – Теперь мое сердце не откликнется на этот призыв».
А колокола гремели под апрельским небом, взывали, и Катчинский видел Черного Карла, раскачивающего веревкой перекладину с подвешенными к ней колоколами.
Он жил в подвале каменного колодца-двора, звонарь кирхи святого Роха. В этом дворе прошло детство Катчинского.
Черный Карл был одинок и хмур. Он всегда молчал. Кажется, никто никогда не слыхал от него ни слова. Лохматый, как медведь, он по-медвежьи косолапил, когда проходил двором, торопясь в кирху или возвращаясь домой. Каждое утро с недалекой Мариахильферштрассе до двора доносились звуки колоколов. Дети говорили: «Это Карл». И Лео казалось, что в узловатой руке Черного Карла находились веревки от всех колоколов города. Звуки, круглые и блестящие, уходили к небу и таяли в нем.
Тогда на востоке и западе гремели пушки. Сын Черного Карла был на войне. Лео видел в журнале рисунок, изображающий солдатскую елку в окопах: составленные в козлы ружья, на штыке труба горниста; тонкий дымок от костра вьется к небу, а по нему, как по дорожке, с заоблачных высот спускается белый ангел. Он несет украшение для скромной солдатской елки – ярко пламенеющую звезду. А бедные солдаты, не зная об этом счастье, спят у костра, тесно прижавшись друг к другу… Рисунок привел в восхищение Лео. Ему захотелось быть вместе с солдатами, чтобы проснуться и увидеть чудо. Он завидовал им.
Однажды почтальон в синем кепи, с туго набитой кожаной сумкой нырнул в подвал. Оттуда вскоре вышел Черный Карл, гневный и страшный. Став посреди двора, он поднял к небу огромный кулак с зажатым письмом, крикнул: «Этого я тебе никогда не прощу!» По щекам старика текли крупные слезы. Его сын погиб на войне. Карл грозил кулаком богу. Это было страшно. А вечером над городом звенели колокола, и дети двора говорили: «Это Карл». И с тех пор в воображении Катчинского при звоне колоколов вставало орошенное слезами лицо Черного Карла. Ему казалось, что слезы старого звонаря стали звуками меди и взывают к небу…
Во дворе зазвучали шаги и замерли возле коляски. Катчинский раскрыл глаза и увидел Гельма и Рози. Девушка смотрела на Катчинского с почтительностью и сожалением. Гельм приподнял над головой шляпу:
– Простите, я разбудил вас. Вы спали?
– Нет, – ответил Катчинский. – У меня теперь для сна достаточно времени, но мне не спится. Я слушал музыку колоколов.
– Я вам помешал?
– Нисколько.
Гельм улыбнулся:
– Маэстро Катчинский, вы помните меня?
Катчинский внимательно всмотрелся в лицо Гельма.
– Нет, не помню.
– Конечно, это было давно. Трудно запомнить. Меня зовут Гельм. Фридрих Гельм. Я был тогда двадцатилетним мальчишкой. В заводском оркестре я играл на трубе. Дома вечерами репетировал мендельсоновский «Свадебный марш». Представляю, как вас раздражала моя музыка! Вы даже как-то велели Иоганну передать мне, чтобы я пощадил уши соседей. А если мне так уж хочется потрясать своим ревом воздух, то вы советовали отправиться в зоологический сад, где ослам и обезьянам моя музыка доставит удовольствие.
– Вы помните – значит сердитесь на меня за это? – улыбнулся Катчинский.
– Нет. Ведь это было давно. А теперь, видите, я не тот.
– И я тоже, Фридрих.
– Нас, маэстро Катчинский, теперь сроднило общее несчастье, которое принесла война.
– Да, мы с вами родственники. Вы, надеюсь, идете не в кирху?
– Нам там нечего делать, маэстро. Мы идем на массовку, которую устраивает Зепп Люстгофф. Я рассказывал ему о вас. Он просил передать вам привет. Он хорошо знал вас по довоенному времени. И писал о вас в газете.
– Зепп Люстгофф? Он музыкальный критик?
– Нет, маэстро, он старый агитатор. В статье он высказывал сожаление, что вашу музыку не слышит пролетариат. И звал вас в Флоридсдорф.








