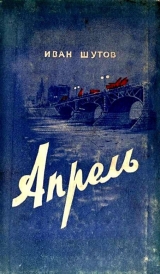
Текст книги "Апрель"
Автор книги: Иван Шутов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Но прошло немного времени, и кое-кто из этих «вождей» первым подписал клятву австрийских нацистов – хеймверовцев, – в которой обещалось покончить со всякой демократией: большевистской и «гнилой западной».
В 1934 году весть о доме Карла Маркса облетела мир. Дом штурмовали правительственные войска, по нему била артиллерия, по окнам стреляли из пулеметов. Восстание рабочих было жестоко подавлено. Во дворе одна из стен дома густо изрешечена пулями. Здесь расстреливали восставших. Это дело хеймверовцы взяли в свои руки. «Дуб свободы и демократии» обильно полит кровью рабочих.
С открытой неприязнью посматривают нынешние хозяева города на рабочие окраины. Президент Австрийской республики Карл Реннер, тот, кого правые газеты угодливо называют «дважды спаситель отечества», все еще произносит тусклые слова о вреде для рабочих классовой борьбы. Но кто ему верит сейчас? У рабочих и их представителей в парламенте всегда находятся неприятные вопросы к президенту. Почему, например, до сих пор в Австрии действует введенный еще гитлеровцами закон, предоставляющий монопольное право торговли сельскохозяйственными продуктами только картофельным, молочным, плодовым и прочим объединениям? Почему, если в воскресенье рабочий купит за городом у крестьянина два килограмма картофеля или яблок, полиция отбирает у него все это под видом борьбы со спекуляцией? Почему правительством не преследуются настоящие спекулянты? Не пора ли национализировать в пользу государства предприятия, работавшие на «третью империю»?
Да разве старый социал-соглашатель Реннер ответит на эти вопросы? Ни слова не скажет он публично о той ориентации на заокеанскую державу доллара, которой придерживается австрийское правительство, о его желании продлить англо-американскую оккупацию как можно дольше. Реннер и его присные, как огня, боятся масс. Штыки англо-американских оккупантов – единственное, что пока ограждает Реннера от неизбежного политического краха.
Старый президент в своем кабинете – бывшей спальной императрицы Марии-Терезии – договаривается с агентами Уолл-стрита о роли Австрии «в борьбе с коммунистической опасностью», дает согласие на сооружение в стране военных баз, продает кровь и жизнь своих соотечественников, лживо клянясь в своей любви к ним.
Есть в городе честные, жаждущие труда и творчества интеллигенты, есть много старательных рабочих рук. Они могли бы возродить город, поднять его к новой жизни, влить в него свежую кровь, вымести изо всех углов коричневую пыль и паутину. «Труд, только ему ты будешь обязана жизнью, Вена!» – такая надпись появилась в апреле на стене полуразрушенного дома. Но заводские трубы окраин не дымят, скучающие в кафе спортивного вида молодцы выжидают, когда их призовут удушать «красную Вену», заокеанская пленка на киноэкранах навевает образы тления, смерти, гибели.
Судьба города и страны волнует сердца простых людей, тружеников Австрии. От зоркого их взгляда не скрыть стремления новых претендентов на мировое владычество превратить страну в плацдарм для новой схватки. Они настороженны и внимательны, простые люди, и многое, происходящее в городе, вызывает у них законную тревогу. Их возмущает антисоветское направление политики правительства Реннера – Фигля и правых социалистов, выслуживающихся перед американскими хозяевами, выступающих против мероприятий советского командования. А кому, как не простым людям, эти мероприятия дают труд и хлеб, вселяют надежду, что жизнь отныне на долгие годы войдет в мирное русло. Восстановление нефтяных промыслов в Цисерсдорфе, пуск ряда предприятий – все это стало возможным лишь благодаря помощи Советской Армии.
И вот – еще один мост на Шведен-канале. Восторг и благодарность, ненависть и злобу вызвало это новое строительство в разделенной на два лагеря Вене.
Творческий труд вложили советские воины в строительство нового моста в городе. Остатки старого долго торчали из мутной воды канала, над ними с резкими криками носились чайки. Это были груды исковерканного взрывом железа. Лишь уцелевшие каменные устои напоминали о том, что тут когда-то был мост.
В марте здесь появились мостостроители Лазаревского. Подняли со дна изогнутое пролетное строение. Расклепали его, железо разрезали автогеном, выправили. Отремонтировали устои. В апреле начались монтажные работы. Венские обыватели были удивлены. Что это – обман или чудо? О скоростных стройках в Америке они слышали, но ведь мост на Шведен-канале строят не американцы! И зачем возводится мост, если строители не получат от этого никакой материальной выгоды? Строят быстро, но не американскими методами. Нет ли здесь блефа, мистификации?
Все это вызывало напряженный интерес к строительству у друзей и недоброжелателей.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В комнату вошла девушка в голубом клеенчатом переднике. Руки ее были в муке.
Младшая дочь Лазаревского, Лида, приехала на лето к отцу. Александр Игнатьевич был вдов, и дочери, Анна и Лида, вели хозяйство. Александр Игнатьевич шутя говаривал, что Лида – натура художественная, избравшая музыкальный путь, лучше хозяйничает, чем Анна – натура математическая, инженерная. Анна осталась в Москве – готовилась к государственным экзаменам.
Лида любила носить голубые и алые ленты, перехватывая ими свои пышные волосы. Нежный овал лица, подбородок, ямочки на щеках напоминали Александру Игнатьевичу черты покойной жены, а густые брови и большие серые глаза были у нее отцовские.
В будни Александр Игнатьевич и Лида обедали в офицерской столовой при комендатуре. По воскресеньям Лида готовила дома.
Дверь была полузакрыта, и Александр Игнатьевич не слышал, как дочь вошла в комнату. В мягких домашних туфлях она беззвучно двигалась по паркету.
Лида внимательно посмотрела на погруженного в работу отца и тихо, точно сожалея, что должна ему помешать, сказала:
– Папа, к тебе пришли.
Александр Игнатьевич оторвался от тетрадки:
– Кто?
– Посыльный из комендатуры. Наверно, тебя опять вызывают на заседание.
Александр Игнатьевич вышел из комнаты и через несколько минут возвратился.
– Ты права, Лидок. Зовут на заседание муниципальной секции межсоюзнической комендатуры. Мой доклад о мосте.
– Ты пообедаешь?
– Нет, Лида. Еще рано… Чувствую, придется доказывать господам союзникам, что мост на Шведен– канале не рекламный, пропагандистский трюк, как об этом поговаривает кое-кто из американцев, а то новое, до понимания чего они еще не доросли.
– Как беспокойно ты живешь здесь, папа. У тебя совсем нет свободного времени.
– Хорошо живу, Лида! Много забот, много работы. Покой – это болото, кладбище, а беспокойство, труд, борьба и есть настоящая жизнь.
Заседание началось с небольшим опозданием. Сперва решили несколько дел по городскому распорядку, затем предоставили слово Лазаревскому.
Александр Игнатьевич был очень доволен тем, что на заседании присутствовал советский комендант города, генерал-майор Карпенко. Он сидел в стороне от стола, за которым расположились представители союзного командования, откинувшись на спинку глубокого кожаного кресла, прикрыв щитком ладони глаза. Похоже было, что он дремлет. Но Александр Игнатьевич знал, что из всех присутствующих здесь генерал – самый внимательный слушатель.
Они были знакомы давно. В памятный день, когда через Днепр по только что построенному мосту густым потоком пошли на запад войска, Лазаревский стоял у переправы. Днепр больше не был преградой. Колючая проволока на правом берегу исчезла. Ветер из-за Днепра уже не приносил горечи дыма. Война уходила на запад. Тучи в небе, как корабли с парусами, полными ветра, уплывали вслед за войсками. У переправы остановилась машина. Ее пассажир, немного грузноватый, но шагающий легко, в синем комбинезоне, в генеральской фуражке, быстро подошел к Александру Игнатьевичу и, весело заглянув ему в глаза, крепко обнял его и трижды поцеловал. В комбинезоне командующий армией был похож на директора МТС степной полосы Украины: вислые усы запорожца, голый подбородок, лукавая искорка в глазах. Но имя этого «директора» крепко запомнилось гитлеровским генералам. «Поздравляю, – сказал командующий, – с высоким званием Героя Социалистического Труда. Спасибо за мост…» Поправив усы, он весело тряхнул головой и направился к машине.
Теперь они встречались часто. Работе и нуждам мостоотряда генерал уделял много времени и забот. Он был хозяином взыскательным и строгим, но щедрым, когда дело касалось наград и поощрения за хорошую работу.
То невнимание, которое проявили к докладу представители союзного командования, компенсировалось глубоким, хозяйским интересом советского коменданта города. Союзники скучали. Тучный и лысый полковник Жюльен де Ланфан, длинный и красный нос которого делал его лицо похожим на маску полишинеля, старательно рисовал что-то на листке бумаги. Стивен Хоуелл несколько раз зевнул в кулак. Представитель английского командования Джон Дир упорно смотрел в потолок, точно изучал его лепку.
Александр Игнатьевич почувствовал досаду и, стукнув костяшками пальцев по столу, умолк. Жюльен де Ланфан, встретившись со взглядом Александра Игнатьевича, смутился и скомкал бумагу.
– Продолжайте, господин инженер-майор, – вежливо проговорил председательствующий Джон Дир, стараясь придать своему лицу сосредоточенное выражение.
– В основном я все сказал, – Александр Игнатьевич закрыл записную книжку, сел. – Если что-нибудь неясно, прошу задавать вопросы.
Наступило томительное молчание. Потом Джон Дир безразлично спросил:
– Зачем вам нужно строить этот мост?
Александр Игнатьевич шевельнул бровями:
– Прежде всего мы хотим выполнить обязательства, которые взяли на себя. Господину Джону Диру известно, что союзное командование в Австрии обязалось произвести в Вене некоторые строительные работы. Англо-американская сторона должна восстановить общественные здания, советская – мосты на каналах.
– Да, но к чему такая спешка? – удивился Хоуелл. – Похоже, что вы, начав раньше союзников, стремитесь снискать популярность у местных обывателей, не считаясь с планами союзного командования. Простите меня, господин инженер-майор, но не является ли единственный возводящийся в разрушенном городе мост только крохотной заплатой на огромном рубище обветшалого города?
– Я так вас понял, – ответил Александр Игнатьевич, – что лучше было бы, если бы это строительство вовсе не существовало?
Хоуелл промолчал.
– Разрешаю себе не согласиться с мнением господина капитана Хоуелла, – продолжал Александр Игнатьевич. – Если уж сравнивать с чем-либо мост на Шведен-канале, то мне он представляется хорошим и крепким гвоздем, который вколачивается в стропила, предназначенные для восстановления города. Очередь за вами, господа, готовьте и вы такие же гвозди, употребляйте их в дело.
Александр Игнатьевич взглянул на Джона Дира. Тот воспринял этот взгляд как вызов.
– Господину майору Лазаревскому должно быть хорошо известно, что гвозди в данный момент очень нужны самой Англии, – ответил он. – Надеюсь, господин военный инженер был прекрасно осведомлен из газет о той битве над Англией, которую осуществили нацисты?
– Да, господин Джон Дир, мне это известно. Но разрешите напомнить вам, что значительная часть территории Советского Союза служила не только объектом воздушного нападения нацистов, но и местом ожесточенных боев, что Сталинград в тысячу раз больше нуждается в восстановлении, чем Лондон. Это господину Джону Диру тоже должно быть хорошо известно из газет. Я же это утверждаю как свидетель событий и их участник.
– Тем более вы должны быть экономны, – вставил Хоуелл.
– Мы экономны, но не скупы и не собираемся торговать своей помощью. Мы можем помочь тем, кто в этой помощи нуждается, и помогаем. У нас для этого достаточно средств и сил.
– Сравнение моста на Шведен-канале с заплатой, – проговорил Жюльен де Ланфан, разглаживая смятый рисунок, – мне кажется, не лишено оснований. Военные мостостроители, как известно, строители малоквалифицированные, строящие грубо и примитивно. Уместно ли такое строительство в одном из самых красивых городов Европы? Не будет ли этот мост выглядеть в самом деле грубой заплатой?
– Нет, господин полковник, – ответил Александр Игнатьевич, – не будет. Мост на Шведен-канале строится силами самых квалифицированных рабочих мостоотряда, и по проекту вы можете видеть, что он не нарушит городского ансамбля. Он зазвучит не только в тон с окружающими его зданиями и улицами, но внесет и свою ноту в общую гармонию. Каким образом будет достигнуто это созвучие? В древности считали, что каменные мосты более всего родственны городу: через реки Рима, Флоренции, Венеции и других старинных городов Европы переброшены величественные каменные мосты. А мы строим железный мост. Такие мосты отличаются некоторой сухостью формы, но решетки, парапеты, фонари смягчат эту сухость, облагородят ее. Мы создадим красивое и монументальное сооружение, рассчитанное на долгие годы.
– И все это за месяц? – удивился Жюльен де Ланфан.
Хоуелл прикрыл улыбку ладонью.
– Возможно, господин майор Лазаревский, – заговорил он после непродолжительной паузы, – является инженером, сочетающим в себе отличные американские качества: он рекордсмен, инженер, хорошо делающий свой бизнес, умеющий выжать из рабочих все, что они могут дать.
– Ни то, ни другое, ни третье, господа, – ответил Александр Игнатьевич. – Вас, господин капитан, и присутствующих здесь представителей союзного командования, очевидно, смущают скоростные методы стройки. Вам кажется, что если мост строится в предельно сжатые сроки, то работы проводятся топорно, грубо. Это – заблуждение. Принцип, которым руководствуется советский инженер, – отнюдь не стремление выжать из рабочих пот, а прежде всего – взять от техники все, что она может дать. Это же стремление характерно и для советских рабочих, которые в большинстве своем являются передовиками и новаторами социалистического производства. Обращусь к фактам. Советские мостостроители задолго до войны опрокинули традиционные нормы и пределы стройки мостов. Темпы строительства Крымского моста в Москве беспрецедентны. Монтаж моста Челси в Лондоне, по своему типу приближающегося к Крымскому, длился свыше полугода. Монтаж Питсбургского моста в Америке, речной пролет которого намного короче и уже Крымского, продолжался девять месяцев. А наши строители-стахановцы собрали огромный мост, требовавший чрезвычайно сложной и точной работы, в небывало короткий срок. Таковы факты, господа. Вся суть здесь не в бизнесе, не в потогонной системе, не в коммерции, а в новом отношении советского человека к труду. Я приведу примеры, как работает один из самых квалифицированных строителей моста – клепальщик Андрей Самоваров…
Александр Игнатьевич рассказал о методе Самоварова: о подготовке вспомогательных работ, о самой клепке, о соответствующем расположении инструментов во время работы и значительной экономии времени в результате этого.
Хоуелл внимательно слушал, делая заметки в книжке.
– У меня нет больше вопросов, – проговорил Джон Дир, когда Александр Игнатьевич умолк.
– У меня тоже, – в тон ему сказал Жюльен де Ланфан.
В открытое окно вдруг ворвались звуки музыки. Александр Игнатьевич подошел к окну, намереваясь его закрыть.
К скверу у комендатуры подкатил грузовик. На машине стояло несколько человек. Один из них, высокий и светловолосый австриец, выкрикивал в рупор призывы, другой растягивал синие мехи алого аккордеона. Это была агитационная бригада, которая проводила работу на улицах города.
Возле грузовика собралась большая толпа. Светловолосый запел под аккомпанемент аккордеона:
Лети, моя песня, до самых небес,
Как сокол, свободный от пут!
Да здравствует гений всемирных чудес -
Могучий и творческий труд!
Лети, моя песня, опять и опять,
Греми над землей, как труба!
Да здравствует жизни всесильная мать,
Владычица мира – борьба!
Греми, барабан, батальоны сзывай
На трудный, но славный поход!
С пилой и лопатой в шеренге шагай,
Все в мире создавший народ!
Вслушавшись в громко звучащие на улице слова песни, Хоуелл язвительно улыбнулся.
– Кто говорил, что австрийцам плохо живется? Они распевают серенады.
Александр Игнатьевич закрыл окно. Жюльен де Ланфан, быстро схватив мелодию, стал тихо ее мурлыкать. Джон Дир сердито взглянул на него.
– Позвольте мне задать вопрос капитану Хоуеллу, – обратился к председателю генерал Карпенко.
– Я слушаю вас, господин генерал-майор, – насторожился Хоуелл.
– Я вспоминаю ваши выступления на предыдущих заседаниях комендатуры, господин капитан, где вы горячо заверяли нашего командующего и меня в искренних ваших союзнических чувствах ко всем начинаниям советского командования. Я не намерен входить в психологические мотивы вашего противодействия строительству на Шведен-канале, но мне кажется странной неприязнь к нашей работе, направленной на то, чтобы город как можно скорее освободился от развалин. Разве не лучше будет, когда их вовсе не станет?
Хоуелл заговорил, не глядя на генерала:
– Позвольте, господин генерал, ответить мне по-солдатски прямо. Я не дипломат, поэтому не собираюсь облекать свои мысли в форму, приятную для оппонента. Ваше строительство противоречит интересам Соединенных Штатов! Почему? Да потому, господин генерал, что вы начинаете не вместе с нами, не посоветовавшись с нами, а самостоятельно, на свой риск и страх. Это не по-союзнически! Один-единственный мост в огромном полуразрушенном городе – я не буду подбирать более удобных слов – это жалкое кустарничество. Тогда как, выработав совместный план помощи Европе, мы могли бы предпринять более эффективные меры и по приведению города в благоустроенный вид. Я повторю свою мысль: начав раньше союзников, вы тем самым стремитесь снискать популярность у недальновидных обывателей, не более.
– В вашем ответе, господин капитан, – спокойно начал Карпенко, – больше темперамента, чем логики. Если бы с такой горячностью, как сейчас, вы отстаивали перед своим командованием идею посильной помощи городу, я не сомневаюсь в том, что дело было бы сдвинуто с мертвой точки. Время идет, господин капитан. Истек год, как на улицах Вены отгремели выстрелы. Мы первыми пришли в этот город, выполняя свой союзнический долг. Наши солдаты, а не ваши поливали своей кровью эти камни Мы погасили здесь пожары, зажженные боями. Поэтому мы и считаем своим моральным долгом сделать для города все, что в наших силах. Мы не возражаем против совместной работы. Мы приветствуем сотрудничество. Но мы не можем бесконечно ждать, пока вы составите планы «эффективной помощи». Пятилетний план восстановления и развития хозяйства Советского Союза вошел в действие. Мы, советские люди, живем теми темпами, что и наша страна. И действуем по своим планам. Есть хорошее советское понятие – соревнование. Мы начали – начинайте и вы. Догоняйте нас и перегоняйте: соревнование не исключает этого, а предусматривает. Мост на канале – не первый, построенный нами в Вене. И вы это прекрасно знаете, господин капитан. Мир должен ознаменоваться строительством, очищением земли от развалин войны. Человек – это строитель и созидатель, творец. Наш долг – призвать к созиданию людей, которым мы помогли освободиться от проказы фашизма, вселить в них уверенность, что мир – благо, добытое на долгие годы, подчеркиваю: годы строительства и созидания.
Хоуелл попросил слово для возражения. Сквозь стекла окон и скороговорку Хоуелла с улицы доносилась призывная песня:
Пусть мертвые мертвым приносят любовь
И плачут у старых могил.
Мы живы, кипит наша алая кровь
Огнем неистраченных сил.
Греми, барабан, батальоны сзывай
На трудный, но славный поход!
С пилой и лопатой в шеренге шагай,
Все в мире создавший народ.
«Ледоход, – думал Александр Игнатьевич. – Лед идет, а вы, господа, думаете его задержать…»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Дом по Грюнанкергассе, в котором жили Лазаревские, принадлежал Эрнсту Лаубе. Это был обычный для старого района Вены дом – трехэтажный, серый, со сводчатой аркой входа в небольшой, вымощенный известняковыми плитами двор. Здесь всегда тихо. Такие чистенькие и уютные дворы любят посещать бродячие певцы и музыканты.
У глухой стены соседнего дома, увитой плющом, приютилась, вся в диком винограде, небольшая беседка. В левом углу – окованная фигурными железными полосами дубовая дверь в подвал; над нею на ржавом кольце висит маленький бочонок, как бы напоминающий о том, что назначение подвала – хранить вино. Невдалеке от подвала вскопана земля для цветника; здесь стоят стол и два дубовых стула с вырезанными на спинках сердцами. За подвалом наружная деревянная лестница ведет в мансарду. По ее карнизу вечерами бродят огненно-глазые кошки. Мансарда запущена, там никто не живет. Над входной аркой висит железный остов фонаря с остатками позеленевших стекол. Когда этот фонарь освещал двор? Пятьдесят лет тому назад? Сто? Дом старинный, и фонарь ему ровесник.
Во двор выходит застекленная веранда квартиры Лазаревских. На потускневшей дверной табличке выгравировано имя оставившего Вену «доктора» евгеники, проповедника расовой неполноценности всех племен земного шара, кроме нордического.
В этом дворе понедельничным утром произошло никем не отмеченное событие, дальнейшее развитие которого коснулось и Лазаревских.
Вчера на имя Лаубе прибыла телеграмма, которую передал хозяину дома глухой хаусмейстер [2] [2] Хаусмейстер – дворник.
[Закрыть] Иоганн. Телеграмма была лаконична: «Выезжаю Вену Катчинский». Прочитав ее, Лаубе потер пухлые руки, усмехнулся и приказал Иоганну привести в порядок бывшую квартиру Катчинского.
Старик с полудня до вечера добросовестно выколачивал пыль из ковров и дорожек, натирал мастикой пол. Он был искренне рад возвращению старого жильца.
До войны Лаубе был крупным домовладельцем. В различных районах города ему принадлежало пятнадцать доходных домов. Кроме того, Лаубе владел десятком кабаре и варьете, среди которых «Мулен руж», «Кривой фонарь» и «Триумф» были наиболее популярны в городе. В подчинении Лаубе находился штат директоров, управляющих, доверенных. Они были посредниками между шефом и жителями его домов, съемщиками складов и магазинов, танцовщицами, акробатами и фокусниками.
Все, кто в какой-то мере зависел от Лаубе, знали, что шеф не допускает просрочки расчетов хотя бы на день. Деньги за квартиры, выручки из касс в определенное время приносили в кабинет Лаубе. Шеф лично пересчитывал все до последнего гроша и складывал в сейф, занимавший почетное место в кабинете. Затем деньги переправлялись в банк.
Лаубе был честолюбив и жаден к жизни. Он мечтал стать некоронованным королем Вены – человеком, который мог бы с полным основанием назвать себя хозяином города. К этой цели он стремился, скупая дома; жил он широко, часто устраивая у себя вечера и обеды. Неизменными их участницами были молодые актрисы из варьете и кабаре, которые не считали возможным отказать шефу в его любезной просьбе «поскучать с ним вечер».
За благосклонность Лаубе благодарил женщин. Его избранницы рекламировались и оплачивались несравненно лучше тех, на кого не падало внимание шефа.
Стены квартиры Лаубе были увешаны фотографиями молодых женщин в балетных пачках, в костюмах испанских гитан, в бальных платьях и полуобнаженных.
Десять лет назад в одном из концертных залов города выступил молодой пианист Лео Катчинский. Музыкальные авторитеты Вены прочили ему большую будущность. Однако пианист, живший в одном из домов Лаубе, заинтересовал шефа вовсе не блестящим исполнением Моцарта.
В Лео Катчинского влюбилась дочь известного венского ювелира Винклера. Отец ее, крупный богач, и слышать не хотел о браке дочери с каким-то голышом-поляком. По его мнению, красавица Фанни была достойна лучшего жениха. Того же мнения придерживался и Лаубе. Но так как Винклер был заклятым его врагом, то он решил использовать любовь Фанни к музыканту для мести. Он предложил Фанни крупную сумму под солидные проценты. Не видя иного выхода, Фанни согласилась ее принять. Винклер позднее, боясь огласки, выплатил долг дочери и проценты.
Желая покруче насолить Винклеру, Лаубе застраховал руки Катчинского в обществе «Колумбия» в двести тысяч долларов, взяв с пианиста письменное обязательство, что в случае, если тот получит когда-нибудь страховую премию, он, Лаубе, имеет право на ее половину. Это создало Катчинскому рекламу. Слушать пианиста, руки которого стоят так дорого, пожелала Америка.
Фанни и Катчинский отправились в свадебное путешествие, сопровождаемые проклятиями разгневанного Винклера. Лаубе торжествовал.
Катчинского не было в Вене десять лет. За это время многое изменилось. После аншлюсса Лаубе продал почти все свои дома и вложил капитал в акции одного предприятия, которое должно было работать на войну. Фюрер бросал вызов миру, и Лаубе жил в предвкушении огромных прибылей. Он восторгался успехами германской армии на Западе. Затем война перебросилась на Восток, долго бушевала далеко от Вены: на Украине, в донских и кубанских степях, у гор Кавказа, на берегу Волги. Лаубе казалось, что мечты его на грани осуществления. Но Сталинград сломил армию фюрера. Она стала откатываться на запад. Вена узнала, что такое затемнение, как рвутся фугаски. Кукование, доносившееся из репродуктора, – сигнал о воздушной опасности, – как вихрь, сметало все живое с улиц, заставляло укрываться в подвалы и бомбоубежища.
Гроза пробушевала здесь коротко, но ожесточенно. Лаубе остался без капитала, с единственным пригодным для эксплуатации домом на Грюнанкергассе. Внешне смиренно и почтительно он встретил победителей. Но упоминания о Сталинграде было достаточно, чтобы привести его в ярость. Он не мог слышать имени этого города. С деланным радушием он предоставил квартиру Лазаревскому и притворился, что советский офицер его больше не интересует.
Сидя за столиком у подвала, Лаубе уставился на погасший еще при Франце-Иосифе фонарь. Он ждал, когда хаусмейстер Иоганн принесет из подвала вино. Утром, в полдень и вечером Лаубе выпивал по бутылке вина, раздумывая о своих делах.
Последнее время он стал зарабатывать неплохо. Каждая неделя давала пять-шесть тысяч шиллингов дохода на спекуляциях вином. Для такой спекуляции в Вене сложилась благоприятная обстановка. В провинции дешевого вина хоть залейся, а доставить его в Вену не на чем: весь частный транспорт был в свое время изъят на военные нужды. Капитан Стивен Хоуелл успешно сочетал должность помощника коменданта американской зоны с бурной спекулятивной деятельностью. Лаубе снюхался с капитаном. Хоуелл доставлял в подвал Лаубе вино, добытое в провинции за сигареты. Лаубе продавал его содержателям многочисленных ресторанчиков и кабаре по тридцати – сорока шиллингов за литр.
Этой весной в Вене пили очень много. В город прибыла масса англичан, американцев, французов в солдатских и офицерских мундирах. Каждый вечер они до отказа заполняли увеселительные заведения. Вино было самым ходким товаром.
Доходами Лаубе делился с Хоуеллом. Тот поставил целью заработать в апреле миллион шиллингов. Сорок тысяч литров вина уже хранилось во вместительном подвале Лаубе. Для продажи такого количества вина нужно было время, а обстоятельства вдруг стали меняться.
Постройка моста на Шведен-канале грозила многими неприятностями. Соединив два городских района, мост наносил удар по спекуляциям Лаубе и Хоуелла: на той стороне канала работали более сильные конкуренты. Они накопили огромный запас вина и собирались, как только мост будет построен, снизить цену до десяти шиллингов за литр, чтобы привлечь посетителей района за каналом в свои кабаки. Конечно, Лаубе и Хоуелл не остались бы в убытке, продавая вино и дешевле десяти шиллингов, но в таком случае осуществление мечты о миллионе отойдет в далекое будущее, а спекулянты чувствовали, что скоро им придется считаться со многими другими неблагоприятными обстоятельствами. Словом, они не намерены были ждать и хотели получить свой миллион, пока позволяла ситуация.
Лазаревский неожиданно стал на пути Лаубе и Хоуелла к быстрому обогащению.
Кроме того, Лаубе и многим другим «хозяевам» города не по душе было еще одно обстоятельство: русские строители приурочивали окончание моста к первому мая. Ясно, что прежде всего пройдут через мост и направятся к центру демонстранты с красными флагами. Мост соединит два крупных, пока что разобщенных района, содействуя объединению красных сил, а Лаубе очень хотелось, чтобы в этот наиболее ненавистный ему день город был разъединен на части не только каналами, но и колючей проволокой, как настоящий концлагерь. Лаубе слишком хорошо помнил дни восстания «марксистов», когда правительственные войска лишь благодаря разобщенности районов смогли удушить «красную Вену». Таким образом, восстановление моста на Шведен-канале было вдвойне невыгодно одному из бывших хозяев города – Эрнсту Лаубе.
Раздумывая над всем этим и вслушиваясь в звучание автомобильных клаксонов на улице, Лаубе взял из рук старого Иоганна бутылку холодного вина, налил в стакан, посмотрел на свет: вино было густое и красное. Лаубе поднес к губам стакан, но поморщился и не стал пить.
Из своего угла вышел бывший литейщик, теперь трубочист, Фридрих Гельм. С восточного фронта он вернулся без левой руки. В его отсутствие умерли жена и ребенок. Гельм был одинок и, как казалось Лаубе, очень обозлен. Завод не работал, да и работай он, однорукого Гельма все равно не взяли бы. Он стал подрабатывать на чистке труб, ухитряясь делать одной рукой то, что другие делали двумя.
Лаубе не переваривал этого бывшего солдата. Почему он возвратился с войны и мозолит глаза своим пустым рукавом? Ведь он один из тех, на кого надеялся фюрер и кто не оправдал этих надежд. Все они, эти военные калеки, – микробы красной болезни. Им лучше всего было бы навеки остаться далеко от Вены, в суровых снегах Подмосковья или в дымных развалинах Сталинграда. А теперь они напоминают тем, кто надеялся на войну, о развеянных русскими пушками иллюзиях.
К нему, хозяину дома, Гельм относился презрительно и высокомерно. А в последнее время трубочист стал вести себя так, будто был по меньшей мере принцем крови. Откуда появилась у него эта отвратительная манера снисходительно здороваться с хозяином и обращаться к нему свысока? Лаубе приходилось терпеть эти выходки. С каким удовольствием он вышвырнул бы на улицу этого злобного калеку, не будь опасения, что у него найдутся покровители! Шофер Лазаревского раза два подвозил трубочиста к дому, делился с ним табаком, разговаривал на ломаном немецком языке. Гельм отвечал ему по-русски: «Спасибо, товарищ». Ясно: Гельм стал красным и шофер коммуниста Лазаревского – ему товарищ.








