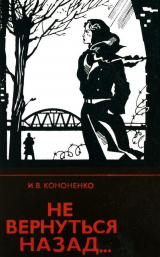
Текст книги "Не вернуться назад..."
Автор книги: Иван Кононенко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
4. Последний бой Варова
Бой вспыхнул на рассвете. Начался он артиллерийским обстрелом партизан. Снаряды ложились в стороне от лагеря и особого вреда не причиняли. Но обстрел был сильный и длился минут двадцать.
Все, кто мог держать в руках оружие, отправились в боевые порядки, в окопы и щели. В штабе остались только дежурный да связисты. Наталья Михайловна получила автомат и тоже хотела уйти вместе с Варовым на позиции. Но он упросил ее остаться у связистов.
Схватив автомат и запихивая на ходу в карманы и за голенища магазины с патронами, Варов отправился с начальником штаба на левый фланг боевых позиций отряда. Когда они вскочили в траншею, первая атака карателей уже была отбита. Враги залегли на противоположной стороне поляны, в кустарнике, и обстреливали партизан винтовочными выстрелами и короткими очередями из автоматов. На правом фланге беспрерывно трещали автоматы и бухали разрывы гранат. Видимо, там каратели сосредоточили основные силы и потому яростно атаковали, но увидеть боя отсюда было нельзя: правый фланг находился за высоткой метрах в семистах.
Варов устроился в окопе поудобнее, наблюдая за кустарником, где засели каратели. Начальник штаба отдавал какие-то распоряжения, но к Варову они никакого отношения не имели. Обстоятельства были для него новыми, отличными от тех, в которых он находился до сего времени, и к ним нужно было привыкнуть. В открытом бою ему еще бывать не приходилось, и он испытывал новое, незнакомое до сих пор ощущение. Страха не чувствовал, но в теле была какая-то непонятная тяжесть и дрожь. Он старался не думать о своих ощущениях, побороть эту неприятную дрожь, стал вынимать из карманов гранаты и магазины и раскладывать их на бруствере своего окопа.
Прибежал посыльный, вызвал начальника штаба к командиру. Тот хрипло крикнул:
– Варов, остаешься за меня, я скоро вернусь!
Когда Варов обернулся, начальник штаба уже приблизился к наблюдательному пункту, где находился командир. Варов не успел еще ничего сообразить, только подумал, что ему делать в роли старшего, как каратели снова пошли в атаку. Вначале они, по-видимому, накапливались там, их черные фигуры мелькали в кустарнике. Потом выскочили на поляну и, растянувшись в цепь, пошли во весь рост на позиции партизан, на ходу стреляя длинными очередями.
Варов на правах старшего приказал:
– Без команды не стрелять! Подпустить поближе, к середине поляны!
Когда наступающая цепь в черных мундирах приблизилась к той черте, которую сам себе наметил Варов, он скомандовал: «Огонь!» – и первый дал длинную очередь по врагу. Заговорила автоматным языком партизанская траншея. Эсэсовцы на какое-то мгновение остановились, но потом снова пошли вперед. С каждой секундой расстояние между ними и партизанами сокращалось. Варов сперва стрелял, а когда фашисты приблизились, взял в руки гранату. Он не сразу заметил, что откуда-то сбоку по вражеской цепи резанул пулемет. Часть карателей залегла, некоторые метнулись в сторону. А пулемет продолжал косить мрачные фигуры в черных мундирах. Какая-то сила вытолкнула Варова из окопа, и он, воскликнув: «За мной, в атаку!» – бросился вперед. Он не оглядывался, но слышал, что следом за ним с криком «Ура!» бежали партизаны. Некоторые из них обгоняли его оправа и слева и уже приближались к кустарнику, в котором перед боем накапливались каратели. Радостное чувство сознания, что бой выигран, охватило Варова и понесло вперед, где затухали последние выстрелы. В это мгновение что-то сильно толкнуло его в грудь, он схватился левой рукой за куст, чтоб не упасть, но земля ушла из-под ног. Держась за гибкие ветки, он медленно опустился на снег. Ему казалось, что невесомые снежинки закружили, завертели его, подняли над землей и понесли куда-то в неведомую темную мглу…
Под вечер хоронили погибших в бою. Вокруг большой, зияющей чернотой ямы партизаны стояли в скорбном молчании. Тут же, у края ямы, стиснув зубы, находилась Наталья Михайловна. Она не плакала. Боль утраты и слезы ушли глубоко вовнутрь, и от этого было особенно тяжело. Она немигающими глазами смотрела поверх свеженасыпанной земли – туда, где на еловых ветках прикрытые плащ-накидками лежали те, кто живым и здоровым встречал сегодняшний день и смотрел на этот лес, смеялся и грустил, шел в атаку и надеялся на победу, кто сегодня отдал самую высокую плату за Родину и победу и уснул сном, после которого нет и не будет пробуждения. Среди погибших партизан лежал и Варов, дорогой ей человек и боевой друг. Она пыталась представить его лицо – глаза, улыбку – и не смогла… Мысли расплывались, не удерживаясь в сознании.
Уже давно партизаны ушли к своим землянкам, а она все стояла у невысокого продолговатого холмика и не могла сдвинуться с места. Подошел командир отряда, обнял ее за плечи, тихо промолвил:
– Пойдемте, Наталья Михайловна, пойдемте. Нужно собираться. Живых ждут дела…
К ночи снег прекратился, тучи постепенно разошлись в стороны, небо вызвездило. Пришел долгожданный самолет, привез боеприпасы, полушубки, продовольствие, принял на борт раненых. С этим рейсом улетала на Большую землю и Наталья Михайловна. Таково было указание Центра, полученное в ту же ночь. В Москве еще не знали всего, что произошло. Руководство Центра благодарило чекистскую группу Варова за проделанную работу и сообщало, что Варов награжден орденом Красного Знамени; Наталья Михайловна Луцкая – орденом Отечественной войны II степени; радистка Клава Король – орденом Красной Звезды. Группе предписывалось возвратиться в Москву с очередным рейсом.
Наталья Михайловна стояла в стороне и смотрела, как партизаны заканчивали погрузку. Они торопились: приближался рассвет, а самолету нужно было незаметно проскочить над оккупированной территорией.
Только что по поляне, на которой стоял готовый к взлету самолет, прошли последние взводы партизанского отряда. Гул их шагов потонул в темноте зимнего леса. Отряду предстояло уйти дальше на запад, в новый район, соединиться с отрядом Зайкова и наносить совместные удары по коммуникациям и узлам дорог отступающего противника.
У самолета появился Цывинский, подошел к Наталье Михайловне.
– Счастливого пути, Наталья Михайловна. Передавайте привет Москве, – сказал он.
Ладонь Натальи Михайловны потонула в большой теплой руке командира отряда.
– Спасибо вам за все, Анатолий Михайлович. Возвращайтесь с победой!
Наталья Михайловна поднялась по трапу, остановилась в проеме люка. Какую-то секунду она смотрела прощальным взглядом на темный лес и на землю, по тропинкам и дорогам которой прошла не один десяток километров, на которой провела не одну тревожную ночь и в которой оставила своих боевых друзей, частицу своего сердца.
В это время заработали моторы, она как бы очнулась от мгновенного забытья и вошла в темное чрево самолета. Кто-то втащил вовнутрь трап и закрыл дверцу. Моторы взревели, самолет тронулся с места, сначала покатился медленно, потом быстрее, тяжело оторвался от земли, поднялся над партизанским лесом и взял курс на восток, где уже обозначилась бледная полоса утренней зари.
ВСТРЕЧА
(Вместо эпилога)
И вновь она уйдет легендой в память —
Крылатой чайкой, лилией, волной…
Геннадий Сухорученко
 ало-помалу я стал обретать себя. Где я и почему здесь? Передо мною городская площадь. Не Ярмарковая ли? Да, это она. Так, во всяком случае, раньше ее называли местные жители. Несколько крытых рядов – длинные под навесом самодельные столы и такие же самодельные скамейки, у входа на арке надпись: «Колхозный рынок». Время к вечеру, и на рынке малолюдно. В том ряду, где я сижу на скамейке, с противоположного конца две женщины торгуют семечками. Вернее, они сидят со своими мешками, поскольку нет покупателей. Около них стоит, дымя папиросой, дворник – пожилой мужчина в переднике и с метлой. Они о чем-то ведут неторопливую беседу. Неподалеку от меня бродит, вынюхивая, бездомная собака. Пахнет навозом, дынями и еще чем-то рыночным. По улице с грохотом проносятся грузовые автомашины.
ало-помалу я стал обретать себя. Где я и почему здесь? Передо мною городская площадь. Не Ярмарковая ли? Да, это она. Так, во всяком случае, раньше ее называли местные жители. Несколько крытых рядов – длинные под навесом самодельные столы и такие же самодельные скамейки, у входа на арке надпись: «Колхозный рынок». Время к вечеру, и на рынке малолюдно. В том ряду, где я сижу на скамейке, с противоположного конца две женщины торгуют семечками. Вернее, они сидят со своими мешками, поскольку нет покупателей. Около них стоит, дымя папиросой, дворник – пожилой мужчина в переднике и с метлой. Они о чем-то ведут неторопливую беседу. Неподалеку от меня бродит, вынюхивая, бездомная собака. Пахнет навозом, дынями и еще чем-то рыночным. По улице с грохотом проносятся грузовые автомашины.
Я помню эту площадь давно. Поездки в город, на ярмарку или просто на рынок, были в детстве для меня событием немаловажным. Вставали рано, и меня, еще сонного, одевали, сажали на повозку с сухим ароматным сеном, укутывали большой шерстяной шалью или отцовским пиджаком. Мать садилась рядом, прижимала к себе. Отец брал в руки вожжи, и трогались в путь. Сзади за повозкой шла бабушка и, проводив до ворот, крестила нас, а потом глядела нам вслед, пока повозка не скроется за поворотом. Отец, пока ехали селом, обычно не садился на повозку, а шел рядом, подтыкал по бокам сено или заправлял упряжь. Село в ту пору еще спало крепким предутренним сном. Только сонные собаки и петухи то там, то тут подавали свои хриплые голоса. Из лесу тянуло утренней прохладой. Пахло дымом, землей и мокрой травой. Пофыркивая, шагом топали лошади, тарахтела по уезженной дороге повозка. Молчали, поскольку все уже было переговорено дома. Мать любила повторять в этих случаях: «Тихо, тихо кругом». За селом отец вскакивал на повозку, трогал меня рукой и спрашивал:
– Не змерз, Васько?
– Та ни, – шепотом отвечала за меня мать, – не займай его, вин ще спить. – Отец замахивался кнутом на лошадей, и они начинали трусить рысцой. На востоке чуть заметно светлело: занималась утренняя заря. На средине пути, под Вязовской горою, за рекой из болота появлялось солнце, а когда подъезжали к городу, оно начинало заметно припекать, и я вылезал из своих одежек.
Однажды мы с отцом, оставив мать у повозки, отправились посмотреть ярмарку. Купили мороженого. Сфотографировались. Отец, посмотрев на карточку, сказал мне: «Ничего получились, но ты что-то надулся, как сыч на ветер». Потом пошли поглядеть на фокусника. В приземистом помещении, битком набитом зеваками, было темно. На освещенном помосте человек в черном показывал фокусы. Обстановка для меня была незнакомой и даже страшной, а поэтому я не на шутку испугался, спрятал голову отцу под мышку и зажмурился. Но постепенно начал подсматривать одним глазом, а затем и двумя, но понять ничего не мог. Сидящие вокруг то и дело охали, ахали, замирали и взрывались смехом. Я совсем растерялся и не знал, куда мне смотреть – на окружавших меня людей или на помост, где фокусничал человек в черном. Под конец фокусник взмахнул рукой, на стене появилась небольшая грядка, а на грядке – арбузы. Тут я совсем подумал, что сплю, а после часто спрашивал отца: «То были настоящие кавуны или самодельные?» – «А бес их знает, – отвечал отец, – я сам, сынок, не знаю». Но на этом чудеса того памятного дня не кончились.
Отцу понадобилось зайти по делу к знакомому охотнику, который жил недалеко от рынка. Мы открыли калитку и вошли во двор. Откуда-то перед нами появились большие с красными шеями куры – таких я никогда не видел. Куры с кровяными шеями бросились ко мне. Отец подхватил меня на руки и поднял над головой. Вначале я онемел с испугу, а затем закричал не своим голосом. На мой крик выскочила женщина и отогнала страшных курей, которые оказались индюками и набросились на меня потому, что на мне была красная рубашка.
Когда немного подрос, ходил с матерью на рынок пешком. Шестнадцать километров туда и шестнадцать обратно. После такого путешествия гудели ноги, но надолго оставались приятные воспоминания о сладком мороженом, шипучей воде, красочной карусели и прочих вещах, которых в селе тогда не было.
…Мне нужно прийти в себя, поэтому я не стал искать остановку автобуса, на котором утром сюда приехал, а отправился пешком наугад и неизвестными мне переулками вышел на эту рыночную площадь.
Часы, висящие на столбе у аптеки, показывают начало седьмого. Следовательно, я здесь больше часа, пора… Я медленно поднимаюсь, пересекаю площадь и сворачиваю в широкую, прямую, в густой зелени улицу. Постепенно узнаю ее. По ней я и ездил с родителями на рынок, а потом ходил в школу. Длинная, протянувшаяся с одного конца города в другой, старая, как этот город, улица. Тогда она была мощенная булыжником, сейчас ровная и гладкая, покрытая асфальтом. По этой улице ходил, опираясь на палочку, Гоголь.
Вот справа, в сквере, школа. Моя родная школа. Три последних года я провел здесь. Ходил по этой улице. Играл в этом сквере.
…Выпускной вечер. Все празднично одетые. Мы, выпускники, сразу повзрослевшие. Музыка. Цветы. Директор вручает аттестаты зрелости, жмет каждому руку. Как взрослым. Я получаю аттестат с золотой каймой. Под аплодисменты иду на место переполненным залом. Учителя одобрительно улыбаются. Ребята поздравляют. Потом были танцы, принаряженные девочки, рассвет над рекой, на Видах…
Как давно это было. И вот я снова иду по своей улице. Конечно же, это та самая улица. То же название. Только бугристого серого булыжника нет. Да старых домов почти не осталось. Одни сгорели в пламени войны, другие снесены, и на их месте – новые. Они больше, светлее. Но почему-то жалко старых. Для меня, как и для большинства горожан, в разрушениях старой части города есть что-то непоправимое. Сознание этой утраты постоянно живет как неизбывная скорбь.
По улице идут машины, а повозок совсем не видно. Помню, как в городе впервые появился новый большой автобус, и мы с Аркадием катались на нем от райисполкома до вокзала, туда и обратно, раз, наверное, пять. В автобусе людей было мало. Прохожие останавливались к смотрели на новую машину.
Я смотрю в промежуток между новыми домами, туда, на зеленый косогор, что над самой рекой. Знаю, что не увижу того, что хотел бы увидеть, но все равно смотрю. Как тогда, в школьные годы, всякий раз, проходя по этой улице, останавливался и смотрел в ту сторону. Все хотел представить, как к деревянному дому, который стоял на косогоре, подъезжал в коляске Пушкин и ему навстречу выходила Керн. Сейчас старого домика на зеленом косогоре нет, его сожгли оккупанты при бегстве из города. А тут вот стоял еще один дом. Не старый, из серого камня, трехэтажный. Этого дома тоже нет. На его месте – новый девятиэтажный. Во дворе играют дети. Вот тут, в сером трехэтажном доме, она и жила, на втором этаже. Тут я ее видел в последний раз, когда она, убегая в подъезд, крикнула мне: «Ну пока! Приходи провожать!»
…Шли годы. С годами, она, естественно, становилась для меня все более нереальной фигурой, далеким любимым образом, во многом мною придуманным, воспоминанием, несбывшейся мечтой, которая все эти годы поддерживала во мне то внутреннее горение, без которого жизнь теряет краски. Как бы там ни было, несмотря на огромную череду лет, о которой когда порой начинаешь думать, становится страшно, она жила во мне. Я часто думал о ней, и пусть кому-то покажется странным, с годами это не проходило.
После войны долго искал, но не нашел. Надеялся и ждал, что встречу просто так, случайно, но не встретил. И позже, став семейным, часто ловил себя на том, что думаю о ней и по-прежнему хочу ее увидеть. А когда спрашивал, то не находил прямого ответа. Может быть, это просто интерес к судьбе человека, которого когда-то знал и который был дорог? Но тогда почему нет такого сильного желания найти других людей, которых немало встречал на своем жизненном пути? Нет, нет, ничего я не думал менять и ломать. Да и что можно было изменить после стольких лет. Жизнь идет, всему свой черед. Просто очень хотелось встретить, увидеть ее, посмотреть в глаза и сказать: «Здравствуй, Лариса, здравствуй, моя юность! Я помнил тебя все эти годы…» Конечно, меня тревожила мысль, что она забыла меня. Но все равно. Я хотел этой встречи и понимал, что это мое страстное желание уйдет только вместе со мной.
Я не был здесь давно. С тех пор, как умерла мать. Не переношу тягостного одиночества в этих дорогих моему сердцу местах, где прошло детство, где жили родители, где «одних уже нет, а те – далече». Не собирался заезжать и на этот раз. Но так получилось. Возвращаясь с юга, в Харькове взял и сошел с поезда, сел в рейсовый автобус и через шесть часов был здесь. В тот же день побывал в своем селе, постоял у могилки матери и вечером возвратился в город. Остановился в гостинице. После ужина в вестибюле разговорился с женщиной-администратором. Она родилась и безвыездно живет в этом городе. Учились мы с ней в одной школе, когда я оканчивал десятый класс, она – седьмой. Несмотря на это, она помнила некоторых моих одноклассников, – немногих, конечно. Ребят, ходивших в школу из сел, в том числе и меня, она не помнила. Но это и немудрено: мы только учились в школе, а на выходные и каникулы разъезжались по домам. Когда она начала называть имена и фамилии тех, кого помнила, я затаил дыхание и боялся, чтобы нечаянно не нарушить ее тонкую ниточку воспоминаний. Помнила она и Ларису Яринину. Больше того, она сказала, что Лариса живет здесь, в городе, у нее взрослая дочь, кажется, замужем. Адреса ее она, к сожалению, не знает, но попытается узнать, и начала куда-то звонить. Вы представляете мое состояние? Я никогда в жизни не курил, даже на фронте, а тут схватил незнакомого мужчину за рукав, попросил папиросу, трясущимися руками прикурил и начал делать одну за другой глубокие затяжки. В это время администратор подошла ко мне и протянула листок из календаря, на котором был адрес Ларисы. Я схватил этот листок обеими руками и не знаю зачем побежал к себе в номер. Там, включив свет и достав очки, стал рассматривать его, как бесценную реликвию.
Я не спал всю ночь. Не находил себе места. Не мог дождаться утра. Все ходил по номеру и думал. Порой меня одолевали сомнения. «Удобно ли идти к ней на квартиру? Не лучше ли позвонить, написать открытку? Как она встретит меня? Вспомнит ли? А если и вспомнит, то как отнесется к столь неожиданному визиту? Это ведь для меня событие, а для нее, может быть, эта встреча ровным счетом ничего не значит. Еще подумает, что ненормальный. Скорее всего, для нее это будет обычная, даже, может быть, приятная встреча со старым школьным приятелем. Сейчас уже ничего общего с этим приятелем нет, кроме отрывочных далеких воспоминаний. Короче, здравствуй и прощай. Но это было бы тяжело и несправедливо. Потеря мечты, которую лелеял всю жизнь, разочарование. Что может быть тяжелее и горше этого? Если бы я знал, что так будет, то не пошел бы к ней вовсе. Пусть остается все, как было. С другой стороны, чего же ты хочешь? Чтобы она бросилась к тебе на шею со слезами? Наивно». Но потом все рассуждения, сомнения и тревоги отбрасывал: «Нет, все равно пойду, будь что будет, но увидеть ее я должен. Держись, Витрук, не распускай нюни!»
Еще не было и семи утра, а я уже ходил по ее улице, зажав в ладони листок с адресом. Сомнения меня не покидали, хотя решение было принято. Только в начале десятого я поднялся на четвертый этаж и, отыскав глазами номер ее квартиры, нажал на белую пуговку звонка.
Она обещала стать очень хорошенькой. Так о ней тогда говорили. Для меня лучше ее не было и быть не могло. Мне долго снились ее светло-русые косы, которые касались парты, когда она склонялась над тетрадкой. Я ее почему-то стеснялся. Обмирал, холодел, видя ее. Она была той поражающей страстью, что обычно тщательно скрывают, но которая написана на лице и ее невозможно скрыть от посторонних глаз. Ради нее мне всегда хотелось идти в школу, радостно было жить на свете.
Какой она стала и какая она сейчас? Даже если она и была красивой, то сейчас, когда прошло столько лет, все уже в прошлом. Время беспощадно, да и пережито столько всего… Но вот она стоит передо мной – стройная, женственная, с открытым лицом – удивительно привлекательным и добрым. Нет, время не было к ней беспощадно. Лицо ее сохранило и свет, и теплоту. Уже потом я заметил легкие морщинки и горькие складки у рта, но подумал о том, что о них сразу же забываешь, когда на тебя смотрят эти ясные, карие глаза, которых не коснулось время.
…Она много рассказывала о своей жизни, об Аркадии, но ничего не говорила о дальнейшей его судьбе, и я спросил:
– А где же Аркадий сейчас, жив ли он? – Лицо Ларисы сделалось печальным.
– Аркадий был моим мужем, – сказал она грустно. – После войны мы поженились. Родилась дочка. Окончила биологический, как когда-то я, сейчас там же преподает. Аркадий умер, когда дочке исполнилось семь лет. Ранения и контузии не прошли бесследно. Мама умерла еще во время войны. Я работала в школе, биологию преподавала и сейчас преподаю. Дочка замужем. Живем вместе. Все вроде хорошо. Да, после войны уже меня орденом наградили за партизанские дела. – Она достала из шкафа коробочку с Красной Звездой. Я смотрел на Ларису и не верил своим глазам. Это была она и не она. Что-то с ней, конечно, осталось от той девочки, которая в далеком довоенном году, в пору моей школьной юности, глубоко тронула мое сердце, заняла его безраздельно, да так и не покидала его вот уже больше трех десятков лет.
Я все-таки задал ей вечный вопрос о счастье. Она задумалась, потом сказала:
– Мне всегда казалось, что человек счастлив только тогда, когда его жизнь нужна людям, когда никто не имеет права бросить ему упрек, что он зря коптил небо… – И неожиданно молодо и задорно улыбнулась благодарной, счастливой улыбкой. Я не стал уточнять, вернее заземлять интересовавший меня вопрос. Передо мной сидела уже не девочка, которую я знал когда-то, а женщина с тронутыми сединой висками и сеткой морщин у глаз. Было в ней и то новое, чего я не знал, да и знать не мог. Знала ли она, что она была моей первой любовью, что я ее так долго искал? Откуда ей было знать…
В пятом часу я собрался уходить. Можно было, конечно, остаться еще, тем более что Лариса как будто рада гостю. Но скоро должна прийти ее дочь с работы, а за ней и зять. Нужно будет знакомиться, что-то говорить, объяснять. А зачем? Я не знал, как проститься, и поэтому медлил. Лариса спросила, когда я уезжаю и можно ли ей прийти на вокзал проводить меня. Я, кажется, ответил, что этого делать не следует.
Неожиданно она включила радиолу.
– Послушаем, Вася, – сказал она тихим голосом, – моя любимая. – Давно знакомый дуэт запел «Мальчишки, мальчишки…».
Я задержал свой взгляд на ней больше, чем нужно, и невольно прикоснулся к ее лежавшей на столе руке. Она пристально посмотрела мне в глаза, брови ее, вздрогнув, удивленно взлетели, да так и застыли. На миг в ее глазах мне показалось то, чего я искал всю жизнь…









