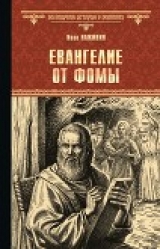
Текст книги "Евангелие от Фомы"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
XXV
Манасия тосковал по Мириам нестерпимо. Во время праздника Ханукка, что празднуется в конце месяца Кислева, в память победы Маккавея над дерзким Антиохом Епифаном, и освящения храма, оскверненного этим язычником, по городу пронесся слух, что Мириам вернулась. Манасия бросился на поиски ее, но нигде ее не было. И, весь точно отравленный, он снова спрятался у себя. А город горел бесчисленными огнями: в честь праздника в каждой семье горела ханукия, подсвечник о девяти светильниках…
Прошли еще недели. Душа болела нестерпимо. Как-то нечаянно сошелся он в это время с Никодимом, интересные рассказы которого о его странствиях по Диаспоре отвлекали Манасию от его дум. Думы эти, как слепая старая лошадь на мельнице, ходили все по одному и тому же следу, и освободиться от их власти хоть бы на миг было облегчением… Незаметно подошел и месяц Адар, а с ним и праздник Пурим, праздновавшийся в память освобождения иудеев при Ассуэрусе. В эти торжественные дни и в храме, и по всем синагогам торжественно читали книгу Эсфири, но в общем праздник этот уступал в блеске не только празднику Кущей или Пасхе, но даже празднику Ханукка с его радостными огнями…
Наслаждаясь тихим, ясным вешним вечером, похудевший Манасия с Никодимом сидели на кровле дома Никодима. Хмурилась, как всегда, башня Антония, пылал, весь в огне, огромный храм, а прямо через площадь сияла, вся розовая, претория и на фронтоне ее четко выделялись буквы: S. P. Q. R.
– У нас меры ни в чем не знают… – говорил Никодим, сутуло сидя на ковре. – Эллинское образование… Так надо разбирать: что в этом образовании хорошо, возьми, что плохо – отбрось. Под Эфесом есть храм их богини Дианы, и вот эфесяне захотели отдать свой город богине под особое покровительство. Думали, думали, как лучше это сделать, да и порешили протянуть от города до храма длинную веревку, как бы привязав себя и город к храму… Мы можем обойтись и без этого…
На кровле показался старый слуга Никодима.
– Господин, там тебя спрашивает Иешуа назаретский…
– А-а!.. – просиял Никодим всем своим некрасивым лицом. – Очень рад, веди его к нам…
Слуга удалился.
– Что ты? – удивился Никодим, взглянув на Манасию, который вдруг нахмурился и встал.
– Я? Ничего… – рассеянно и хмуро отвечал Манасия. – Мне пора домой…
Он не хотел и не мог видеть человека, за которым ушла Мириам.
– Жаль, это интересный человек… – сказал Никодим. – Побеседовали бы…
– Как-нибудь в другой раз… – отвечал Манасия. – А теперь, право, мне лучше идти…
Никодим со сдержанным удивлением посмотрел на него, но ничего не сказал. Манасия простился… На лестнице он встретился с Иешуа, который, увидев его богатый наряд и не помня их короткой беседы на площади у фонтана, только молча поклонился ему…
Никодим радушно встретил гостя, усадил его на мягкие подушки и ласково посмотрел в его, как всегда, точно чего-то стыдящиеся глаза.
– Давненько не видал я тебя, рабби… – сказал он. – Где побывал? Что делал? Тут по городу слухи ходили, что ты пошел по следам Иоханана и посвящаешь в новую жизнь через обливание на Иордане…
– Нет, я там не был… – сказал Иешуа и вдруг решительно поднял на Никодима глаза. – Я думаю теперь, что вообще это… пустое…
С Никодимом хотелось говорить правдиво и до конца.
– Вот как!.. Почему же ты так думаешь?..
– Да потому что, если внутри у человека ничего нет, так ничего вода ему и не даст, а если есть, так ни на что она не нужна… – сказал Иешуа. – Ну, облился, дело это не хитрое, а там опять за прежнее… Власти греха водой не смоешь. Для того, чтобы войти в царствие Божие, нужно человеку… родиться снова. А тогда и вода не нужна… Что ты на меня как смотришь?
Никодим, в самом деле, смотрел на него во все глаза.
– Скажи правду, рабби: ты, действительно, не знаешь ни по-латыни, ни по-гречески? – проговорил он.
Иешуа усмехнулся.
– Да зачем же я тебя обманывать буду?
– И никогда ты с язычниками об этом не говорил?
– Никогда… – удивленно отвечал Иешуа.
– Так откуда же все это в тебе?!
– Что? О чем ты? Что ты как всполошился?..
– Вот ты говоришь о рождении снова… Откуда взял ты это?
Иешуа пожал плечами.
– Откуда все, от Бога… Я от себя ничего не выдумываю… Да зачем ты смущаешься так? Ты скажи мне… – оживленно спрашивал он Никодима. – Ну да, сперва человек рождается от отца и матери и тогда говорят: он сын такого-то… Но приходит время, когда он рождается вторично, в духе, и тогда он только сын Божий… Потому-то и сказано в Писании нам: вы – боги…
Никодим поднял свою тяжелую голову.
– Если хочешь знать, почему меня так удивили твои слова, – сказал он, – пойдем вниз…
Они спустились в рабочую комнату Никодима… В окна багрово светила потухающая заря. Старый слуга возжег светильники и по высоким стенам заходила огромная тень Никодима, уменьшаясь, увеличиваясь, ломаясь. Усадив Иешуа, он стал рыться в каких-то старых свитках. И бросил…
– Ну, нечего искать… – сказал он. – Все равно, ты не читаешь ни по-эллински, ни по-латыни… Я расскажу тебе все сам, своими словами… То, что говоришь ты о рождении снова и о сыновности нашей Богу, этому задолго до тебя учили и учат язычники… И чудо, чудо Божие для меня в том, что, ничего об этом не слышав, – развел он руками, – ты сам, своими силами, обрел эти истины в твоих горах галилейских!..
– Не в горах, а в сердце своем… – тихо поправил Иешуа, и глаза его засияли.
Никодим восхищенно посмотрел на него…
– Ты прав: не в горах, а в сердце… – сказал он и невольно про себя отметил, что на этот раз Иешуа не только не обнаруживает никаких признаков нетерпения, но, наоборот, слушает с великой жадностью. – Да, то, что ты нашел в своем сердце, за века до тебя нашли в своем сердце другие люди, те, которых мы зовем язычниками и о которых боимся оскверниться.
Он повел глазами по рядам своих свитков.
– У меня есть книга римлянина Апулея, которая зовется «Золотой осел»… – начал он. – В ней, между прочим, описывает Апулей свое посвящение в тайны египетской богини Изиды: этот день он отпраздновал со своими друзьями как великий день нового рождения, рождения в новую жизнь… В греческих мистериях человек, просветившийся светом внутренним, становился, как Апулей выражается θειος ’άνθρωπος , или человеком божественным. А на орфических табличках – так назывались тонкие, золотые пластинки, которые клали в Риме в могилу умерших – было написано: «Я дитя земли и звездного неба, но порода моя – только небесная». И в другом случае говорится: «Мужайся ты, познавший страдание – ты из человека стал Богом!..» И у египтян в культе Озириса новопосвященный становится ίσόθιος , то есть равным Богу. Да что! Фараон египетский Акнатон, живший приблизительно во времена пророка нашего Моисея, говорил к Богу: «Ты в сердце моем. Никто иной не знает Тебя, как только сын Твой Акнатон. Это Ты посвятил его в мудрость и в силу…» И Гермес Трисмегист говорит: «Войди в меня так, как дети бывают в утробе матери своей. Ты это я и я это Ты, что Твое, то мое и что мое, то Твое, ибо, воистину, я образ Твой…» И говорит он также о великом и таинственном втором рождении…
Спохватившись, что говорит он с малограмотным, он оборвал и посмотрел на Иешуа: глаза галилеянина сияли, и на смуглом лице, как теплый отсвет зари, играл живой румянец…
– Ну, что? – сказал Никодим. – Понял?..
– Слышал, но понял не все… – после небольшого молчания отвечал Иешуа. – Да будет благословение Божие над тобой, Никодим: великий праздник зажег ты в душе моей!.. Ведь если свет разумения разгорается так повсюду, то как, как сомневаться в скором пришествии царствия небесного?!
– Не знаю, не знаю… – играя пальцами в седеющей бороде, раздумчиво говорил Никодим. – И верится, и не верится. О Мессии, который принесет спасение миру, род человеческий тоскует давно… – он снова любовно обежал глазами ряды своих свитков. – Вот сегодня, заспорив с Манасией, мы сличали еврейский текст наших священных книг с их греческим текстом и меня поразило, как это ожидание Помазанника Божия – эллины зовут его Христом – красной нитью проходит по всем этим векам…
– Ну, и когда он придет, что же он сделает? – спросил Иешуа с жадным любопытством.
– Он установит золотой век на земле… – задумчиво глядя на свои свитки, проговорил Никодим. – Некоторые язычники, однако, считают, что золотой век уже был. Вот этот, Гезиод, описывает, что жили тогда люди в мире и любви, и все у них было общее, что люди и животные говорили тогда на одном языке и что люди умирали, не зная ни болезни, ни старости, точно засыпая. А несколько веков спустя эллин один, по прозванию Пиндар, описывал Острова Блаженных, на которых добрые люди вели праведную жизнь, не зная ни страданий, ни слез. Другой эллин, Платон, тот описывает счастливую страну Атлантиду. Египтяне говорят, что у них золотой век был при добром фараоне Ра, персы помнят об эдемских садах, а эллины о садах Гесперид, в которых росли золотые яблоки… Некоторые говорят даже, что такой золотой век был в Риме при Августе, – тот, что перед теперешним Тиверием цезарем был, – но это утверждение легкомысленное, потому что около этого самого времени – всего сто лет назад – в Риме был великий бунт простого народа под предводительством Спартака и закончился этот бунт тем, что шесть тысяч человек были распяты на крестах вдоль дороги на Капую…
Иешуа содрогнулся.
– Да, да… – вздохнул Никодим. – Хотел Спартак этот рай для бедноты на земле устроить, а что вышло!.. И Митра, – голос Никодима тепло дрогнул, – тоже о простом народе пекся и вера в него больше всего и держится среди бедняков, чающих освобождения, если не в этом веке, так в загробной жизни… Но как ты, ты сам представляешь себе царствие Божие?..
– Тут, покаюсь, у меня двоение… – задумчиво глядя перед собой сияющими глазами, сказал Иешуа. – Есть такие, которые понимают его, как кровавую месть всем врагам Израиля и утверждение владычества его над народами, но у меня к этому душа никогда не лежала. Иной раз представляется оно мне, как пророку Исаии, раем для всех. И были искушения… И даже теперь иногда бывают… Овладеть бы как-нибудь властью и устроить все, как следует… Но нет!.. – решительно тряхнул он головой. – Это искушение: царствие Божие внутри нас. Опершись на Бога, как следует, человек входит в блаженство царствия Его сразу же… Да, вот так понимать это надо… – еще раз решительно подтвердил он.
Никодим, испытывавший к нему чувство все большей и большей привязанности, пристально посмотрел на него.
– А знаешь что?.. – вдруг тихо сказал он. – Давай, поедем с тобой в Египет, в Элладу, в Индию, в Офир и все еще раз разузнаем и проверим…
Иешуа печально усмехнулся.
– Тебе хорошо говорить-то!.. – сказал он. – Ты богат, а я нищий…
– Ну, деньги что!.. – сказал Никодим. – У меня хватит на обоих… И разве можно чего пожалеть для такого дела?! Едем?..
Иешуа потупился. Поехать и видеть все своими глазами было бы великой радостью, но он с испугом почувствовал, что уехать он как будто уже и не может, что те глухие силы, которые он точно разбудил словом своим, уже подхватили его и несут куда-то в темные дали и что он, пленник их, сопротивляться им уже не может. И ему стало смутно и страшно…
– Ну, что же… – сказал он нерешительно. – Вот пообдумаем и поедем…
XXVI
Иешуа целые дни проводил во дворах храма и под его портиками. Иерусалим был центром Палестины, а храм – центром Иерусалима: тут наиболее чувствовалось биение сердца всего народа, тут наиболее осязательно можно было прикоснуться к душе его, тут, в самый цитадели иудаизма, нужно было напасть на его твердыни. И именно тут острее, больнее всего чувствовалась как необходимость борьбы, так и ее трудности, которые в черные минуты казались иногда прямо непреодолимыми. Он хотел говорить от сердца к сердцу, а от него законники требовали тонкой казуистики вокруг мертвой буквы закона, он от сердца человеческого ждал преображения, а толпа требовала от него прежде всего «знамения с неба», чудес, которые должны были убедить ее, что слушать его стоит. Он и сам, как и все, верил в чудеса, но о себе-то он знал, что никаких чудес он делать не может, во-первых, а во-вторых, что же могло сравниться с чудом Божественного откровения, которое он носил в себе?! И, в конце концов, среди мертвых камней этого мертвого города он был только одним из бесчисленных проповедников-сектантов, к которым здесь привыкли, которые просто здесь надоели и на которых власть предержащие смотрели косо, так как во всех этих учениях, несомненно, чувствовался опасный коммунистический, бунтарский привкус…
И каждый день всякие мелочи ранили его полную великих ожиданий душу, каждый день он, вдумчивый и внимательный к жизни, натыкался на явления, которые заставляли его задумываться, пересматривать свои решения, проверять себя и в тишине – скорбеть. Он легко знакомился и сходился с людьми, и в этом недавно совсем еще чужом Иерусалиме теперь у него было уже немало близких людей, и он никак не мог не видеть, не сознаться себе, что и среди этих ему совершенно чуждых, а то и прямо враждебных людей есть души прямые, хорошие, благочестивые, которым закон нисколько не мешал быть людьми в истинном смысле этого слова, – как хотя бы Иосиф Аримафейский, член синедриона, который не раз сердечно беседовал с ним, – тогда как часто среди тех, которые шумно выражали ему свое одобрение, попадались люди, одобрение которых втайне казалось ему оскорблением. Простота и ограниченность его ближайших последователей, то есть тех, которые ходили за ним всегда, заставляла его часто огорчаться и опасаться, что в основе между ним и этими добрыми людьми лежит недоразумение. Почти всякий раз, как они бывали с ним в храме, они, селяки, все дивились на пышные сооружения эти:
– Рабби, рабби, смотри, какая позолота! – говорили они с восхищением. – А как виноград-то сделан – не наглядишься!.. А столпы-то!.. Сколько волов понадобилось бы, как ты думаешь, рабби, чтобы перевезти такой столп, а?
И он весь сжимался: он ждет скорого преображения жизни, а вот на его глазах идет неторопливая гигантская постройка, рассчитанная на долгие годы, постройка того, что в новой жизни будет уже явно не нужно. Это был безмолвный, но красноречивый ответ жизни на его ожидания и зовы… Он с недобрым чувством смотрел на эту пеструю, озабоченную, орущую вокруг толпу, на тяжелые, дурно пахнущие дымы беспрерывных жертв, на этих жадных торговцев и менял с хищными глазами и говорил, что все эти люди сделали из дома Божьего дом торговли и вертеп разбойников. Он грозил скорым разрушением всего этого царства корыстолюбия, жадности и лжи. Его близкие опасливо озирались: здесь тебе не Галилея! Но Иона и Иегудиил – они, несмотря на недружелюбную последнюю встречу с ним, опять появились около него и все чего-то ждали – одобряли…
Часто ученики его ссорились между собой, стремясь присвоить его исключительно себе. Раз появилась в Иерусалиме мать братьев Зеведеевых, сухенькая старушка с очень добрыми, подслеповатыми глазками. Она почти никогда в городе не бывала, а вот теперь вдруг, к общему удивлению, приехала сюда с рыбаками, возившими в город рыбу на продажу. Она отыскала Иешуа и долго робела, и долго униженно кланялась.
– К тебе я, рабби…
– Что тебе надобно, мать? – ласково спросил он.
– На счет сынков своих я, рабби… – снова закланялась старушка. – Прошу тебя, рабби: когда воссядешь ты на престол в царстве твоем, посади Иоханана по правую руку от тебя, – потому он половчее будет – а Иакова хоть по левую… Сколько времени вот они с тобой ходят, стараются, хозяйство совсем забросили!.. Уж не оставь старушки милостью твоей, господин…
Он, смущенный, пожал плечами:
– Сами не знаете, что просите…
И сейчас же среди последователей его послышался ропот:
– Всегда норовят впереди других пролезть… Все из одного теста сделаны… Старуху подослали…
Зеведеевы закипели: подослали! И не думали… И они обрушились на совсем смущенную мать. Иешуа должен был мирить всех и еще и еще разъяснять:
– Вы знаете, что цари царствуют над народами и вельможи властвуют над ними… – говорил он. – Но между вами да не будет так! А кто хочет быть большим, да будет всем слугой, и кто хочет быть первым, да будет последним… Если вы так не понимаете меня, так чего же ждать мне от других?
Был сияющий весенний день. Резкая тень от башни Антония острым углом падала на дворы храма, залитые, как всегда, пестрыми толпами. Вверху, на башне, острыми искорками сверкали шлемы римлян. Над золотою кровлей храма, усеянной острыми шпицами, – чтобы не садились и не пачкали птицы – поднимался в чистое небо пахучий дым. Вокруг, как на базаре, стоял бешеный крик…
Иешуа со своими учениками проходил портиком Соломона и увидал Фому, который, стоя около кучки крепко спорящих фарисеев, со своей доброй улыбкой смотрел на него, как бы приглашая подойти. Фома обосновался в Иерусалиме, завел небольшую торговлю, но почти все время проводил с Иешуа, жадно вслушиваясь в его речи и точно все чего-то ожидая. Иешуа подошел к нему, поздоровался. Фома глазами сделал ему знак прислушаться к тому, о чем кричали в середине пестрой, пахучей толпы спорщики.
– Хобер ты мне или нет? – надседался один визгливый, раздраженный. – Да или нет? Только и говори: да или нет?
– Ну, да! Ну, да! Ну, да! – нетерпеливо отзывался другой, покашливая. – Ну и что же из этого?
– Так если ты хобер, так как же можешь ты перед всеми так обзывать меня?! А?
– А если ты хобер да дурак, так как же прикажешь еще величать тебя? Дураков не только ругают, но и бьют…
Толпа захохотала. Спор закипел с новой силой.
Хобер значит близкий, товарищ, собрат. Так называли свои содружества особенно строгие законники, отличая себя этим от презренного амхаарэц, то есть «народа земли», мужичья. Эти содружества были как бы взаимным страхованием против возможности всякого осквернения. Покупая продукты у купца-хобера, покупатель мог быть вполне уверен, что они уже оплачены положенной десятиной и что он, таким образом, не съедает части, положенной Предвечному. У хобера можно было спокойно помещаться и есть.
– А если сосуд глиняный? – кричал, видимо, щеголяя своими знаниями раздражительный. – Тогда как вернешь ты ему чистоту?
– Очень просто… – покашливал другой. – Какая премудрость! Отколол от него небольшую частицу, вот и чист…
– Небольшую?! – язвительно кричал первый. – А какую небольшую? Ты отколешь, скажем, вот с палец, а, может, этого мало? Может, надо больше?
– Этого в законе не указано…
– А, не указано! Так в этом-то вся и сила!.. Так я скажу вам, как надо поставить дело. Слушайте…
И над затихшей толпой поучительно поднялся палец. Иешуа нетерпеливо пожал плечами.
– А что Иуды не видно эти дни? – отходя, спросил он у Фомы.
– Плохи дела у него очень, рабби… – отвечал Фома своим надтреснутым голосом. – Только подальше от дома и покой находит…
– Это верно… – раздался сзади них голос незаметно подошедшего Иуды. – Шелом, рабби!.. И на осла кладут кладь по силе… А я все же человек… – со своими обычными запинками продолжал он. – Что ни делай, как ни вертись, ничего не помогает…
– Вот он! – крикнул вдруг один из служителей храма, указывая на Иешуа.
Небольшая группа садукеев – все люди пожилые – приблизилась к Иешуа, и один из них, высокий, худой, с сухой, точно пергаментной кожей и огромными, сердитыми глазами, обратился к Иешуа:
– Разреши наше недоумение, галилеянин…
В голосе его звучала явная насмешка.
– Что такое? – холодно, нехотя отвечал Иешуа.
– А вот… Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то пусть его брат возьмет за себя его жену и восстановит семя брату своему. Так?
– Ну? – все так же неохотно отвечал Иешуа.
– Ну, вот… – продолжал садукей. – Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену брату своему, подобно же и второй, и третий, и все. А после всех умерла и жена. Так вот по воскресении мертвых, которое исповедуют фарисеи, чьей же женой она будет? Ведь все семеро жили с нею…
Не было душе Иешуа ничего более чуждого и враждебного, чем все эти бесплодные ухищрения, тем более, что в Писаниях он был слаб.
– А вы думаете, что и по воскресении все будут жениться и выходить замуж? – сказал он.
– Нет, мы, садукей, как ты знаешь, в воскресение не верим… – засмеялись садукей. – Но как, по-твоему, выйдут из такого положения фарисеи?
– Не знаю… – хмуро отвечал Иешуа. – Вы лучше их и спросите…
– А нам говорили, что ты великий законник и все знаешь… – опять рассмеялись они и гордо двинулись к храму.
Иешуа печально смотрел им вслед.
– Два человека вошли раз в храм помолиться… – сказал он. – Один законник, а другой – мытарь. И законник молился в душе своей так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как вон тот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятину со всего, что приобретаю…» А мытарь, стоя вдали, не смел даже глаз поднять в небо, но, ударяя себя в грудь, говорил только: «Господи, буди милостив ко мне, грешному!..» Всякий возвышающий себя – унижен будет, – заключил он, – а унижающий себя возвысится…
Остановившийся послушать его старый фарисей-шамаист с большим красным носом усмехнулся и тяжело зашаркал по каменным плитам портика своими старыми ногами.
Галилеяне спустились во двор Язычников, где на ярком солнце толклись, как всегда, иудеи, египтяне, арабы, идумейцы, греки, римляне, поднялись во двор Женщин и сели в тени, падающей от стены, как раз напротив кружек для сбора пожертвований. И проходили богомольцы, и всякий опускал в кружки, что мог. И вдруг подошла к шуфэрот очень бедно одетая женщина-вдова, вынула две лепты и набожно опустила их в горлышко одной из кружек. Иешуа, который весь этот день был холоден и сумрачен, сразу весь согрелся и просиял.
– Видели? – дрогнул он голосом. – Те давали от избытка своего, а эта отдала последнее, что имела… Вот чего хочет от нас Господь!
– Прости, рабби, но… – замялся Фома, взглянув своими добрыми глазами на Иешуа. – Но… но довольно ли Господу одного этого порыва сердца? Не нужно ли Ему и немножко разумения? Ну, она отдала последнее, а это последнее пойдет не Богу ведь, а в широкие карманы садукеев. А у них и без того довольно…
Фома часто беспокоил так душевный мир Иешуа своими вопросами, но Иешуа любил и его, и это его беспокойство: Фома часто открывал для него новые стороны в жизни. Он задумался.
– Я сужу человека по намерениям его… – сказал он.
– Как бы не ошибиться, рабби… – тихо уронил Фома.
Но все же в общем такие дни в храме – эти бессильные попытки победить равнодушие толпы, эти бесплодные споры, эти насмешки и даже враждебность к нему со стороны людей – чрезвычайно утомляли его, и тогда он незаметно от учеников один уходил в Вифанию, чтобы там в простой и сердечной атмосфере семьи Элеазара отдохнуть душой немного. Иногда это удавалось, а чаще нет: он не мог не видеть тайного горя исхудавшей Мириам, не мог не слушать голоса искусителя, который, предлагая ему простые, но несомненные радости земли, убеждал его бросить бесплодную погоню за пестрой химерой. Тогда он торопливо уходил из Вифании и если встречался в это время с Мириам магдальской, она смотрела на него своими горячими, золотыми глазами и в глубине их была боль нестерпимая. Она ходила за ними всюду, стирала им белье своими недавно нежными руками, варила пищу, готовила ночлег, но – никогда не ходила с ним в Вифанию: она точно догадывалась о чем-то и мучилась… А по ней изнывал не только Манасия, но и сумрачный Иаков Клеопа, который изредка появлялся в городе и, точно убедившись в том, что надежды для него нет, снова исчезал в Галилею. Иешуа втайне все дивился на себя: пошел за счастьем для людей, но не дает он счастья ни людям, ни себе… И он замыкался в себя, молчал, страдал, старался быть один…
Раз в таком вот состоянии крайней усталости и почти отчаяния он поднялся в Вифанию. Как всегда, из-за каменного забора на него, как любопытные головы, выглянули сохнувшие горшки. На дворе никого не было. Он заглянул в раскрытую дверь домика. Мириам, бледная, исхудалая, в надломленной позе сидела у очага. Услышав его, она торопливо встала и устремила на него свои бархатные, полные муки глаза. И, прижав руки к груди, она сквозь слезы повторяла только одно слово:
– Иешуа… Иешуа… Иешуа…
И было в этом слове столько страдания, что он схватился за голову и убежал.
Сам не зная как, он очутился у фонтана, неподалеку от Овчей купели. Надломленный, он опустился на каменную скамью. Рядом нарядно плескал в звездной темноте фонтан. В душе его была ночь, но без звезд… Рядом послышались легкие шаги.
– Один, печальный… – послышался молодой женский голос. – Пойдем со мной до зари в сады… Ночь тепла, все в цвету и ты изопьешь из чаши любви…
Маленькая рука неуверенно легла на его плечо.
– Что же молчишь ты?.. – еще тише проговорила она. – Не тебе одному тяжело. Пойдем и забудешься…
Не подымая головы, он обвил рукой ее тонкий стан и прижался к ее маленькой груди щекой, весь земная боль, весь тоска бескрайняя, весь порыв к личному, если не счастью, то хоть короткому забвению. И она маленькой ручкой нежно гладила его по опушенным бородкой щекам… Она тихонько обернула его лицо к себе и вдруг с подавленным криком ужаса понеслась в темноту: то была маленькая Сарра, дочь Иуды Кериота…
Он снова уронил голову на грудь и из глаз его потекли без усилия тяжелые слезы. Страшен был мир человеческий и он, он сам так бесконечно слаб!..








