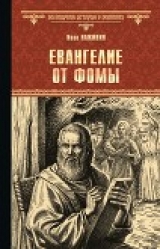
Текст книги "Евангелие от Фомы"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Иван Наживин
Евангелие от Фомы
I
Короткая летняя ночь догорала. За черно-синими горами умирала огромная, бледно-серебристая луна. Бледнели звезды. Где-то поблизости дремотно гулькал ручей.
На пестрой циновке, под старыми пальмами оазиса Энгадди, виднелись две белые фигуры… Два человека в широких белых одеждах ессеев – одной из религиозных иудейских общин. То были: старый, весь точно прозрачный, с большой изжелта-белой бородой и усталыми, грустными глазами – Исмаил, начальник общины, и один из ее членов – галилеянин Иешуа, который, несмотря на его сравнительно молодой возраст, – ему было около тридцати – уже пользовался некоторой известностью как проповедник. Он был роста повыше среднего, смугл и худощав. Сразу приковывало к себе его тихое под пестрой чалмой – судар – лицо, а в особенности эти темные глаза: то были они немножко дики, точно пугливы, как у очень застенчивых детей, то – в моменты глубокого волнения – они вдруг согревались, загорались и освещали не только все лицо, но все существо молодого проповедника каким-то сиянием… Они провели в беседе всю ночь и, оба немного утомленные, сидели теперь погруженные в молчание.
Исмаил вздохнул.
– Все так, все так… – тихо уронил он. – Но мне все же жаль, что ты хочешь оставить нас…
– Не могу я оставаться с вами, рабби… – проникновенно отвечал Иешуа. – Люблю я бедность вашу добровольную и строгость, и чистоту трудовой жизни вашей люблю, мила мне жалость ваша ко всем страдающим и униженным, но многого не могу я принять у вас. Не могу я принять этой вашей постоянной боязни оскверниться, не могу я принять этого вашего горделивого отчуждения от людей только потому, что они не так живут, не так думают, как вы, не могу я принять и этого разделения братьев – ессеев на высших и низших и бесплодных гаданий ваших о том, как был сотворен мир и какие имена были наречены ангелам, ибо знать этого нельзя, да и ни на что это человеку на его трудном пути не нужно… Зайди в любую синагогу, послушай, сколько споров, сколько разделения, сколько вражды между людьми из-за этих мелочей! А если разобрать все это как следует, то все это только жалкие человеческие выдумки… И заметь, рабби: когда дело касается главного, люди почти всегда согласны между собой и, во всяком случае, согласить их не трудно, а как дойдет дело до этих вот мелочей, так и начинаются раздоры, которых ничем не потушишь… А ведь все это только слова…
– Конечно, только слова… – тихо уронил Исмаил. Иешуа взглянул на него согревшимися глазами.
– Не ожидал я от тебя такого слова, рабби! – сказал он.
– Пожалуй, я сам немного виноват во всем этом… – отвечал старец. – Может быть, мне самому нужно было заговорить с тобой об этом в свое время… Да, это, если хочешь, слова, но слова, нужные для детей духа, как нужны ребенку пеленки. Милый, – ласково положил он свою прозрачную, трясущуюся руку на колено Иешуа, – скажи: разве твоя вера теперь такая же, как в то время, когда твой отец учил тебя первой молитве? Или когда ты шел впервые с паломниками в Иерусалим? Или даже когда тебе было двадцать пять лет? И через двадцать пять лет она будет не такой, как теперь. Но есть люди, которые разумом своим всю жизнь пребывают в годах детских, – вот для них-то, детей духа, и нужны эти слова, эти пестрые покровы истины. Ты помнишь, заезжал к нам в Энгадди Филон Александриец?
– Как же… И я беседовал с ним… – отвечал Иешуа. – Мудрый человек…
– Ну, вот… – кивнул своей большой, белой чалмой Исмаил. – Он много рассказывал нам тогда о своих странствиях и о разноверии людском под солнцем… Не одни мы держимся так за слова, не одни мы боимся пустоты вокруг престола Предвечного. То же и у язычников, – у греков, у римлян, у египтян, у всех и всегда, и всюду… И недаром в храме иерусалимском святая святых отделено завесою, входить за которую никто, кроме первосвященника, да и то только раз в год, не смеет. Людям нужны и ангелы, и имена их, и талисманы всякие, и заклинания, и торжественные звуки, и яркие краски, и прекрасные слова, и тайна… Когда выходит сеятель сеять, не глядит ли он, где земля лучше, дабы не погибли напрасно дорогие семена его? Так и мы дорогие семена истины чистой, истины полной бережем за завесою святая святых только для тех, которые могут вместить их…
Глаза Иешуа просияли еще более напряженным чувством – чувствовалось, что в каждое слово он вкладывает всего себя без остатка…
– Прости меня, рабби, но я не могу согласиться с тобой… – сказал он. – Земля у сеятеля вся на виду и он может выбирать, а сердце человеческое тайна, в которой не видно ничего. Ты молчишь, думая, что перед тобой бесплодные камни или солончак, а там тучный чернозем, который скрыт только бурьяном. Но бурьян только потому и густ, что под ним – добрая земля. Сеять надо всю истину, не жалея, а куда упадет доброе семя, где оно погибнет и где даст добрый урожай, того знать не дано нам. Есть и другие причины, почему ухожу я от вас, рабби… – вздохнув, продолжал он и в голосе его послышалось еще большее волнение. – Мне тяжко говорить тебе это, но сказать правду я все же должен. Наша белая ессейская одежда не всегда прикрывает в Энгадди белую душу. И зависть, и борьба за первенство, и сила женщины скрытая, и многое другое и здесь, в тишине оазиса, волнуют и омрачают души людей, как и везде… И выходит перед людьми как бы обман… А потом… вот мы все спрятались в тишине пустыни, нам-то хорошо, – ну, а мир-то как же? Люди рассеяны, как овцы без пастыря, и мучаются, и погибают, жатва была бы, может быть, обильной, но работников нет. Посмотри, как собираются они, как слушают, когда кто обратится к ним со словом от сердца!.. Посмотри, сколько людей тянется к Иоханану на Иордан!.. Мир погибает в страдании, – как же можно уйти от него?
– Мир… – глубоко вздохнул Исмаил, и его грустные глаза сделались еще грустнее. – Большое слово вымолвил ты, милый! Большое слово!Ох, не всякому под силу иметь дело с миром! Хоть бы немногих-то удержать от погибели, хоть бы немногих просветить светом божественным!.. Но скажи, милый, старику: нет ли в мире чего такого, что манило бы тебя? Ты ведь еще так молод…
И пытливо из-под густых бровей он посмотрел своими ласковыми, усталыми глазами в загорелое лицо Иешуа, чуть озаренное первым нежным отсветом зари, рождающейся за фиолетовыми горами Моаба.
Иешуа чуть смутился. В душе встал прелестный образ чернокудрой Мириам. Но он решительно поднял глаза на старого рабби.
– Нет, рабби, нет в мире ничего такого, что заставило бы меня свернуть с избранного пути… – сказал он. – Я следую только велению Господа, голос Которого я слышу в своем сердце…
– Да благословит Господь путь твой!.. – проникновенно сказал старый ессей. – Великие испытания готовишь ты себе: не любит мир, ох, не любит, когда ему мешают!.. И слишком хорошо думаешь ты о человеке: он обманул уже многих и крепко… Но да благословит Господь путь твой, милый…
Среди высокоствольных пальм замелькала в отдалении белая фигура ессея. Он подошел к деревянному билу и звонкие звуки его вдруг запели в тишине. Вскоре пустой до того сад наполнился белыми, молчаливыми фигурами, которые торопливо собирались на берегу розового от зари водоема. По луговине, к воде, доцветали последние анемоны…
Ессеи один за другим погружались в розовую воду и, снова облекшись в свои широкие, белые одежды, стекались на широкой поляне среди пальм, кружевные верхушки которых уже рдели под первым поцелуем еще невидного солнца. Одни рабби учили, что утреннюю молитву надо начинать, как только глаз может отличить голубой цвет от белого, но другие, более осторожные, предпочитали ждать до тех пор, пока можно отличить голубой цвет от зеленого, чтобы быть уже вполне уверенным, что день, действительно, уже начался. Ессеи же ждали появления солнца. Все стояли лицом к Иерусалиму. Старый Исмаил и Иешуа тоже совершили в благоговейном молчании строго предписанное обычаем ессеев погружение в воду, и в то время как Иешуа смешался с белой толпой ессев, Исмаил стал впереди всех. И все, выжидая, склонили головы в сосредоточенном молчании…
И вдруг из-за фиолетовых зубчатых вершин ярким углем выдвинулся край солнца.
– Вознесем Господу молитву света! – в торжественной тишине раздался старческий голос Исмаила. – Благословен еси, Господи, Бог наш и Царь вселенной, создавший свет и мрак, миротворец, творец всего сущего!..
Иешуа любил молитву, хотя он и разделял мнение, что «лучшая молитва это молчание», и всей душой присоединялся к пожеланию одного из законоучителей, который воскликнул как-то: «Да соизволит Господь, чтобы человек молился целый день!..» Но теперь, перед своим решительным шагом, Иешуа был слишком взволнован и на этот раз молился рассеянно. Точно проверяя свое решение, он просматривал всю свою жизнь: и солнечное детство в тихом, зеленом Назарете, и первое паломничество, такое яркое, такое волнующее, в Иерусалим, когда ему исполнилось двенадцать лет, и эта ужасная встреча с повстанцами Иуды Галонита, которых римляне вели на страшную казнь, и тихая, трудовая жизнь в милой, веселой Галилее, и думы над бедствиями родного народа, и свой уход в ряды повстанцев, борцов за свободу…
– Вознесем Господу молитву любви! – точно издали слышал он старческий голос Исмаила. – Великою, вечною любовью Ты возлюбил нас, Владыка, дом Израиля, и чрезмерными милостями Ты осыпал нас. И как дал Ты праотцам нашим Закон свой святой, так помилуй и нас, учи, наставляй нас на путях жизни…
Но Иешуа был в прошлом и настоящем вместе, полный одного желания: до конца разгадать загадку жизни, понять, к чему все это было, предугадать те ее пути, на которые он теперь с взволнованной душой вступал.
– Слушай, Израиль: Господь Бог твой един есть… – проникновенно подымались над склоненными головами ессеев святые слова. – Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею… И да будут слова сии, которые я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая… И навяжи их в знак на руку твою и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяке дома твоего и на воротах твоих…
…О, эти холодные, звездные ночи в безлюдных, бесплодных, страшных – в них гнездились духи тьмы – горах, у огней, в ожидании кровавого боя!..
– Благословен буди Предвечный Бог наш, Бог праотцев наших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова… – весь теплясь, взывал в пылающее небо старый Исмаил, – Бог великий, сильный, страшный…
…И были соблазны жгучие, был грех, были слезы раскаяния…
– Ты скала жизни нашей, Ты щит спасения нашего из рода в род! – пламенел старец Исмаил. – Благодарения и хвалу да воздают Имени Твоему святому и великому за жизнь, которую Ты даровал нам, за души наши, Тобою хранимые, за все чудеса, за все добро, которыми Ты окружил нас – и утром, и днем, и тихим вечером…
Солнце поднялось над горами. Сквозь пальмы проступило сверкающее, но безжизненное Мертвое море, на дне которого вечным сном спали когда-то цветущие Содом и Гоморра, и радостно засияли вокруг спящего озерка в оазисе красные огоньки анемонов.
– Свят, свят, свят Господь Саваоф, – весь сотрясаясь, повторял Исмаил, – исполнь небо и земля славы Твоея!..
– Свят, свят, свят Господь Саваоф! – отзывались торжественно белые фигуры. – Свят, свят, свят…
И, когда кончилась молитва, Иешуа приблизился к старому Исмаилу, чтобы проститься с ним.
– Труден будет путь твой, милый… – взволнованно благословив его, сказал старец. – И, когда тяжко ранит тебя жизнь, вспомни, милый, что в тихом Энгадди местечко для тебя всегда найдется…
II
Пышно-зеленый и жаркий, весь в кружеве роскошных пальм своих, Иерихон со всеми своими садами, красивыми домами иерусалимских богачей, театрами остался позади. И Иешуа, еще более загорелый, весь покрытый белой известковой пылью дорог, спускался среди тучных нив в зеленую долину Иордана. Солнечная дорога была пустынна, но ему не нужно было никого, чтобы найти путь: он отлично знал эти прекрасные места, своим плодородием и пышностью так напоминавшие ему его Галилею.
Чем ближе подходил он к реке, – ее близость сказывалась сладостным ощущением прохлады – тем пышнее и пышнее становилась вокруг него растительность долины. Тамариск, теребинт, зонтичная акация, пальмы, Орехи, фиги, огромные яворы, золотые мимозы, все это, смешавшись, образовывало какие-то пышные, зеленые, полные сладостной тени чертоги. В густых зарослях уже Отцветшего олеандра допевал свои последние песни соловей, а от реки напевно и нежно доносилось кукование последней кукушки. Где-то сзади, в хлебах, четко били перепела, а впереди, над водой, проносились иногда дикие утки, журавли, аисты, тяжелые пеликаны и розовые фламинго.
– Шеломалейхем!
Он поднял глаза. У дороги, на камне, в густой тени сидел человек лет тридцати пяти, невысокого роста, худощавый. Одежда его говорила, что живет он небогато, но без нужды. И прежде всего бросался в глаза его большой выпуклый лоб, затененный белой чалмой, и эти глаза, мягко глядящие точно из самой глубины души и Как будто немного печальные.
– На Иордан? К Иоханану? – спросил своим слабым голосом незнакомец, когда Иешуа ответил ему на приветствие.
– К Иоханану… – отвечал Иешуа. – Ты не знаешь, где он теперь крестит?
– Должно быть, в Вифаваре… – надтреснутым голосом своим сказал тот. – Если хочешь, пойдем вместе послушаем, что он там говорит…
– Пойдем… Ты тоже галилеянин?
– Да…
Солнечной, бело-пыльной дорогой они пошли дальше. Река чувствовалась уже совсем близко. Вдали, над деревьями, громоздились суровые, скалистые горы. И жарко струились солнечным светом точно горящие дали…
Оказалось, что незнакомца зовут Фомой, что раньше он служил у богатых купцов, побывал по торговым делам и в шумной, белой Александрии, и на островах, где кипит веселая эллинская жизнь, и в самой Элладе, и в могучем Риме, и даже на далеком и суровом Понте. Бродячая и шумная жизнь эта, отягченная всякой неправдой торговой, утомила Фому и теперь он думал устроиться где-нибудь в тишине и кормиться от земли…
– А большую волну пустил Иоханан по народу… – задумчиво проговорил Фома. – Старики говорят, что восстал сам Илия, чтобы – он чуть улыбнулся – возвратить сердца отцов детям и непокорливым образ мыслей праведников. Другие, что погорячее, прямо Мессией его объявляют… А законники крепко сердятся: не любят они, когда что помимо их делается!..
Иешуа сбоку, украдкой, посмотрел на него: в тоне Фомы было что-то особенное, как будто недосказанное.
– Да ты сам-то что о нем думаешь? – спросил Иешуа, помолчав и следя своими застенчивыми глазами за причудливым узором босых ног и сандалий по пыльной и жаркой дороге.
– А вот послушаем, посмотрим, тогда и видно будет… – отвечал Фома и улыбнулся хорошей, задушевной улыбкой, которая сразу сказала Иешуа, что его случайный спутник прежде всего добрый человек.
Они вышли на отмель светлого Иордана, быстро несшего свои теперь, к лету, скудные воды в Мертвое море. Проповедник Иоханан, как сообщил встречный мальчик-пастух, был не в Вифаваре, а в Эноне, близ Селима, где Иордан, точно отдыхая от дальнего бега, раскидывался среди олеандров и папирусов широким, светлым зеркалом, над которым ясно улыбалось голубое бездонное небо и носилась всякая водяная птица. Вдали, на высокой базальтовой скале, хмурился Махеронт, грозная крепость, в которой теперь Ирод Антипа, тетрарх, готовился к войне с кочевниками. А за крепостью, среди лиловых гор Моаба, четко вырисовывалась опаленная вершина горы Нэво, где некогда таинственно скончался Моисей…
Жизнь представлялась здесь, в прохладе, в зелени, на берегу солнечной реки, веселым праздником, но собравшиеся на отмели, у самой воды, люди, – их было сотни две – казалось, совсем не чувствовали этого: боязливо сжавшись душой, они сосредоточенно слушали суровую речь проповедника, высокого, иссохшего, точно опаленного человека в грубой, рваной и неопрятной одежде, с копной черных, нечесаных волос и гневными на все глазами…
– Что говорите вы, что вы сыны Авраамовы?.. – гремел Иоханан своим грубым голосом и глаза его сверкали исступленным гневом. – Господь может сделать детей Аврааму из придорожных камней вот этих! Оставьте гордыню вашу, ибо день великого гнева уже близок, уже лежит секира при корнях дерева и скоро будет оно брошено в огонь неугасимый… Покайтесь же пока не поздно!..
Вдоль спин его слушателей пробегал холодок и боязливо сжимались их души…
Иоханан, родом из Ютты близ Геброна, происходил из священнической семьи и с рождения был назиром[1]1
Название это неправильно отожествляется с появившимся гораздо позже словом «назорей», имевшим совсем иное значение. Назореи это секта аскетов, которые вели жизнь простых кочевников, жили в шатрах, не занимались земледелием и не пили вина. Это были бунтовщики против и тогда сомнительных благ культуры.
[Закрыть], то есть посвященным Богу, и как таковой не стриг никогда волос, сурово постился и подвергал себя всяческим лишениям. Окружавшая его пустыня – суровая, бесплодная, страшная – с ранних лет точно заколдовала эту горячую душу и наложила на нее печать вечной угрюмой печали и озлобления против всей жизни с ее улыбками и цветами. Он одевался в рубище, питался только Саранчой – блюдо, распространенное в тех местах и поныне – и диким медом, который он собирал в расщелинах скал, и, хмурый, жил один среди гиен, шакалов и Мертвых камней. Если на пути его вставала радость, он торопился растоптать ее, а если посылала ему судьба испытание, то он сам удесятерял его тяжесть, может быть, для того, чтобы иметь право бросить в лицо грешному миру свои тяжкие, колючие обвинения… Он невольно подражал древним пророкам, невольно как бы рядился в венцы их славы. И силою своего огневого слова и страшного примера он покорил себе несколько сердец, и люди эти стали его верными учениками, бросили все, что имели, и, всегда хмурые и унылые, ревностно истребляли всякие радости как в своей личной жизни, так и в жизни вообще. Казалось, что если бы они могли, они потушили бы и самое солнце… И в этой вечной скорби, злобе и тоске и учитель, и ученики находили своеобразную усладу.
Иоханан знал, что некоторые видят в нем Мессию, освободителя, он сурово отталкивал от себя эту головокружительную, но страшную роль, и в то же время, вопреки его воле, в душе его иногда шептал какой-то голос: а что, если?.. И он точно вырастал тогда и еще горячее, еще грознее гремел против лукавых садукеев, против высохших в бесплодных словопрениях фарисеев, а в особенности против бессердечных богачей. Влияние его росло с каждым днем, и он закреплял душевный перелом в душе своих последователей купанием как символом отречения от жизни старой и приятия грядущей, в корне обновленной жизни[2]2
Ничего нового, однако, в купании Иоханана не было: фарисеи, очень заботившиеся о распространении иудейства среди язычников, тоже – перед обрезанием – купали обращенных.
[Закрыть].
– Горе вам, богатые! – исступленно гремел Иоханан, стоя на камне над толпой, волосатый, дикий, весь точно в огне. – Горе вам, ныне пресыщенные, ибо вы узнаете, что такое голод! Горе вам, ныне смеющиеся, ибо вы узнаете, что такое слезы и стоны! Он, – зловеще воскликнул проповедник, – он стоит уже у дверей и стучит!..
В смятенной толпе послышались рыдания. Некоторые, побледнев, закрыли лица руками. И все пугливо надвинулись к гремящему проповеднику.
– Каемся, каемся… – слышались взволнованные, робкие голоса.
– Возлей же на нас воду скорее…
И Иоханан, сойдя с камня, все такой же грозный, точно весь заряженный громами и ярыми молниями, зачерпнул огромными и грязными руками своими светлой, прохладной воды в напоенной солнцем реке и торжественно возлил ее на чью-то седую, набожно склоненную голову…
– Нет, недоброе сердце в нем… – раздумчиво, но решительно проговорил вдруг Фома. – Он свою правду больше любит, чем людей. Людям все равно, за что ты бьешь их, за дело или без дела, им все больно…
Иешуа рассеянно посмотрел на него. Он был весь переполнен своим. Та новая просветленная, вся Божья жизнь, о которой он столько думал, по которой так томился, вдруг почти осязаемо забродила теперь вокруг него. Да, уничтожить тяжкую власть законников и богачей, снять с истомленных плеч людей ярмо, – с одних бедности, с других богатства – оросить их иссохшие сердца живою водою слова, идущего из сердца, – вот, вот только одно усилие еще, и вся жизнь зацветет, как зеленый луг нежными лилиями по весне, и жалкий, от века приниженный человек станет человеком свободным, таким, каким он должен быть, ибо не сын ли он Божий?.. Ведь он, Иешуа, не один со своими думами – вот Иоханан с грозовым словом своим, вот его ученики, добровольно во имя Господа отрекшиеся от всех утех жизни, вот все эти бедные люди, которые толпятся около пророка в трепетном ожидании, когда он, освобождая их от прежней греховной жизни, прольет на голову их чистой Божьей воды…
Да, и он в эти торжественные минуты последнего прощания со своей прежней жизнью, со всеми ее блужданиями бездорожными, искушениями и грехами, должен принять это очищение водное и с этого дня начать решительно и раз навсегда ту новую жизнь, которая неудержимо наливалась в нем, как наливаются по весне почки на деревьях. И, не обращая внимания на Фому, который говорил рядам с ним что-то ласковое, он решительно шагнул к Иоханану.
Проповедник остановил на нем свои гневные глаза. Он встречался уже с Иешуа, слышал его речи, видел, как жадно слушает его народ, и сам даже говорил с ним раз-другой, но сегодня он не узнавал его: так одухотворенно было это смуглое, опушенное черной бородкой лицо, с такой необыкновенной силой сияли эти темные, застенчивые глаза.
– Ты хочешь, чтобы и на тебя я возлил воду? – спросил Иоханан.
– Да… – взволнованно отвечал Иешуа. – Я хочу этого – в знак вступления в новую жизнь…
Он снял свой потный судар, снял верхний плащ, талит, со священной бахромой по рукавам и, оставшись в одной светлой тунике, благоговейно склонил голову… Еще мгновение и всем своим существом он радостно ощутил благодатную свежесть воды, которая пролилась ему на голову и крупными алмазами, сверкая и звеня, закапала с его волос в реку…
Взволнованный и сияющий, Иешуа замотал судар, перекинул через плечо свой коричневый плащ, от которого пахло пылью, и, потупившись, медленно пошел зелеными пышными зарослями к горам заиорданским, сам не зная ни куда, ни зачем…
В сияющем небе, широко раскинув крылья, летел к далекому, мрачному Махеронту большой горный орел…








