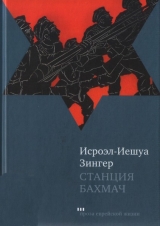
Текст книги "Станция Бахмач"
Автор книги: Исроэл-Иешуа Зингер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Станция Бахмач
Эпизод времен русской революции
Здание бывшего банка, похожее на собор, было полно мужчин, женщин, детей, коробок, мешков, пишущих машинок и разбросанных бумаг. На почетном месте, рядом с сохранившимся портретом основателя банка, барина с бакенбардами и медалями, висели плохо напечатанные портреты пышноволосого Карла Маркса, лысого Ленина и остробородого Троцкого. Над ними простирался красный транспарант с белой надписью, возвещавшей о том, что вся власть принадлежит Советам.
Резные мраморные стены и колонны были залеплены объявлениями и распоряжениями, бесчисленными распоряжениями, напечатанными или написанными на плохой бумаге. Среди официальных распоряжений висело множество частных объявлений о пропавших близких с просьбой к добросердечным гражданам откликнуться, если тем что-то известно; о потерянных вещах; о поисках ночлега.
За зарешеченными банковскими окошками, где когда-то принимали и выдавали деньги, сидели плохо одетые служащие: нестриженые и небритые молодые люди, растрепанные или коротко стриженные девушки. Очереди к окошкам, длинные, извивающиеся, состояли из мужчин и женщин, эвакуированных из Киева, который был занят польской армией. Измятые, невыспавшиеся, усталые, разбитые, растерявшиеся в чужом краю, они осаждали окошки со служащими, выпрашивая хлеб, одежду, угол, где можно приклонить голову. Одни искали вещи, которые у них пропали в дороге, другие – родственников, с которыми они разлучились в хаосе бегства. Мужья искали жен; жены – мужей; родители – детей. Служащие, не зная, что посоветовать этим людям, посылали их от одного окошка к другому, спрашивали документы, просили прийти позже, завтра, послезавтра, только не сегодня. Одна женщина, маленькая, худенькая, как ребенок, но со взрослым бледным личиком, состоявшим, казалось, из одних глаз, удивительно больших, удивительно печальных и полубезумных, не переставая бродила от окошка к окошку, от человека к человеку и у каждого спрашивала о муже, с которым она сошлась всего за день до начала вражеского наступления и которого назавтра, при бегстве из осажденного города, потеряла.
– А как его фамилия? – спрашивали ее люди. – Откуда он? Чем занимается?
– Я его не спрашивала, люди добрые, – отвечала мечущаяся женщина, – я знаю только, что его зовут Сережа, что он очень милый, блондин с голубыми глазами…
Даже бесприютные люди в здании банка не могли не рассмеяться над такими приметами в огромной стране голубоглазых блондинов.
– Как можно не знать фамилию собственного мужа? – насмешливо спрашивали ее женщины.
– Его зовут Сережа, и он очень милый, ангел мой, – отвечала им женщина с безумными глазами.
Она не переставала ходить от одного к другому, несмотря на то что над ней смеялись. При этом она не выпускала из рук грязную собачонку, больное существо, которое она все время ласкала, ерошила и которому говорила ласковые слова, точно мать новорожденному первенцу.
– Успокойся, душа моя, мы найдем нашего родненького Сережу, – обнадеживала она грязную собачонку, которая лежала, поглощенная немой животной болью, как будто знала, что ей уже недолго осталось мучиться.
Среди тех, кто искал свои потерявшиеся семьи, был и я.
Наступление на столицу Украины, где я жил, грянуло как гром среди ясного неба. Всего двумя днями раньше командующий городским гарнизоном уверял, что врагу не видать красной столицы революционной украинской земли как своих ушей. Рабочие даже украсили улицы и здания множеством красных полотнищ к приближающемуся празднику Первомая. Вдруг, как раз за пару дней до Первого мая, Красная армия отступила, и началась спешная эвакуация города. Сытый погромами и издевательствами петлюровских, деникинских и других армий и банд, которые грабили и убивали сынов Израиля, как входя в святой Киев-град, так и оставляя его, я не хотел снова пережить вступление очередной армии, взял свою семью и пустился куда глаза глядят.
На вокзалах мужчины дубасили друг друга кулаками из-за места в теплушке; женщины таскали друг друга за волосы, падали в обморок; дети вопили; люди лезли в вагоны через двери и окна. Сам не знаю, как мою семью впихнули в вагон. Когда я хотел последовать за ними, какой-то солдат преградил мне дорогу блестящим острием штыка, приставив его к моей исхудалой груди.
– Ни с места, проткну! – сказал он.
По его суровому лицу и неподвижному взгляду я понял, что он это сделает. Поезд ушел. В ужасной давке я не смог даже разглядеть моих исчезнувших близких. Мне, как и тысячам других, не севших в поезд, остались только стук колес и дым.
На берегу Днепра паника у кораблей была такой же большой, как на вокзалах. На одном белом корабле капитан, встав у штурвала, в рупор умолял людей не осаждать его пароход.
– Товарищи, судно не может взять больше, – предупреждал он, – вы утонете.
Никто не слушал его, и толпа волнами вливалась на корабль.
Подхваченный толпой, я попал внутрь. Одуревшие матросы бегали вокруг и тумаками гнали толпу от бортов на середину палубы.
– Пошли вон, черти, перевесите с одного борта и потопите судно! – надрывали они глотки.
Пароход шел медленно, все время пыхтя и свистя. С зеленых берегов возле местечка Канев, где с горы на нас смотрел белый памятник украинскому поэту Шевченко, на пароход вдруг невесть откуда посыпался град ружейных пуль. Капитан громко закричал:
– Полный вперед!
Мы пошли дальше вдоль живописных, но опасных берегов Днепра: миновали Черкассы, Кременчуг, другие города и местечки. Наконец, то тащась, то останавливаясь, мы прибыли в Екатеринослав, город, который князь Потемкин построил для своей царицы и любовницы – Екатерины.
Чужаком бродил я по красивому южному городу на Днепре. Ночью спал в Потемкинском парке, дни проводил в разных учреждениях с дикими названиями, простаивал в длинных очередях и пытался выяснить, куда ушел поезд с моей потерянной семьей.
Никто ничего не знал, ничто не обслуживало штатских – ни телеграф, ни почта, ни телефон, ни железная дорога. Все было занято военными. По широкому городскому проспекту двигались массы всадников казачьей армии Буденного. Они скакали прогонять врага из столицы Украины. На низкорослых сибирских лошадках тянулись нескончаемые вереницы конников, загорелых, покрытых пылью, дико и с любопытством глядевших по сторонам, бородатых, лохматых, чубатых, в косматых малахаях и папахах, несмотря на испепеляющее солнце, с ружьями и пиками, с кинжалами и отделанными серебром кавказскими шашками и ножами. Вместе с мужчинами ехали верхом их жены, такие же загорелые, запыленные, нетерпеливые и весело-воинственные, как их мужья; мощными голосами всадники пели свои протяжные дикие песни об Урал-реке, о боях и разгуле.
За Уралом за рекой
Казаки гуляли,
Хей-хей, бей, гуляй,
Казаки гуляли…
Городские служащие, неопытные новички, запутавшиеся в хаосе ежедневных новых законов и распоряжений, не знали, что делать с потопом людей и багажа, который все время прибывал с эвакуированных территорий.
– Мы не знаем, придите позже, оставьте нас в покое, – отвечали они из окошек.
После нескольких дней беготни от служащего к служащему я пробился к старшему. Выслушав первые слова моей просьбы, он остановил меня одним-единственным словом:
– Замкомпоэвакюг!
Я хотел было переспросить его, что значит это фантастическое слово. Красноармеец, стоявший на часах, приказал мне идти и не задерживать очередь.
С большим трудом до меня дошло, что это слово – сокращенное название должности заместителя комиссара по эвакуации Южного фронта, к которому мне следует обратиться с моей просьбой.
Сотни уже стояли передо мной в очереди к этому важному начальнику.
После нескольких дней ожидания я пробился к нему. Этот « замкомпоэвакюг» оказался всего-навсего молодым пареньком, с девичьими румяными щечками, поросшими светлым мягким пушком. Он сидел в фуражке, окутанный облаками махорочного дыма.
– Какой был номер поезда, на котором ваши уехали? – спросил он.
– Я не знаю, – ответил я.
– А мне откуда знать, товарищ? – спросил он в свою очередь, со смехом выпуская изо рта дым. – Ищи иголку в стоге сена!
Я последовал его совету и стал искать иголку в стоге сена.
Я пустился наобум, вопреки всем законам и распоряжениям, вопреки всем доводам рассудка. Меня завертело в хаосе революции и Гражданской войны. Я ездил зайцем на крышах поездов, висел на буферах, устраивал себе укрытие в вагонах с каменным углем. Однажды молодой политрук, который доставлял лошадей для армии, подвез меня часть пути вместе со своими лошадьми. За это я зубрил с ним немецкие слова, которые он очень хотел выучить, но ему никак не удавалось их прожевать своим русским ртом. В другой раз мой поезд остановился посреди степи недалеко от станции Синельниково. Я точно не помню, было это у Синельниково-1 или у Синельниково-2, зато я помню, что поезд всю ночь простоял с погашенными огнями в чистом поле. Даже курить запрещалось. Всевозможные зловещие слухи разносились в темной ночной степи. Поговаривали, что железнодорожные пути перерезаны саботажниками, что из разбойничьего гнезда Гуляйполе на нас надвигаются банды, что атаманша Маруся, которую называли Маруся-босячка, приближается к нам со своими всадниками.
Несколько недель таскался я по прекрасной украинской земле: где дневал, не ночевал, где ночевал, не дневал. В Харькове я наткнулся на людей, которые уехали на киевском поезде. Они сказали мне, что моя семья должна быть в городе Сумы. Там я ее не нашел и направился в Полтаву, где, как предполагалось, она должна была быть. В Полтаве мне посоветовали ехать в другой город, в некое местечко Константиновград, под Полтавой. Наконец после двухмесячных поисков я нашел моих в этом местечке с длинным названием.
Местечко было маленьким и тихим. Опустевшие улицы были покрыты соломой, лошадиным и воловьим навозом. Ленивые крестьяне тащились по ним на телегах, запряженных волами, покуривая трубки и понукая своих спокойных волов ленивым «цоб-цобе». Русские вывески на лавках были замазаны, и на них были наскоро намалеваны украинские надписи, чтобы крестьяне могли их прочесть. Но крестьяне и крестьянки ничего не могли достать в этих лавках – ни керосина, ни соли, ни табака, ни даже колесной мази. Тяжелые двери лавок были заколочены. На ржавых замках висели сургучные печати, а на стенах – объявления о том, что частная торговля упразднена, конфискованные лавки находятся в распоряжении Советов и закрыты вплоть до дальнейших указаний. Крестьяне туповато пялились на развешанные повсюду портреты остробородого Троцкого, этого антихриста, под властью которого теперь нет ни Бога, ни торговли.
Единственным местом, где велась торговля, была большая круглая рыночная площадь. Бумажных денег никто не брал. Но заплатанную рубаху можно было обменять на мешок картошки; пару старых штанов – на пуд ржаной муки; за иголку давали целую дюжину тыкв. Никогда в жизни я не видел таких больших вкусных тыкв, как в этом местечке.
Мне было нечего делать в этом захолустье. Но ехать было некуда, да и невозможно. Я снял с себя последнее, отнес это на базар и обменял на картошку и тыквы. Небольшой хлебный паек мы получали за работу моей жены в расквартированном в местечке военном госпитале. Жили мы в комнатке, в доме, который принадлежал человеку, бежавшему от революции. Кем уж он там был, что ему пришлось спасаться от советской власти – исправником или попом, – неизвестно. Но кем бы он ни был, это был очень благочестивый православный христианин, потому что в каждой комнате его просторного дома висели иконы, всевозможные иконы, маленькие, средние, большие и совсем большие, в тяжелых старинных черных рамах, в резных окладах; даже в чуланах висели иконы. Мой сосед, худой, светловолосый украинский хлопец, военный комиссар, каждый день снимал очередной святой образ, колол его на щепки и на них варил себе свой скудный обед. Когда в его горшках все было готово, он пускал меня поставить несколько картофелин на святой огонь. Но в основном мы питались тыквами.
Дни стояли долгие, просторные. Солнце садилось в двенадцать часов ночи. Ему приходилось садиться так поздно, потому что для экономии керосина и свечей советская власть перевела часы на целых четыре часа вперед. Из-за того что оно, это летнее солнце, так запаздывало с заходом, оно запаздывало и с восходом поутру. Оно поднималось на востоке не раньше восьми часов. Рассвет был настолько поздним, что люди вставали как раз с первыми лучами. Долгие жаркие дни тянулись, как смола. Даже газеты не доходили. Я ничего не знал о том, что творится во взбудораженном мире за пределами этого захолустья. Только военные похороны вносили разнообразие в монотонное существование. День за днем, минута в минуту, из военного госпиталя выносили очередного солдата, умершего от ран, полученных на поле боя, или от сыпняка. Низкорослый начальник госпиталя Козюлин, обрусевший еврей с калмыковатым лицом и русской фамилией, устраивал очень торжественные проводы умерших в его госпитале солдат: на телеге, покрытой красным знаменем, в сопровождении нескольких солдат с винтовками и даже духового оркестра из трех труб, на которых играли военные санитары из госпиталя. Мой сосед, военный комиссар, держал над каждой свежей могилой одну и ту же речь о том, что павший принес себя в жертву революции, и уверял его, павшего, что мировой пролетариат запишет его имя среди имен своих героев. Кроме этих похорон, ничего больше не происходило в заброшенном местечке. От великой скуки мне пришло в голову попробовать что-нибудь написать. Но у меня не было ни чернил, ни перьев, ни бумаги. Купить что-нибудь было невозможно. На рынке таких товаров не было. Я отправился в учреждение, заведовавшее конфискованными лавками, чтобы попросить письменные принадлежности. Пожилой украинец в широких шароварах и с огромными вислыми усами, похожий на казака – персонажа гоголевской прозы, сказал мне по-украински, что я должен написать прошение, и к тому же на местном наречии. Несмотря на то что я не мог написать ни слова по-украински, я согласно покивал головой в ответ на требование усатого служащего, помня, что советуют евреи в таком случае: пиши на русском с ошибками и выйдет хороший украинский.
– Дайте мне чернила и перо, и я напишу прошение, – сказал я по-русски пополам с польскими словами, чтобы умилостивить дотошного украинца.
– Чтобы получить письменные принадлежности для написания прошения, вы должны написать прошение, – с торжественной официальностью ответил мне гоголевский герой.
– Но как же я могу написать прошение без письменных принадлежностей?
– Тогда не пишите, – посоветовал мне гоголевский казак.
– Но мне же нужны письменные принадлежности!
– Тогда пишите прошение!..
Это был замкнутый круг, не выбраться.
Мой сосед, комиссар, раздобыл для меня огрызок карандаша и пачку судебных протоколов, каллиграфически исписанных опытным канцелярским писарем еще при царском режиме. Это были пожелтевшие старые протоколы процесса над убийцей по фамилии Миколюк, который убил целую семью в своей деревне, приревновав молодую крестьянку: он хотел на ней жениться, а семья девушки не хотела ее отдать за него. Этот романтический убийца Миколюк все время стоял у меня перед глазами и мешал мне писать. Я представлял себе его, крестьянскую девушку, в которую он был влюблен, ее родителей, братьев и сестер, которые помешали сватовству. Я так ясно видел каждого из них, их фигуры, одежду и лица, как будто был с ними близко знаком. Я слышал их голоса, их споры и перебранки с молодым Миколюком, которого они не хотели впустить в свою семью. Они так въелись в меня, все эти люди из заброшенной русской деревни, которые уже несколько десятков лет были на том свете, вместе, вероятно, со своим убийцей Миколюком, что я никак не мог собраться с мыслями и написать задуманную историю. Поэтому я то и дело вымарывал мои еврейские слова, убористо вписанные между каллиграфических строк русских судебных протоколов.
Я хотел уже было остаться на целое лето и, может быть, даже на зиму в придачу в этом местечке, где были такие дешевые тыквы. Но революция гналась за мной и добралась-таки в этот заброшенный угол.
Однажды утром частая стрельба стала доноситься с окраины местечка. Мой сосед, военный комиссар, посреди стряпни бросил на огне из икон свои горшки и поднял по тревоге маленькую воинскую часть, стоявшую в местечке. Хотя никто не видел наступавших, было известно, что это банды батьки Махно, которыми кишела Южная Украина и которые всегда вырастали как из-под земли там, где их не ждали. Даже санитаров из военного госпиталя, вместе с тремя трубачами из духового оркестра тощий комиссар снял с работы и вооружил винтовками, чтобы отразить врага. Высокий светловолосый комиссар вышел, держась так прямо, что винтовка на его плече выглядела продолжением гибкого тела. Он и сам был как винтовка. Когда после целого дня тяжелых боев комиссар не смог отогнать наступавших, то послал конного за помощью в соседний гарнизон, где стояли подразделения интернационального полка.
Иностранные бойцы – венгерские гусары, немецкие спартаковцы, латыши, китайцы, несколько галицийских евреев, пленных австрийских солдат из императорской и королевской армии Франца-Иосифа – очень гордо промаршировали через местечко навстречу врагам революции. Но их возвращение было плачевным. Враг взял их в клещи с нескольких сторон. Победители даже не стреляли в них, только рубили саблями в капусту. На следующий день десятки крестьянских подвод, запряженных волами, которых погоняли крестьянки, привезли куски человеческих тел с поля боя.
Потом и мой сосед-комиссар вернулся с поля боя, прогнав наконец напавших на местечко. Его длинное туловище казалось еще более тощим, чем обычно, он был грязен и мрачен. Его речь над братской могилой павших иностранцев была на этот раз такой же пламенной, как огонь от икон, которые он жег. Несколько часов после этого он смазывал и чистил свою винтовку, сидя перед домом.
– Ей требуется хорошая чистка, – бормотал он, – своими собственными руками я тридцать из них поставил к стенке и отправил в штаб Духонина.
Штаб царского генерала Духонина был уже давно на том свете.
Позже худой комиссар особенно усердно рубил иконы на пороге дома. Но недолго оставалось ему готовить свою еду на святых образах Бога и Его Матери.
С Крымского полуострова через Перекоп двинулась на богатые украинские земли белогвардейская армия барона Врангеля. Несмотря на то что она была еще куда как далеко, ее появления уже ждали на дороге в Полтаву. Я знал, что у меня есть все возможности найти себе место в братской могиле, среди солдат интернационального полка, зарубленных на чужой земле. И я оставил на самой середине протоколы суда над убийцей Миколюком, в которые втискивал мои еврейские буквы, и пустился наутек из южного местечка, которое в тот год небеса благословили тыквами.
Моей семье пришлось уехать с военным госпиталем, который временно эвакуировали в более безопасное место. Мне нельзя было уехать с госпиталем легально. Ехать нелегально тоже было невозможно. Все поезда были заняты под армейские части и эвакуируемые учреждения. Повсюду было объявлено военное положение. Все учреждения теперь подчинялись военным. Чтобы получить разрешение на выезд из этих мест, я отправился в уездную ЧК: только она могла повлиять на железнодорожное начальство. В прокуренной комнате, полной мух, которые жужжали вокруг керосиновой лампы и чернильницы, стоявших на грубо сколоченном длинном столе, сидел пепельноволосый тип с глубокими, резкими и темными морщинами на чугунном лице. На нем были солдатские штаны и фуфайка, а его широкие ступни были босы. Сапоги стояли рядом с ним так прочно, словно ноги все еще были вдеты в голенища. На столе лежали нарезанный хлеб и револьвер, такой же твердый и черный, как этот босоногий человек, который выглядел так, будто много лет был шахтером или сталеваром на металлургическом заводе.
– Чего тебе? – спросил меня босоногий, обращаясь ко мне на «ты».
– Я хочу видеть товарища комиссара, – сказал я.
– Это я, чего надо? – ответил босоногий тяжелым, спокойным, неприветливым голосом.
Я рассказал ему, как очутился здесь и что хочу вернуться в Киев, откуда враг был уже выбит и теперь его гнали дальше.
Босоногий поглядел на меня угрюмым взглядом, полным недоверия и подозрений. Он стал задавать мне короткие, рубленые вопросы:
– Кто ты? Откуда? Чем занимаешься?
– Пишу.
– В каком советском учреждении ты пишешь?
Я разъяснил ему, что я не писарь в учреждении, а писатель. Он не понял. Я растолковал ему на все лады, что пишу книги, сочиняю истории. Его глаза глядели на меня со все большим недоверием.
– Зачем ты все это пишешь? – хотел он знать. – Кому это нужно?
Я и сам не знал, зачем я все это пишу. Еще меньше я знал, кому это нужно. Никому не были нужны мои первые пробы пера, особенно в такое время. Мне нечего было ответить. Босоногий человек окинул меня с головы до ног своим угрюмым взглядом.
– Откуда ты родом? – сурово спросил он. – Из какой страны?
– Из Польши.
Он аж рот раскрыл от удивления, показав крупные дожелта прокуренные зубы.
– Во как? Из Польши? – переспросил он с улыбкой, застывшей на чугунном лице.
Война Польши с Россией была в самом разгаре.
Босоногий позвал из соседней комнаты какого-то человека, который, вероятно, был его правой рукой. Насколько неряшлив и угрюм был босоногий, настолько его товарищ был разодет в пух и прах. Это был высокий молодой кавказец в черкеске, украшенной ножичками, кинжалами, наборным серебряным поясом и разными другими цацками. Широкий в плечах, узкий в талии, с точеными, легкими ногами в мягких сапогах, в лихо заломленной папахе, перекрещенной золотыми галунами, легкий и порхающий, он выглядел, как опереточный кавказский красавец. Он глянул на меня большими черными глупыми глазами и рассмеялся, показав все свои белоснежные зубы.
– Он – настоящая птица, – сказал он на комичном русском, – польская ворона.
Кавказец хотел было толкнуть патетически-нелепую, полную словечек уличных ораторов речь о революции и войне, но босоногий прервал его. Вместо речей он позвал вооруженного красноармейца и приказал ему пойти со мной туда, где я жил, и забрать все мое имущество. Кроме судебных протоколов об убийце Миколюке, у меня ничего не было. Босоногий вместе с кавказцем долго и упорно рассматривали еврейские буквы, которые я втиснул между русских строк, и таинственно переглядывались.
– Черт знает, что это за знаки, – сказал босоногий, уверенный, что перед ним – опаснейшие польские шпионские документы.
Кавказский красавец кивнул головой. Босоногий спрятал бумаги.
– Товарищ красноармеец, запри его до выяснения, – сказал он, – и не спускай с него глаз.
Я видел, что дела мои плохи, в хаосе революции и войны мало церемонились с отдельным человеком, да к тому же с выходцем из страны, которая воевала с Россией. Я хотел спастись, объяснить, что мои писания не более чем безвредные истории. Босоногий и не думал меня слушать.
– Ерунда! – сказал он и натянул сапоги на ноги. – Скоро мы разузнаем, что там у тебя в твоих бумагах. Увести!
Красноармеец приказал мне идти вперед, а сам шел в нескольких шагах сзади, так, чтобы при малейшей моей попытке к бегству он мог достать меня штыком или пулей. Хоть я и не видел наставленного на меня штыка, но чувствовал спиной его ледяное дыхание.
Между тем красноармеец говорил мне, философствуя по-мужицки:
– Может, ты не виноват, а может, и виноват. Я человек темный, читать-писать не умею, вот и не знаю. По мне, так ступай себе с Богом, а мне и дела нет. Но у меня приказ тебя охранять, а приказы я должен исполнять… Вот так вот, товарищ…
Я медленно брел вперед. И тут мне встретился военный врач Козюлин, который эвакуировал последние койки своего госпиталя. Он взглянул на меня своими калмыцкими глазами и рассмеялся.
– Эй, товарищ Пушкин, – окликнул он меня в шутку, имея в виду мое писательство, – в какого это комиссара вы бросили бомбу, а?
Вероятно, я выглядел слишком серьезным для шуток, и он перестал смеяться.
– Товарищ красноармеец, веди его обратно, – приказал он, – я пойду с вами и все разъясню.
Ленивый красноармеец немного помолчал, не зная, как поступить. Хорошенько подумав, он приказал мне возвращаться.
– Назад так назад, – лениво протянул он, довольный тем, что ему не придется меня сторожить.
Целых полчаса врач Козюлин толковал с босоногим типом о литературе, о ее важности для трудящихся масс и о ее пользе для советской власти. Но босоногий оставался холоден и тверд как камень. Обрусевший доктор даже вспомнил с большим трудом забытые с детских лет еврейские буквы и с улыбкой прочел, строчку за строчкой, мои писания на судебных протоколах. Он, смеясь, перевел их на русский для человека из чугуна.
– Я ручаюсь за него, товарищ комиссар, – подтвердил он, – я – старый партиец.
После долгого задумчивого молчания человек с чугунным лицом уступил.
– Мне понятно, когда человек – крестьянин, доктор, писарь в канцелярии, – спокойно сказал он, – о писаре историй я не слыхал и не понимаю, для чего тут марать бумагу.
После этого он приказал красноармейцу идти на свое место, а сам сел за стол, спокойно снял с чернильницы засохших мух, обмакнул старое перо и с большим трудом вывел на мятом клочке бумаги неуклюжие и безграмотные слова о том, что я могу уехать и имею право на место в поезде. Потом он плюнул на высохшую печать и поставил смазанный оттиск на мятой бумажке.
– Жарко, товарищи, – проворчал он, потея от тяжких усилий, потраченных на писание.
Неделю я проторчал на станции за местечком, ожидая поезда. Время от времени через нее проходили поезда, но ни в один из них меня не пустили, несмотря на то что я показывал свою бумажку с печатью. Это были военные поезда: в бесчисленных вагонах везли имущество, эвакуированное с территорий, которым угрожала война. Однажды подошел поезд, полный грузов и пассажиров. Я тут же забрался на крышу теплушки, где еще можно было приткнуться. Сидя на залитой солнцем жести, я смотрел вперед, чтобы не удариться о свод тоннеля или другое препятствие, от которого можно было стать на голову короче.
Поезд был длинный, набитый пассажирами всех мастей, во многих вагонах везли скот, уголь, сено. Куда идет поезд, никто не знал. Дороги были запружены, пути заняты военными поездами. Местами были взорваны рельсы и мосты, выдернуты шпалы.
– Поедем, когда сможем и куда получится, – зло отвечали железнодорожники пассажирам, которые, не переставая, лезли к ним с вопросами.
Я просидел ночь на крыше поезда, который был готов отправиться в любую минуту, как только освободится путь. Наконец мы поехали. Но это было путешествие, во время которого приходилось больше стоять, чем ехать. То заканчивался уголь для паровоза, и пассажирам приходилось рубить деревья и пилить их на чурки, чтобы растопить топку, то загорались несмазанные вовремя оси вагонных колес, то что-нибудь ломалось в машине старого паровоза. Он делал все, что мог, этот паровоз, он все время свистел, дымил, выбрасывал целые столбы огня и искр, вонял, пыхтел, кряхтел, но бежать не бежал. Один раз машинист даже бросил поезд посреди дороги и отправился в деревню к знакомым крестьянам пить чай.
Вернулся он не меньше чем через час. По тому, как он ковылял, можно было уверенно заключить, что пил он не чай, а водку военного времени – сивуху, которую гнали крестьяне. Только от этого самогона можно было быть таким мертвецки пьяным, каким был машинист. Сразу же наш поезд заковылял, как человек, который его вел. В одном месте поезд разорвался – одна половина, с паровозом, ушла вперед, другая половина, оторвавшаяся, побежала назад. Я был в последней. К счастью, местность была равнинная, и оторвавшиеся вагоны остановились после того, как потеряли инерцию. Мы были уверены, что пьяный машинист бросит нас посреди дороги, но он подогнал паровоз обратно, прицепил нас старыми разболтанными крюками и снова пустился в путь.
Часы, дни, целые ночи простаивали мы на заброшенных станциях, нередко – в чистом поле и ждали. Мы не знали, чего ждем, когда поедем, как поедем. Мои соседи по крыше, люди со множеством узлов, связанных вместе, рассказывали о бандах, которые взрывают рельсы, нападают на поезда, отрезают носы и уши евреям и комиссарам, и о тому подобных радостных вещах…
Странный был народ, эти мои соседи по крыше. Из-за того что на них были солдатские гимнастерки, сапоги, штаны и фуражки, но не было знаков различия, невозможно было понять наверняка, что это за солдаты: то ли советские, то ли наоборот. С тем же успехом они могли быть и дезертирами, и демобилизованными, еще не снявшими форму после войны, а может, они просто носили военную форму, как большинство мужчин после революции. Один из них, пройдоха, знавший все дороги, все обычаи и правила, все маршруты всех поездов, которые сами не знали своих маршрутов, постоянно рассказывал язвительные истории и анекдоты о советских комиссарах и служащих, которые у него все были евреями. Народ покатывался от его историй и рассказов. Устав говорить, он начинал играть на гитаре и петь военные песни. Чаще других он пел песню о яблочке, которое катится в Чека. Народ вокруг него с душой подхватывал эту песенку, в которой, судя по всему, слышал намек на свою жизнь.
Эх ты, яблочко, куда ты котишься,
Попадешь в Чека, больше не воротишься…
Еще больше, чем «Яблочком», парень с гитарой радовал едущих на крыше песенкой о веселой свадьбе комиссара Шнеерсона. Эта веселая песенка распространялась по стране, как сорная трава по пустырю. В этой песенке перечислялась в рифму вся родня, которая пришла потанцевать на свадьбе Шнеерсона и его невесты Сары. Пришел комиссар Лейб, который конфискует у крестьян хлеб; пришла тетя Бела из финотдела; пришли комиссар продовольствия Воробейчик и комиссар путей сообщения Соловейчик, а также комиссарша Злата и два ее брата… Парень с гитарой очень комично выговаривал по-русски имена еврейских родственников, и все, кто был на крыше, хлопали в ладоши и притоптывали ногами в такт:
Ужасно шумно в доме Шнеерсона…
При этом они озорно заглядывали мне в глаза и хотели знать, почему я не подпеваю. Ночью, когда все ложились плашмя на крышу, чтобы в темноте не удариться о препятствие, мои соседи сбивались в кучу, курили самокрутки и рассказывали одну за другой истории, всё больше о бандах, которые останавливают поезда и отрезают носы и уши у комиссаров и евреев.
После одной из таких ночей я приехал поутру на станцию Бахмач.
Лежала ли эта станция на пути в освобожденный Киев, куда должен был следовать поезд, или нам пришлось проехать через нее, потому что другой дороги не было, – не помню. Я бы не запомнил и странного названия «Бахмач», как не запомнил названия большинства других станций с подобными названиями, через которые мы проехали, вроде какой-нибудь Кочубеевки, если бы в этом Бахмаче не произошел исключительно любопытный случай.








