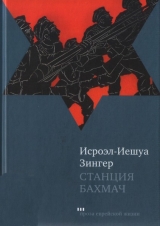
Текст книги "Станция Бахмач"
Автор книги: Исроэл-Иешуа Зингер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Крепче, папа, – просил он, – выбей из меня всё, все четыре года грязи, ненависти и боли.
Реб Авром-Ицик сгреб грязную солдатскую одежку сына, от рубахи до рваной шинели, и бросил в пылающую банную печь.
– Шекец тешакецену [84]84
«Отвратимся от скверны» ( ивр.). Втор., 7:26.
[Закрыть], – произнес он, как полагается, когда сжигают идоложертвенное, и подал сыну хоть и залатанное, но чистое белье, а также его старые штаны и тужурку, которые стали ему малы, но зато были целы и вычищены.
Первые дни Пинхас, чистый и обновленный, только и делал, что отъедался и отсыпался. Ему всего было мало: и вкусного хлеба с тмином, и субботней халы, и яичного печенья, и пирожков с луком, что пекла для него мать. Он уплетал каши на мясном бульоне, тушеную баранину, рубец, фаршированную селезенку, кишку, куриные потроха, которые готовили для него сестры. Он буквально купался в парном молоке, масле и сливках и пропитался жиром куглов. Эти куглы соседки присылали ему на дом по субботам со своими смущенными дочками, которые, едва выговорив «вам и гостю вашему», убегали быстрее ветра.
Не успел еще Пинхас Фрадкин хорошенько оглядеться, как впалые щеки на его широком лице округлились. Теперь его черные жгучие глаза блестели, как сочные маслины, которые подавали ему к столу вместе со всевозможными маринованными огурчиками и помидорами. Даже его кудрявые волосы выглядели по-другому. Они стали черными, как смоль. Больше всех среди соседей радовался его возвращению реб Ошер, староста. В первую же субботу, после молитвы, когда реб Ошер пригласил дорогого гостя с родителями и чуть ли не всю общину на кидуш в свой дом, его щедрость не знала границ. Сколько бы его дочь ни подавала на стол всяких домашних печений, варений и соков, реб Ошер требовал еще.
– Не скупись, Миндл, – приказывал он, – тащи из погреба крыжовенное варенье, вишневый сок и старое вино.
Миндл снова и снова исчезала в подполе и вылезала оттуда с кувшинами и бутылками, которые пахли плесенью и весельем.
– Пейте на здоровье, кушайте на здоровье, – подбадривала она народ, который и так не надо было упрашивать.
После этого щедрого субботнего кидуша реб Ошер стал и посреди недели приглашать на ужин вернувшегося с войны раввинского сына. Однажды, сидя за столом, накрытым пестрой скатертью, которую вышила Миндл, поглощая вкусные шкварки, желудочки, печенки и клецки, которые искусно приготовила и подала Миндл, попивая домашнее вино из мелкого кислого винограда, который вырос на его собственном винограднике, реб Ошер, подбадривая гостя, чтобы тот не стеснялся, потому как это все свое, домашнее, заговорил о деле.
Начав с тех времен, когда, бывший в числе первых переселенцев, его отец-лавочник сперва боялся подойти к волу, чтобы надеть на него ярмо, реб Ошер постепенно дошел до того, что теперь у них, слава Богу, большая еврейская деревня со своей синагогой, миквой и раввином, а закончил рассказом о собственном добре, которым Господь благословил его. Ни в чем, тьфу-тьфу, не отказал ему Бог. Он вдоволь наделил его землей, добрым черноземом, который почти не нужно удобрять, до того он плодороден; благословил его дойными коровами и козами, рабочими волами, и лошадьми, и овцами, дающими много шерсти, и домашней птицей, и рыбой в пруду, и льном, и виноградом, и даже табаком. Воздав хвалу Всевышнему за Его великие дары, реб Ошер отставил стаканчик домашнего вина, его старое изборожденное морщинами лицо помрачнело, и он принялся рассказывать о горестях, которыми не забыл оделить его Всевышний. Его сыновья удрали в Америку и почти не пишут, пропали, будто в воду канули. Дочери вышли замуж и разъехались. Да еще, как будто всего этого было мало, Бог забрал у него его старуху. Оставалось у него одно утешение – младший сын, Шойлке, которому он хотел все завещать, чтобы умереть со спокойной душой, уверенным в том, что у него есть тот, кто все унаследует и кто скажет по нему кадиш. Но похоже, Всевышний хотел другого. Шойлке забрали на войну, и он не вернулся. Только его одежда да мешочек с тфилн остались висеть на стене. Утерев кулаком слезу, которая катилась в его густую бороду, реб Ошер перешел от горя к упованию, ибо человек должен принимать как хорошее, так и плохое и благодарить Бога и за то, чту Он дает, и за то, чту Он отнимает, и желтым от табака пальцем указал на младшую дочь, стоявшую у печки, прибавив, что только она, зеница его ока, у него и осталась на старости лет, что теперь она ему и мать, и хозяйка, и помощница – в доме, в хлеву, в амбаре и на пашне. Перечислив все таланты дочери – она и готовит, и стирает, и скотину доит, и за домашней птицей ходит, и, когда надо, волов поставит под ярмо, и даже на лошадь сесть не боится, чтобы съездить на станцию, – реб Ошер заговорил с сыном раввина в открытую, а не так, как это обычно делают отцы взрослых дочерей.
– Пинхас, ты мне нравишься, – заявил реб Ошер, – и Богу ты угоден, и людям люб, и я хочу отдать тебе мою Миндл, а с ней – все, что мне принадлежит.
Пинхас зарделся, как мальчик, и попробовал было что-то возразить, но старик не позволил. Конечно, он знает, продолжил реб Ошер, что Пинхас – ученый человек, окончил полный курс в Одессе, что он также сведущ в еврейских делах: в святом языке и в книгах, что он талмудист, как и его отец-раввин, но мир после войны перевернулся, в городах беспорядки, нищета, ни Торы там тебе, ни торговли. Городские женщины совсем закусили удила, об этом много судачат в деревне. Пропадет Пинхас в городе ни за что. А здесь, что бы ни случилось, земля останется землей, скотина – скотиной. К тому же он отдает ему дочь – не дочь, а сокровище, девушку ухватистую, богобоязненную и верную, невинную голубицу, о которой никто в деревне не скажет, не дай Бог, дурного слова. И все будет его, Пинхаса: имущество и деньги, вещи и платье, белье и инструмент, а еще – большое приданое, которое лежит у Миндл в сундуках, от перин до тонкотканого белья.
– Скажи «да», Пинхас, и разобьем тарелку, – не переставал упрашивать его старик. – Я тебе при жизни все отдам, а сам буду только псалмы читать да внуков качать, если Бог даст веку.
Сколько Пинхас ни пытался поведать старику о своих планах, совсем других планах, о том, что он здесь, а сердце его на Востоке, старик об этом и слышать не хотел. Он говорил, упрашивал, искал поддержки у родителей Пинхаса, и у отца, и у матери. Вторя старому реб Ошеру, родители уговаривали сына не упускать своего счастья.
– Реб Ошер – крепкий хозяин, у него всякого добра полон дом, – твердил реб Авром-Ицик, деревенский раввин, своему сыну. – К тому же он порядочный, уважаемый человек, а дочь его – честная девушка, дочь хороших родителей. Чего ж еще желать?
Мать донимала Пинхаса упорнее отца. Выпекая свои булочки в пылающей прокопченной печи, шуруя поварешкой в больших горшках, в которых она варила еду для своего большого семейства, стирая и прибираясь в доме, она не переставала толковать сыну о богатстве и благоденствии дома реб Ошера, о каждой мелочи, принадлежащей ему.
– Это же золотая жила, сынок, – настаивала она, вкладывая все свои силы в эти слова. – И девушку получишь всем на зависть. Сделай это ради мамы, сынок, ты ведь уже не ребенок. Пора жениться, сынок, порадовать маму внуками, ведь еще дожить до них нужно.
Слова матери пробирали его от черных кудрей до кончиков пальцев на ногах. Великое тепло исходило от ее мягкого бабьего тела, выносившего стольких детей, тепло и доброта, которые было трудно одолеть. Пинхаса охватывала невыносимая жалость к маме, всем своим существом умолявшей его дать ей немного радости. Он не мог смотреть ей в глаза, большие черные глаза, все еще не утратившие девичьей ясности и блеска. Точно так же не мог Пинхас смотреть в глаза дочери реб Ошера, Миндл, которую все прочили ему в жены.
С матовой кожей, невысокая, полная, с черными волосами, мягкими и гладкими, будто их смазали маслом, с большими, спокойными, простодушными и чистыми глазами, откуда глядела сама доброта, с веснушками на пухленьком носу, придававшими ей какую-то особенную уютность и прелесть, с сочными, всегда чуть приоткрытыми губами, за которыми виднелись крупноватые зубы, – она достигла поры женской спелости и была готова дать покой и счастье своему суженому, тому, кто станет ее господином и заступником. Все ее наливное тело источало эту спелость, эту готовность стать женой и матерью. Миндл почти не разговаривала с таким желанным ей сыном раввина, которому и отец, и вся Израиловка решили отдать ее. Она, деревенская и необразованная, стеснялась и не знала, о чем говорить с ним, с этим Пинхасом Фрадкиным, о котором судачили, что он талмудист, что он окончил гимназию и повидал мир во время войны. Она только покорно подавала ему на стол соки, варенье, печенье и просила его попробовать ее стряпню, которая, наверное, ему не понравится. Она краснела, услышав, как отец нахваливает ее достоинства, и не говорила гостю ни слова. Но все ее созревшее девичье тело, все его члены говорили ему о ее любви.
Пинхас Фрадкин не просто жалел пухлую деревенскую девушку, которая молча желала его, но тоже чувствовал к ней любовь. После долгих лет, проведенных на Молдаванке, после долгих лет войны, в течение которых он достаточно насмотрелся на женское беспутство среди всеобщего разора, простодушная деревенская девушка казалась особенно желанной и милой его сердцу. Она все время напоминала ему святых праматерей Пятикнижия и сладкоречивые слова Песни Песней: запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник; лицо твое пахнет яблоком, под языком у тебя вино.
Вот об этом яблочном запахе и напоминала она ему. И хотя Пинхас знал, что не должен так часто ходить в дом ее отца и садиться с ним за стол, потому как путь его – другой, не здесь, в полях чужого Херсонского края, но там – на Востоке, он не мог устоять перед силой, тянувшей его в этот дом, который был полон Миндл, не мог не видеть ее опущенных глаз, смотревших на него одновременно со смущением и желанием.
Также не мог Пинхас противиться старому реб Ошеру, своим родителям, старшей сестре и братьям и всем соседям, которые молча буравили его взглядами, улыбались ему и ждали, что он принесет покой и радость деревне, в которой родился и которой принадлежит. Дело казалось неизбежным, решенным Богом и родителями, всеми хозяевами и каждой деревенской бабой. Даже коровы и телята смотрели на него выпученными глазами, вытягивали шеи, высовывали языки, будто просили его не медлить и не тянуть, а просто подчиниться тому, что уже решено и подписано.
Пинхас чувствовал, что его обычное упорство слабеет в этой атмосфере, пропитанной уютом, близостью и дружелюбием. Мать больше ничего не говорила, а только смотрела на него счастливыми глазами, чувствуя, что все идет к разбиванию тарелки. Но однажды вечером, на исходе субботы, после гавдолы, когда дело оставалось за малым – созвать всю деревню в дом реб Ошера и написать тноим, – в Пинхасе пробудилось его упорство, его годами лелеемое и уже было подавленное желание, и он стал торопливо укладывать в кожаный ранец несколько заплатанных рубах и порванную книгу стихов Иегуды Галеви, с которой никогда не расставался. Глаза матери округлились и стали вдвое больше.
– Пинхас, куда ты бежишь? – спрашивала она в страхе. – И это теперь?
– Пинхас, одумайся, – отговаривал его отец.
– Пинхас, останься с нами, – умоляли братья и сестры.
Пинхас был тверд, словно камни, которые он собирался корчевать из восточной земли, чтобы сделать ее вновь плодоносной.
– Не мучайте меня, – просил он своих, – мне и так тяжело.
Увидев, что уговорами делу не поможешь, Рохл Фрадкина даже не напомнила сыну, что он должен пойти попрощаться в дом к реб Ошеру, хотя эти слова и вертелись у нее на языке. Она молча собрала ему оставшийся субботний калач, свежий сыр и баночку меда. Реб Авром-Ицик положил в ранец своего сына его тфилн, хотя был далеко не уверен в том, что Пинхас когда-нибудь наложит их.
– Если тебе на чужбине, не дай Бог, будет плохо, помни, что у тебя есть дом, дитя мое, – сказала своему сыну Рохл, прижимая его голову к своей вздымающейся груди.
– Вы приедете ко мне туда, – уверенно сказал Пинхас. – Я только немного обживусь и сразу же вас всех заберу.
С кожаным ранцем за плечами, в облезлой папахе, надвинутой на глаза, Пинхас Фрадкин крался вдоль плетней родной деревни так, как будто это было чужое, опасное место, пока не вышел на большак, который вел к отдаленной станции. Дул ветер, он трещал негустыми кустами, запах которых чувствовался во мгле то тут, то там среди разбросанных по степи осенних пашен, дул ветер и уносил прочь одинокого ночного путника. Пинхас почти бежал, словно каждое мгновение предстоявшего неблизкого пути казалось ему слишком долгим.
3
Они не пришли, эти корабли с Востока, в одесский порт, ни они, ни корабли из других стран.
Каждый день, снова и снова, Пинхас Фрадкин отправлялся на берег и каждый раз возвращался ни с чем. Порт был пуст. Не видно было больше ни иноземных купцов и матросов, ни комиссионеров и маклеров, ни портовых грузчиков с тюками на головах. Гигантские зернохранилища, могучие элеваторы, таможня, торговые здания, конторы, агентства, дома и хибары – все стояло пустым и заброшенным, с выбитыми стеклами в зарешеченных окнах, с тяжелыми ржавыми замками на массивных дверях. Подъемные краны, вагонетки и рельсы полностью проржавели. Стены были залеплены ободранными плакатами и воззваниями, от царских, с двуглавыми орлами, до немецких, австрийских и революционных всех мастей. Рядом с ними красовались неприличные надписи и рисунки мелом, краской и дегтем, оставленные всякими бездельниками. Местами над руинами портовых строений еще качались на ветру вывески, изъеденные соленым морским воздухом, печально постукивая в такт стенаниям волн. Среди всего этого упадка и запустения остались только бродяги обоего пола, в пестрых лохмотьях, заросшие, растерянно копошащиеся, собирающие куски железа, тряпки и что придется. Портовые проститутки по довоенной привычке двигались процессиями вдоль пристани, высматривая иноземных матросов, хотя хорошо знали, что ни один из них больше не появится. Даже бездомные собаки и кошки, дикие голуби и чайки покинули заброшенный порт, отчаявшись найти в нем пищу.
Ничто больше не приходило в некогда веселый портовый город: ни корабли, ни поезда, ни даже деревенские телеги с овощами и молоком. Пришел только голод, голод и эпидемии, восстания и правительства, все время – новые, приносящие с собой свинец и смерть. Пинхас Фрадкин слонялся без дел по заброшенному городу, одинокий, голодный и, как никогда прежде, потерянный. Он вернулся на Молдаванку, где когда-то жил до войны, и попробовал давать уроки святого языка в знакомых домах. Но теперь никому не были нужны святой язык и его грамматика. Ему не удалось найти уроки и по светским предметам – математике или латыни. Никто больше не учился в заброшенном городе. Школы, без отопления, без света, были закрыты или полупусты. Учителя разбежались кто куда: кто менял старую одежду на муку и картошку на толкучке, кто бежал в деревню, чтобы снискать пропитание от земли, кто пошел в армию, одну из многочисленных армий, которые воевали друг с другом. Даже старые учителя, которые уже не годились ни на что, кроме преподавания, и судорожно цеплялись за свои школы, не знали, чему учить и как учить, потому что каждый день была новая власть, отдававшая им новые приказы.
Она, эта власть, менялась в городе так же часто, как погода на море. После того как немцы с пиками на касках и австрияки в обмотках оставили город, по нему на крестьянских лошадях стали разъезжать украинские отряды: хлопцы в полушубках и хвостатых шапках с бесшабашными воинственными украинскими песнями на устах и желто-голубыми знаменами на длинных пиках. Немецкие воззвания на стенах они заклеили своими воззваниями, полными новых приказов о новых порядках и установленных ими законах. Они сорвали таблички со старыми названиями улиц и площадей и на их место приколотили другие – с новыми; они приказали замазать на вывесках русские слова и намалевать поверх них украинские; они запретили прежние газеты, журналы и учебники и приказали издавать вместо них новые. Они выпустили арестантов из тюрем и посадили на их место других людей. Они упразднили все прежние деньги – керенки, царские ассигнации, марки и кроны – и ввели «карбованцы», банкноты на специальной бумаге, напечатанные специальной краской. Сразу же вслед за этим возросла дороговизна, усилились голод и столпотворение на рынках, где «бумажки» никто и в руки не брал, а продукты выменивали на вещи. Хлопцы в хвостатых шапках не переставали хватать людей на улицах и набивать ими тюрьмы. Темными ночами были постоянно слышны стрельба, вопли истязаемых, крики о помощи и эхо пулеметных очередей.
Не успели хлопцы в хвостатых шапках закрепиться в городе, как их прогнали красные кавалеристы: люди со звездами на шапках и развевающимися красными флажками на штыках. Хоть новые отряды и были одеты в драные шинели или просто в ватные штаны и фуфайки, а их винтовки висели не на солдатском ремне, а на веревке, они, несмотря на это, были очень уверены в себе и пришли, весело играя на медных трубах свои революционные марши свободы. Их старшие, молодые люди в кожаных куртках с вышитыми золотой нитью звездами и девушки в мужских сапогах, с револьвером, заткнутым за ремень, перепоясывающий гимнастерку, держали пламенные речи с подножий памятников и с балконов правительственных зданий. Они увешали улицы огромными полотнищами, на которых красные лозунги провозглашали войну дворцам и мир хатам. Стены домов были заклеены пестрыми веселыми картинками, на которых красноармеец втыкал свой штык прямо в зад толстому царскому генералу, или мускулистый рабочий приветствовал радостного крестьянина, или жирные священнослужители – поп, ксендз, пастор и раввин, – обнявшись, плясали на тощих телах верующих крестьян и рабочих. Уличные мальчишки смеялись, глядя на эти веселые картинки. Вооруженные люди маршировали по бульварам и площадям, стуча своими стоптанными сапогами по грязным камням мостовой, и призывали пролетариев вливаться в ряды борцов против всех врагов пролетариата.
Красные, еще гуще, чем предыдущие правители, залепили стены домов бессчетными декретами и приказами: о реквизициях и арестах, о наказаниях за сокрытие продовольствия и о врагах революции. Они тоже освободили из тюрем арестантов и на их место стали сажать других людей; запретили прежние газеты, журналы и учебники и приказали выпускать вместо них новые; выбросили богачей из квартир и поселили там бедняков. Они тоже упразднили все прежние деньги, сколько бы те ни стоили, и ввели новые: желтые, на самой дрянной бумаге, напечатанные самой дрянной краской. И опять в городе сразу же возросла дороговизна, усилились голод и столпотворение на рынках, бумажные деньги там не принимали, а продукты продолжали выменивать на вещи. Товарные вагоны постоянно подвозили арестантов к городским тюрьмам. Темными ночами были слышны проклятия и стрельба. В городе все переменилось, кроме дороговизны, голода, эпидемий и смерти.
Не успели вооруженные люди со звездами на шапках укрепиться, как налетели со всех сторон всадники с золотыми погонами на плечах и с царскими бело-сине-красными флагами на пиках и, громко распевая «Боже, царя храни», ворвались в город на берегу Черного моря. Как только они вошли, колокола церквей зазвонили часто и басовито. Бородатые священники с большими крестами в руках, оборванные монахи в жестких, остроконечных клобуках, монашки с восковыми свечами в бледных руках, толпы верующих, мужчины, женщины, особенно много женщин, всякого возраста и вида, двинулись длинными процессиями по улицам, неся святые образа, восковые свечи и царские флаги, распевая неистовыми голосами свои благочестивые песнопения и визгливо-истерически призывая к мести антихристам, богохульникам и евреям, вечным врагам святой Руси и ее православного народа. Святые песнопения сопровождались звоном разбитых стекол в еврейских лавках и домах и криками избиваемых евреев; святые образа и портреты царя были залеплены пухом, выпущенным из еврейских перин и подушек. Поверх старых плакатов были наклеены новые – с новыми приказами, законами и декретами. Некогда веселый город снова был полон офицерами с золотыми и серебряными пуговицами и погонами. Толпы проституток снова прогуливались по бульварам и площадям. Снова открылись веселые кафешантаны. Певицы хриплыми голосами надрывно пели о тройках, о соблазнителях и о девушках, чье сердце разбито, девушках, прощающихся со своими возлюбленными, храбрыми офицерами, которые должны променять любовь на геройство и славу на поле брани. Танцоры в черкесках плясали «камаринского» и метали кинжалы в банкноты, разбросанные по полу. Официанты в засаленных фраках и грязных манишках стреляли пробками из бутылок шампанского и подсыпали кокаин в бокалы золотопогонников и их размалеванных дам. Пьяным песням вторили по ночам вопли истязаемых, крики задержанных, стоны и стрельба. Колеса грузовиков, которые везли арестованных в пыточные подвалы по темным улицам, не переставали сотрясать брусчатку мостовых. Снова все переменилось в городе: газеты, законы и деньги. Вместо прежних денег, которые были упразднены и от которых пьяные офицеры прикуривали папиросы, были введены новые банкноты на специальной бумаге, напечатанные специальной краской. Но дороговизна, голод, эпидемии и смерть остались теми же самыми.
Вслед за ними снова пришли хлопцы в хвостатых шапках, потом снова люди с красными звездами, потом всевозможные другие, все – со своими знаменами, приказами и расстрелами, все приходили героями, и все бежали с позором. Однажды даже пришли иноземные корабли и бросили якорь на рейде подальше от порта. Пинхас Фрадкин вышел их встречать. Но это были не торговые корабли с Востока, а военные корабли с наведенными на город жерлами палубных орудий, и пришли они с Британских островов и из французской Бретани. Они никого не подпускали к себе, эти вооруженные чужеземцы, ни с кем не имели никаких дел, кроме городских проституток, профессиональных и непрофессиональных. Как неожиданно они пришли, так же нежданно исчезли, оставив за собой гулкие гудки и мусор на прибрежной воде: консервные банки, сигаретные окурки, журналы с голыми накрашенными девицами, разорванные письма и использованные презервативы. После этого порт стал еще заброшенней и опустошенней. Даже вечные крысы исчезли из него. Море штормило и било о причал своими свинцовыми волнами. Ветры выли зло и упорно.
Пинхас Фрадкин, в маловатой ему одежде на коренастом теле и в папахе на кудрявой голове, метался в хаосе брошенного города, как полова, подхваченная вихрем. Он прятался в подвалах, ночевал в пекарнях, когда они еще работали, иногда неделю-другую ютился в углу на чьей-нибудь кухне за то, что колол дрова или чинил что-нибудь в доме. Он менял улицы и дома на Молдаванке чаще, чем рубашки. Так же часто он менял и свои занятия. Однажды помог какой-то еврейке донести домой с рынка мешок картошки; другой раз натаскал воды в пекарню; еще один раз целую ночь крутил колесо печатного станка в типографии, в которой не было электричества, чтобы запустить машину; иногда стоял ночь напролет в хлебной очереди для какой-нибудь хозяйки, чтобы утром, ко времени открытия лавок, быть одним из первых. Но больше всего в этом брошенном городе он голодал. Он всегда был голоден, когда больше, когда меньше, но ни разу не ел досыта. Не только голод подстерегал его постоянно, но и смерть. Сыпной тиф, брюшной тиф, дизентерия и другие эпидемии охватили город. Ворота домов, всегда, даже днем, запертые из страха перед налетчиками, часто открывались перед черными похоронными дрогами, приезжавшими за покойником. За детьми даже дроги не приезжали – приходил могильщик с ящиком под мышкой. Кроме эпидемий Пинхаса Фрадкина подстерегали вооруженные люди всех мастей. Ему приходилось все время прятаться от «хаперов» [85]85
Так в середине XIX в. называли нанятых кагалом людей, которые должны были хватать еврейских мальчиков и юношей для сдачи в рекруты. Автор сознательно использует этот анахронизм, имеющий в еврейской исторической памяти самую зловещую оценку.
[Закрыть], которые то хотели забрать его на рытье траншей, то засадить в тюрьму, то отправить на фронт или прямиком на тот свет. Но, несмотря на это, он продолжал бродить по выщербленным мостовым и мерить город из конца в конец, даже когда пули сыпались градом. Он привык к опасностям, все-таки четыре года провел на фронте. Случалось, что в самые опасные дни он перебегал с улицы на улицу, от дома к дому только для того, чтобы узнать, как можно вырваться из осажденного города, как добраться до какой-нибудь границы, а оттуда – на Восток, где было его сердце.
Он обивал пороги сионистских деятелей, которым на чистейшем иврите рассказывал о своем горячем желании вернуться на родину. Но эти люди и слушать не хотели заросшего щетиной типа в папахе. Он пошел к контрабандистам, к блатным. Те выслушали его, даже пообещали провести до румынской границы, как других, пытавшихся вырваться из этой страны, но потребовали за такую опасную работу денег, много денег, и не рваных бумажек, а настоящего золота или серебра. Пуститься в дорогу одному было невозможно. Поезда ходили редко и перевозили только военных и пассажиров с пропусками, которых штатским почти не выдавали. Идти пешком было нельзя, потому что на дорогах орудовали банды. В космополитическом в прошлом городе, который теперь был отрезан от мира, оторван даже от других городов своей собственной страны, носились дикие слухи, фантастические разговоры и небывалые новости. Каждый день ожидали новую власть. Сегодня весь город знал, что пришли наводить порядок англичане, на другой день – что край оккупируют французы, на третий – что придут греческие корабли, на четвертый – что приближаются румыны, идут поляки, надвигаются чехи. Однажды даже распространилось известие, что новое Израильское царство, которое было основано английским лордом, этим вторым Киром, шлет корабли в одесский порт, корабли с развевающимися бело-голубыми флагами, и что эти корабли вывезут всех евреев из страны, в которой они брошены на произвол судьбы, в их собственное царство. Пинхас Фрадкин жадно ловил эти новости и верил всему, что говорили, потому что хотел верить, потому что эти вера и упование давали ему силы скитаться в голоде и нищете, в грязи и опасностях по брошенному городу.
Однажды он нашел себе на некоторое время место, где можно было приклонить голову и даже насытиться. Пекарь, в подвале которого он как-то раз переночевал, забрал его к себе в дом, дал ему койку с тюфяком, набитым свежей соломой, с одеялом и подушкой. Также ему в этом доме дали горячую похлебку и хлеба досыта. Пинхас Фрадкин думал, что это за тяжелую работу в пекарне, которую он с радостью выполнял, но пекарь стал заводить разговор о том, чтобы просватать за Пинхаса свою сестру, старую деву. Ей было далеко за тридцать, и она годами сидела на улице с корзиной выпечки. У нее было обожженное и выдубленное солнцем красное лицо, а голос огрубел от зазывания покупателей. Девица сразу же стала хватать Пинхаса за руки, грубо прижиматься к нему и рассказывать хриплым голосом о платьях, лежащих у нее в большой корзине. Она даже показала ему свои вещи, чтобы Пинхас не подумал, что она просто хвастается. Она расстелила перед ним все свои кружевные рубахи, все расшитые панталоны и другие предметы женского гардероба. Она даже показала ему приданое, не бумажки какие-нибудь, а один в один серебряные рубли. Младший брат девицы, молодой человек в новеньком, с иголочки, френче и с угольно-черными усиками над кроваво-красными губами, в которых постоянно была зажата папироса, молдаванский молодец [86]86
Здесь и далее слова, набранные курсивом, в оригинале приведены по-русски.
[Закрыть]с головы до ног, проворный, элегантный и веселый, порой похлопывал Пинхаса по спине, как будто бы тот уже был его зятем, и обещал ему щедрые свадебные подарки. Еще этот молодецбахвалился тем, что деньги для него теперь – ничто, потому что он принадлежит к «налетчикам»,самой важной городской банде, чей « командир» – сам Гришка Молдаванец. Пинхас бежал из этого дома как от чумы и больше не показывался на той улице. Он снова скитался по улицам, метался повсюду, готовый к неожиданным известиям, большим переменам и чудесам, которые должны произойти, чтобы вызволить его из этого города.
В своем горячечном ожидании он забывал о лишениях, о голоде и даже о родном доме. Он не писал родителям и не получал от них известий. Между брошенным городом и страной не было никакой связи: ни телеграфа, ни даже почты. Почтой были слухи, передаваемые из уст в уста, из улицы в улицу. Теплым весенним днем, когда первые почки распускались на тех городских деревьях, которые еще не были срублены на дрова, и птицы распевали свои радостные песни, весенним днем, когда евреи снова могли свободно ходить по улицам, потому что в город опять пришли люди с красными звездами и красными ленточками на груди и на штыках, светлым и теплым весенним днем, который пробуждает новые надежды в человеческом сердце, Пинхасу Фрадкину пришла весть из дома, из еврейской колонии. Старый еврей в драном мужицком тулупе, который не подходил ни к теплому весеннему дню, ни к бледному бородатому еврейскому лицу, внезапно остановил Пинхаса на улице, ухватив его тяжелой рукой.
– Пинхас, Пинхас, сын раввина! – позвал еврей в тулупе. – Не узнаешь меня?
Пинхас Фрадкин обрадовался старику в тулупе, узнав в нем колониста Лейзера из Берёзовки, деревни по соседству с Израиловкой.
– Реб Лейзер из Берёзовки! – воскликнул он радостно и протянул руку. – Шолом-алейхем, реб Лейзер, что вы делаете в Одессе, когда пора пахать и сеять?
Еврей медленно махнул рукавом слишком тяжелого тулупа.
– Конец и пахоте и севу, – сказал он, – отпахались и отсеялись…
Чумазое лицо Пинхаса вдруг побледнело в предчувствии дурных вестей. Еврей в тулупе покачал головой:
– Уж они нас и распахали, и посеяли, убийцы, и скосили тоже.
Пинхас почувствовал, что его сердце вот-вот выскочит наружу из узкого пальто.
– Что с Израиловкой, реб Лейзер? Что с моими?
Старик принялся рукавом тулупа утирать слезы.
– У нас была настоящая жатва, Пинхас, – ответил он тем распевом, каким в синагоге читают кинес на Девятое ава. – Берёзовка, Израиловка, Моисеевка и другие еврейские села…
Почувствовав, как у него подкашиваются ноги оттого, что придется все пережить снова, еврей в тулупе прислонился к лестнице и принялся рассказывать о том горе, что свалилось на него и его соседей. Это случилось в Шушан-Пурим [87]87
Название, данное дню 15 адара, следующему за днем праздника Пурим. Согласно Книге Есфирь, 9:18, в Сузах (Шушане) «сделали днем пиршества и веселья день 15 адара». В настоящее время празднуют только в тех городах, которые были обнесены стеной во времена Исхода.
[Закрыть]среди ночи, когда все уже спали. Митька Баранюк из дальней деревни Зикеевка напал на еврейские поселения с несколькими сотнями вооруженных хлопцев. Они налетели неожиданно, как гром среди ясного неба, и поубивали всех, кто им попался: мужчин и женщин, стариков и детей – без разбору, даже скот в стойлах, даже дворовых собак. Винтовками они были вооружены и шашками. Реб Ошеру, старосте, подожгли бороду. Его дочь изнасиловали… И других тоже… Забрали всё добро. Мы с моей старухой убежали, в чем были. Я вот из всего, чем владел, спас жизнь да тулуп…








