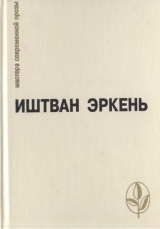
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Иштван Эркень
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
– Никакое это не утешение.
– Значит, ты врешь.
– Не вру.
Они одновременно начинали карьеру, Барбара играла Пэка из «Сна в летнюю ночь» в том же сезоне, когда была поставлена первая пьеса Рутковского. Их роман длился полтора года. Позднее, когда Казик стал директором театра, они по возможности старались избегать встреч: оба чувствовали себя неловко, и эта неловкость по большей части выливалась в ссоры.
Вот и сейчас она недоверчиво смотрела на Рутковского.
– Что это тебе втемяшилось, Казик? Может, совесть заела?
– Я всегда считал тебя очень талантливой, Барбара.
– Опять врешь.
– Завтра же сделаю заявление в печати, что ты будешь играть Нору.
Актриса вытащила пудреницу. Внимательно рассмотрела свое лицо, затем протянула Рутковскому зеркальце, будто там осталось ее отображение.
– Взгляни сам. Недавно я видела себя по телевидению: старая баба, волосы безобразные. Какая из меня получится Нора? Сплошное убожество!
– Из тебя получится великолепная Нора.
– Ты в меня веришь?
– Да, Барбара.
– Поклянись.
– Клянусь.
– Клянись всем на свете.
– Клянусь всем на свете.
– Поклянись, что я и сейчас так же талантлива, как во времена постановки Шекспира, когда впервые стала твоею!
– Ты и сейчас так же талантлива, как во времена постановки Шекспира, когда впервые стала моею.
Барбара вздохнула, почти не в силах скрыть наслаждения, и сказала:
– За что только я тебя люблю, мерзавец ты эдакий!
И поблагодарила за розы. Ее точно подменили: она стала разговаривать весело и дружелюбно. От той неловкости, которая столько раз вызывала между ними перепалки, сейчас и следа не осталось. Барбара поплакалась, сколько ей пришлось выстрадать из-за почечных камней, но зато она надеется, что здесь, в клинике, врачи заодно вылечат ее и от этой хвори. Затем она рассказала, что решила отравиться люминалом, но поначалу никак не удавалось его раздобыть, пока наконец доктор Богдан, врач из театра, которому она пожаловалась на бессонницу, без звука не выписал ей рецепт.
– Как же ты ухитрилась проглотить такое количество таблеток? – спросил Казик.
– Это оказалось труднее всего, – рассмеялась Барбара. – Ты же знаешь, каких мучений мне стоит каждый глоток.
В театральном мире всем было известно, что Барбара на сцене лишь делает вид, будто ест или пьет. Она всегда сильно волновалась перед выступлением, и это вызывало у нее спазм пищевода. Вот и люминал ей пришлось глотать по одной таблетке с интервалами в пять-шесть минут. После каждой очередной таблетки она выходила в ванную комнату, прополаскивала горло холодной водой, возвращалась, принимала следующую. На десятой ее окончательно заклинило, не проглотить – хоть убей, но как раз в этот момент – со смехом продолжила Барбара свой рассказ – пришла женщина убирать квартиру. Поэтому больше девяти таблеток принять не удалось.
– Остался у тебя еще люминал? – спросил Казик.
– Целая куча, – засмеялась Барбара. – Хочешь убедиться?
Она выдвинула ящик тумбочки. Там лежала непочатая склянка люминала и еще одна стеклянная трубочка с точно такими же белыми таблетками, предназначенными, как оказалось, для промывания почек.
– Надеюсь, ты не собираешься еще раз повторить подобную глупость? – спросил Казик.
– Еще чего не хватало! – воскликнула Барбара и, встав с постели, накинула халат. – Прости, – обернулась она в дверях, – с тех пор как я начала принимать мочегонное, каждые полчаса приходится бегать.
Казик остался в палате один. Оглянувшись на дверь, он вытащил трубочку с люминалом и высыпал в ладонь ее содержимое. Вместо снотворного набил трубочку мочегонным и приклеил этикетку так, чтобы трубочка выглядела непочатой. А вот что делать с люминалом, он не знал. Окно закрыто, в раковине торчит букет роз… Послышались шаги. Казик сунул таблетки в карман и сел.
Ящик тумбочки остался незадвинутым. Снимая с себя халат, Барбара бросила туда взгляд, но ничего не сказала, только улыбнулась довольной улыбкой, как мать, в отсутствие которой дети похватали печенье… Она легла в постель и перевернулась на бок, чтобы лучше видеть Казика, и даже зажгла ночник, потому что стало смеркаться.
– Мы очень беспокоились за тебя, Казик, – сказала она, удобно устроившись.
– Кто это – мы? И с какой стати было беспокоиться?
– Неважно, – улыбнулась Барбара. – Мы заблуждались на твой счет. Наведаешься ко мне еще разок?
– Наведаюсь, и не раз, – ответил Казик.
– Вот будет здорово! – воскликнула Барбара. – Помнишь паштет по-страсбургски?
Оба расхохотались. В ту пору, когда они еще жили вместе, в руках у Казика однажды разорвало консервную банку, едва он начал вскрывать ее. Барбаре вспомнилось еще немало подобных забавных случаев, затем Рутковский спустился в проходную и вызвал по телефону такси. Потом он вернулся, и, пока они ждали такси, им было по-прежнему легко и просто. Барбара усадила Казика к себе на постель, а сама мечтательно уставилась в темнеющий квадрат окна.
– Помнишь, какие у меня были красивые волосы?
– Они и сейчас красивые, – сказал Казик.
– С тех пор как их сбрили, они никак не желают отрастать длиннее.
– Короткая стрижка тебе тоже идет, – заметил Казик.
– Самой себе я нравлюсь только такая, какой была прежде, – сказала актриса. – И любить могу только то, что было до войны. Люблю твоего сынишку, этого очаровательного постреленка… Господи, до чего дивные были у него глаза!
– К чему говорить об этом, – сказал Казик.
– Люблю Ядвигу, – вздохнула Барбара. – Каким ласкательным прозвищем ты ее называл? Царица Савская?
– Теперь уж и не припомню, – сказал Казик.
И тотчас вспомнил: «царевна иерусалимская» – вот как он ее называл. И лицо Ядвиги возникло перед ним, как бы спроецированное на стену больничной палаты. Он словно вновь увидел ее кожу – белую и настолько чувствительную к свету, что даже тень от ветки оставляла след на этом нежном белом покрове, подобно царапине. На ослепительной белизне лица выделялись два темных пятна: глаза Ядвиги, черным потоком уходящие куда-то в таинственную даль – как на негативе фотографии.
– Ее планетой была Луна, – мечтательно продолжала Барбара.
Рутковский молчал.
– Вот ведь интересно: к ней я не испытывала ревности, – сказала Барбара. – Может, потому, – она как бы размышляла вслух, – что Ядвига душу готова была отдать за ребенка.
Рутковский промолчал и на это.
– Теперь таких женщин и не найдешь, – заключила Барбара. – Неужели ты поверил этим кошмарным россказням про нее?
– Да, – сказал Казик.
– Ну а хотя бы потом ты пытался выяснить?
– Зачем?
– Как это – зачем? – Барбара вдруг села в постели. – Да ты просто ненормальный! – Свет ночника бил ей в глаза, и она повернула лампу в сторону. – Ведь еще свидетели живы… Как бишь ее звали, твою привратницу?
– Откуда мне знать!
– Кажется, тетушка Дамазер.
– Может быть.
– А где жила Ядвига? Ты ведь был знаком с хозяйкой той квартиры?
– Не помню, как ее звали.
– Она еще, должно быть, жива. И адреса ее ты не знаешь?
– Знал, но запамятовал.
– И ты способен не думать о ней?
– Да.
Барбара отвернулась. Теперь она опять лежала навзничь и опять смотрела в потолок.
– А вот я не могла бы жить без воспоминаний, – чуть погодя сказала она.
– Какое-то время и я не мог, – признался Рутковский, – но потом научился.
– Тебе легко говорить, у тебя есть дочка.
– Это верно.
– И Ильза.
– И это верно.
– Какая у вас разница в годах?
– Я на восемнадцать лет старше ее.
– И тем не менее хорошо уживаетесь?
– Очень хорошо уживаемся.
– Передай им привет, – сказала Барбара.
– Спасибо, – сказал Рутковский. – Передам.
– Наверное, такси уже приехало, – сказала Барбара.
– Еще нет, – сказал Рутковский. – Мне видно в окно.
– Ступай, – сказала Барбара. – Я устала.
– Я буду навещать тебя.
– Не нужно, – сказала Барбара. – Одной лучше.
– Ты же сама сказала, что будешь рада.
– Я ошиблась, – сказала Барбара. – Не хочу тебя видеть.
Она даже прощаться с ним не стала.
«Старая истеричка! – возмущался Казик, спускаясь по лестнице. – Тащусь к ней в самую жарищу из другого города. Преподношу ей розы. Сыграть Нору – мечта всей ее жизни… Чего, спрашивается, ей еще надо? Чтобы я жил, воссоединясь со своими покойниками, как это делает она?»
Такси как раз разворачивалось перед клиникой.
Дома в нос ему ударило затхлостью: комнаты несколько недель не проветривались. Казик открыл окна, устроил сквозняк; тут он вспомнил, что в кухне оставалось полбутылки водки.
Ему надо было пройти через детскую. Он включил свет, вошел было в комнату и тотчас попятился назад: посреди комнаты, возле Оленькиного кукольного театра стоял конь-качалка. «Померещилось», – подумал он и погасил лампу. Затем включил снова: конь стоял на прежнем месте.
Краска на нем почти вся облупилась, грива вылезла, сбоку торчала пакля. Казик пятнадцать лет не видел коня и все же сразу его узнал; непонятно было только, откуда он взялся и каким образом очутился здесь, в наглухо запертой квартире…
Но конь-качалка стоял тут, на этом месте, как и в тот день, когда на улице взревели моторы грузовиков и эсэсовцы стали скликать детей: «Мальчики, девочки, поехали с нами, будем сниматься в кино!» В ту пору немцы еще пытались соблюсти какую-то видимость, и если во время акции собиралась большая толпа народа, то объявляли, что детишек везут всего-навсего в зоопарк, на съемки для кинохроники. Однако в гетто была превосходно поставлена разведывательная служба. Там уже было известно об эшелонах с детьми и о том, что отправляют их по ночам, знали даже, с какой сортировочной станции, но делали вид, будто верят в эту шаткую легенду. Если жертва не может вцепиться в горло своему убийце, то не вредно подкинуть ей какой-нибудь оправдательный предлог, – тут немцы верно рассчитали.
Транспорт с детьми эсэсовцы сперва доставляли к кинотеатру «Олимпия». Детишки выстраивались в очередь перед билетными кассами, называли свое имя и получали порядковый номер. Одному мальчику удалось бежать оттуда: что происходило с детьми после этого – остается только строить догадки. Можно предположить, что прямо здесь же, в фойе кинотеатра, их осматривали и отбирали пригодных для отправки в рейх, где на только что созданной экспериментальной станции из них должны были воспитать полноценных арийцев. Осмотр не затягивался надолго. В первую очередь отбирались белокурые дети. Затем им вручали по четыре мяча разного цвета и делали для себя пометки, который из четырех был выбран ребенком. У детей прослушивали сердце, измеряли и записывали вес и рост. Замеры черепа производились с помощью прибора, который определял характерный для семитской расы лицевой угол, да так быстро, будто просто давал ребенку щелчка по голове… В зрительном зале, на возвышении перед киноэкраном, заседала комиссия.
Казик весь день писал. Он работал над пьесой и из-за стука пишущей машинки не слышал гула моторов и выкриков эсэсовцев. Когда он спохватился, было уже поздно. Улица опустела, лишь несколько мужчин в отчаянии метались туда-сюда, а женщины стояли, рыдая… Он высунулся из окна, громко крича:
– Оленька! Оленька, где ты?
Он остолбенел: что за абсурдная мысль! Оленьке минул девятый год, а ребятишек из гетто забрали летом 1942 года. Всему виною жара. Эта дурацкая поездка. И ссора с Барбарой… Ведь он, к примеру, отлично помнил, что сынишка был белокурый; каждый считал своим долгом заметить, как это странно, что родители оба черные как смоль, а ребенок такой светловолосый. Но лицо сына представлялось ему расплывчато. Наверняка на мальчике был красивый костюмчик, один из тех, что дарила Ядвига… Но вот имя сынишки он никак не мог вспомнить. Как ни рылся в памяти, упорно возвращался к имени дочери, лишь Оленьку видел в кинотеатре «Олимпия», на помосте перед отборочной комиссией.
– У тебя оба дедушки и обе бабушки евреи? – спрашивала председательница.
– Мой папа – знаменитый писатель, – отвечал ребенок предельно беззастенчивым тоном.
– Ты не умеешь отвечать на вопросы?
– Я привыкла говорить, что на ум взбредет.
– Ты ведешь себя как беспризорная девчонка.
Председательница одета в форму. Черты лица ее напоминают Ильзу: та же холодность, незамутненность, то же гнетущее спокойствие… И вот ведь что интересно: вроде бы сейчас зима, а председательница покрыта ровным шоколадно-смуглым загаром. С детьми она обращается строго, однако недоброжелательной ее не назовешь: манера поведения – словно критическая точка между водой и льдом.
– Как зовут твоего отца?
– Папа.
– Разве это имя?
– Конечно, имя.
– Ты глупа не по возрасту.
– И вовсе я не глупая.
– Глупая, глупая!
– Нет!
– Я говорю: да!
– А я говорю: нет!
Стоящий рядом охранник, возмущенный дерзостью ребенка, дает ему щелчка. И щелчок-то не очень сильный, все же Оленька поражена. Это первый щелчок в ее жизни. Казик строго-настрого запретил наказывать ребенка: основное условие гуманного воспитания заключается в том, чтобы ребенок не боялся взрослых. Оленька оборачивается к охраннику и показывает ему язык. Комиссия так и ахает.
– Имя и фамилия матери? – спрашивает председательница.
– У нее нет имени.
– У каждого человека есть имя.
– Вернее, есть, – поправляется Оленька, – только его нельзя произносить. А значит, его нет.
– Почему нельзя произносить ее имя?
– Тетушка Дамазер сказала, будто мама опозорила Польшу и папа наказал ее за это.
– Как же он ее наказал?
– Ей запрещено приходить домой, а мы должны забыть ее имя.
– Кто эта тетушка Дамазер?
– Жена привратника.
Председательница записывает, и один из охранников уносит куда-то эту бумажку. Ночью за Дамазерами приезжает крытый грузовик. Привратница кричит на весь подъезд: «Тайник – за перекрывающим краном!» Один из солдат понимает по-польски. Он возвращается и забирает из тайника за водопроводным краном все деньги Дамазеров. Грузовик поспешно уезжает.
– С какими детьми ты дружишь – с евреями или с крещеными?
– Ни с кем я не дружу. Мой папа – знаменитый писатель.
– До чего же ты бестолковая, – говорит председательница. – И папой своим нечего хвалиться.
– Он специально для меня написал сказку, – рассказывает Оленька. – Летят по небу утки, тысяча тысяч, – это облако. У каждой в клюве – капелька воды, это дождь. И что такое снег, я тоже знаю.
– Вряд ли ты нам пригодишься, – машет рукой председательница. – Несешь всякую чепуху, что на ум взбредет.
– Папа сочинил это только для меня и никому другому даже не показывал.
– Опять ты врешь. Ты и читать-то не умеешь.
– А вот и умею, – хвастается Оленька. – Папа меня даже английскому учит. Dog – значит «собака». Ship – «корабль». Я – папино сокровище, ясочка ненаглядная.
– Оно и видно, что ты для него сокровище, – усмехается председательница. – Вот сейчас он, к примеру, чем занимается?
– Шведский король прислал папе посылку. Шоколад – это для меня, а папа варит себе кофе и пишет.
– А за тобой в это время кто присматривает?
– Тетушка Дамазер.
– И это называется папа тебя любит?
– Я – папино сокровище, ясочка ненаглядная.
– Неправда.
– Нет, правда!
– Неправда!
– А вот и правда!
– Я говорю: неправда!
– Все равно – правда!
Откуда-то послышался звонок – глухо, точно пробиваясь сквозь многослойную ткань.
Рутковский вздрогнул. Он по-прежнему стоял на пороге детской. «Так и с ума сойти недолго, – подумал он. – Собственная фантазия меня доконает. Где же водка? Надо принять снотворное, лечь и выспаться. А во всем виновата эта старая истеричка…» Он сунул руку в карман, вытащил таблетку люминала. Помнится, водку он оставил на кухонном буфете. Он вышел на кухню, огляделся. Действительно, бутылка стояла на буфете. Но едва он сделал шаг, мозаичный пол под ногами у него захрустел, словно была рассыпана соль. Казику становилось нехорошо, если под ногами у него хрустело. Лучше уж отказаться от водки. Он прошел в ванную, открыл кран. Как следует вытер ботинки, чтобы на них не оставалось соли.
Снова раздался звонок.
На пороге стояла какая-то старуха. Лица ее в полумраке почти нельзя было разглядеть. Фигура расплылась, как подтаявший снежный ком. То немногое, что угадывалось в ее облике, привело Казика в ужас. Он знал, что никогда не видел эту женщину, но человек иногда способен распознать то, с чем никогда в жизни не сталкивался: получивший пулю в сердце мгновенно понимает, что пришла смерть.
Женщина тяжело дышала.
– Не сердитесь, что побеспокоила, пан доктор, – сказала она, ухватившись за дверной косяк. – Я увидела, что у вас еще горит свет.
Все в доме называли Рутковского «пан доктор».
– Уже очень поздно, – сказал Рутковский. – Я собирался лечь…
– Мы живем на первом этаже, – сказала женщина. – Позвольте присесть на минутку… Поднялась по лестнице, и от этого мне еще хуже стало, пан доктор.
Женщина пошатнулась. Казик помог ей войти, усадил ее. Лишь сейчас он заметил, что в лице у нее ни кровинки.
– Вам плохо?
– У меня с коронарными сосудами не в порядке.
Она вытащила какой-то мятый рецепт из потертой черной сумки.
– Во время приступа мне делают укол… Может, найдется у вас дома это лекарство, пан доктор?
Казик прочел рецепт и удивленно уставился на женщину.
– Здесь какая-то ошибка: я вовсе не врач.
– Разве вы не доктор Рутковский?
– Все верно, – сказал Казик, – но только доктор философии.
– Значит, не врач?
– Нет, – сказал Рутковский. – Я – писатель.
Старуху даже это легкое разочарование взволновало. Веки ее часто моргали, рот приоткрылся, и слышно было, как воздух со свистом входит и выходит при дыхании.
– Когда-то у меня снимала комнату женщина, – обессилев, произнесла старуха. – Так у нее муж тоже был писатель.
– Как его звали? – спросил Рутковский. – Я почти всех писателей знаю.
– Теперь уж не припомнишь. Да его, наверное, нет в живых, он ведь находился в гетто.
– А его жена?
– Она-то нет, – сказала старуха. – Она снимала комнату, потому как за ней ухаживал немецкий офицер.
– Любопытная история, – заметил Казик. – Но вам лучше отдохнуть, – добавил он. – Не выпьете глоток водки?
– Да, пожалуй.
Казик принес ликерную рюмку. Он направился было в кухню, но тут ему вспомнился мозаичный пол, хрустящий под ногами, и он предпочел принести из ванной стакан простой воды.
Женщина выпила воды, но одышка не прекращалась. Тело ее завалилось набок, руки безвольно свисали с подлокотников кресла.
– Как вы себя чувствуете?
– Видно, без укола не обойтись.
– Сейчас я позвоню своему врачу.
Доктор Богдан, врач театра, жил совсем неподалеку и машину свою обычно оставлял перед домом. Телефонный звонок поднял его с постели, но врач обещал подъехать и привезти лекарство, название которого Казик продиктовал ему по рецепту.
– Не сердитесь, что столько хлопот вам причинила, – оправдывалась женщина. – Всего две недели, как мы сюда въехали, откуда же мне было знать, что пан доктор вовсе и не врач… Кстати сказать, его тоже так называли: «пан доктор».
– Кого?
– Да писателя этого, который убил свою жену.
– Убил? – переспросил Казик. – Раньше вы об этом как-то не упомянули.
– Так ведь он запретил ей видеться с сыном.
– Ну знаете ли, это не одно и то же!
– А жиличка моя души не чаяла в своем ребенке, – пояснила старуха. – Только и слышишь бывало: «Сокровище мое, ясочка ненаглядная…» Нешто можно было так унижать ее?
– Унизить человека – еще не значит убить его, – сказал Казик. – А сейчас отдохните, все эти разговоры вам только во вред.
– Для иного человека унижение хуже смерти, – продолжала женщина, словно и не слыша его замечания. – Жиличка моя уж на что раскрасавица была и гордячка, а раз как-то присела ко мне на постель да как заплачет. «Тетя Малгося, – говорит, – больше мне жить не для кого». Я давай ее утешать, да куда там! Ночью пошла она на сортировочную станцию – ей, вишь, втемяшилось, будто сыночек ее там, – и сама, по своей воле, села в вагон с еврейскими детишками… А ведь у нее документы все были выправлены, будто у чистокровной арийки, и врач-немец за ней ухаживал, в чине майора.
– Выходит, это не было для нее унижением – немецкими документами пользоваться? – раздраженно спросил Рутковский. – И из-за майора своего она ведь не умерла со стыда!
– Это другое дело, – отмахнулась женщина. – Майор ее изнасиловал.
– Вы вправду верите, будто женщину можно изнасиловать?
– А неужто вы думаете, будто нельзя? – удивленно спросила старуха.
– Разве что втроем против одной.
– Тут и один на один совладать можно, – сказала женщина. – Вот если, к примеру, мужчина сильный, не хуже обезьяны. Да еще оплеуху закатит и одежду сорвет, как с моей жиличкой вышло!
– Вам необходимо отдохнуть, – сказал Рутковский.
– Думаете, мне было приятно, что немецкий майор шастает к моей жиличке, как к себе домой?
– Помолчите, пожалуйста! – одернул ее Рутковский. – Вам вредно, так много говорить.
Однако старуха попросту не слышала его замечаний.
– А после мое отношение к нему изменилось, потому как и сам майор переменился. Видать, совестно ему стало. Придет, бывало, и даже мне руку целует, а уж жиличку-то мою все цветами задаривал да стихи ей читал… «Тетя Малгося, – говорит мне как-то жиличка, – теперь мне ничего не стоило бы выставить его подобру-поздорову… Но тогда я не смогу больше отправлять ему посылки».
– Кому? – спросил Рутковский.
– Да писателю своему.
– Чушь какая! – окрысился на нее Рутковский. – Тому писателю благотворительные посылки приходили из шведского посольства.
– Какое там! Жена ему присылала, все до единой.
– Какое бессовестное вранье! – возмущенно воскликнул Рутковский. – Да он бы ни за что от нее не принял!
– Ну да, не принял! – тяжело дыша, возразила женщина и вдруг поднялась с кресла. – Денщик майора таскал ему то кофе, то шоколад да консервы…
– Сядьте на место! – резко прикрикнул на нее Рутковский. – Что вам нужно?
Женщина на его слова и ухом не повела. Теперь о ее дурном самочувствии напоминало лишь тяжелое, с присвистом, дыхание. Вперевалку, но довольно бодро она прошлепала на кухню – каменный пол противно заскрипел у нее под ногами, – проковыляла по всем комнатам, всюду оставляя за собой распахнутые двери и включенный свет. И наконец остановилась на пороге детской, одной рукой держась за ручку двери, а другой шаря впотьмах.
– Где у вас тут свет зажигается? – прерывисто дыша, говорила старуха. – Ура! – воскликнула она, нащупав выключатель. – Да вот же он! Так и знала, что больше ему и быть негде! – она указала на коня-качалку. – И коня этого жиличка моя прислала.
– Понятия не имею, как он здесь очутился.
– Мой внук отыскал его в дровяном подвале, – удовлетворенно пояснила женщина, – и играл с ним во дворе. А потом вернулся домой привратник и говорит: это, мол, чужая вещь, когда-то сынок пана доктора с этим конем забавлялся.
– Он ошибся, – сказал Рутковский, – это совсем другой конь.
– Жиличка при мне его в бумагу упаковывала.
– Что тут спорить: все эти качалки одинаковые.
– А эта не такая, как другие! – заявила старуха. – Я ее из всех узнаю. Помнится, еще жиличка сказала: «Садитесь, я вас покачаю, тетя Малгося!»
Она неожиданно прыснула со смеху – совсем как ребенок – и с грехом пополам взобралась на качалку. Зрелище этой огромной черной туши, перевешивающейся по бокам игрушечной лошадки, было поистине ужасающим.
– Немедленно слезьте оттуда! – закричал на старуху Рутковский, в ужасе пытаясь подступиться к ней то с одной, то с другой стороны. Однако старуха и не думала послушаться его окрика. Словно вдруг почувствовав себя ребенком, она, громко хихикая, принялась дразнить Рутковского.
– Противный дядька! – кричала она. – Чего ты не даешь мне покачаться? Небось завидки берут? У-у, злючка-колючка, убил – не пожалел родного сыночка!
Протянутая было к ней рука мужчины замерла в воздухе.
– Замолчите! – хрипло проговорил он. – Ведете себя как несмышленый ребенок!
Старуха продолжала качаться на лошадке.
– И жену довел до смерти! – хихикала она. – Как только не совестно? Дядька – убивец, душ погубивец! – вопила она с идиотской ухмылкой на обрюзглом лице, словно под убийством подразумевала какую-нибудь развеселую детскую проказу.
– Вы не соображаете, что говорите! – закричал и Рутковский. Он хотел подойти и стащить ее с лошадки, однако ноги отказались ему повиноваться. И он лишь издали покрикивал на нее. – Немедленно слезьте оттуда и ступайте на место!
Старуха, как нашкодивший ребенок, вдруг посерьезнела и без звука подчинилась окрику. С трудом переводя дыхание, измученная непривычным физическим напряжением, она поплелась опять в кабинет и рухнула в кресло. Одышка ее усилилась, и слов почти нельзя было разобрать; оставалось лишь предположить, что она бормочет какие-то оправдания. У нее и в мыслях не было ничего дурного, просто она страсть до чего любит качаться, а стоит ей только сесть на качалку, как она от радости себя не помнит. И если пан доктор позволит, ей хотелось бы объяснить свое поведение.
Однако до этого дело не дошло, поскольку – к величайшему облегчению Рутковского – раздался звонок в прихожей: прибыл врач. Все сразу встало на свои места и затихло. А ведь до этого стены просто ходуном ходили, готовясь рухнуть.
Доктор Богдан, должно быть, только что вернулся из отпуска: кожа его была покрыта ровным шоколадно-смуглым загаром. Молодость била из него с такой неприкрытой дерзостью, как свет из электрической лампочки. Все у него делалось быстро. Он подбадривающе похлопал Рутковского по плечу, затем поспешил к больной и осмотрел ее. Впрочем, с ней он управился тоже быстро.
– Жаль, что ты позвонил несколько поздно, Казик, – сказал он, закончив осмотр.
– Почему это поздно?
– Да потому, что врач ей уже не нужен, – сказал Богдан.
Причиной смерти, сказал он, послужил разрыв сердца, а смерть, по его словам, наступила четверть часа назад.
– Четверть часа?
– По меньшей мере, – подтвердил врач. – Она уже остывает.
Рутковский закрыл глаза руками. Все поплыло перед ним: фигура доктора Богдана, предметы обстановки, и стены, казалось, опять вот-вот рухнут.
– Этого не может быть!
– Отчего же?
– Когда ты позвонил в дверь, мы с ней беседовали вовсю. Она качалась на лошадке. Я еще даже с ней поссорился…
– Ей теперь ссориться разве что с ангелами, – улыбнулся врач. Затем подошел к Рутковскому и повернул его к свету. – Что с тобой? – спросил он. – Тебе нехорошо?
– Голова кружится.
– Ничего удивительного, – сказал врач, набирая номер «Скорой помощи». – Вся эта история подействовала тебе на нервы.
– Понимаешь, меня весь день преследуют галлюцинации.
– Это все от жары, – сказал врач. – Прими душ, ложись и выспись как следует.
Казик послушался совета. Пока он принимал душ, санитары увезли тело покойной. Он лег, но голова по-прежнему кружилась. Стены, уставленные книжными стеллажами, колыхались из стороны в сторону, то прогибались внутрь комнаты, то грозили завалиться наружу.
– Голова все еще кружится?
– Нет, прошло.
– Я нашел в кухне водку. Выпьешь немного?
– Поставь тут, может, потом захочется.
– Сможешь уснуть?
– У меня есть люминал.
– Побыть с тобой?
– В этом нет необходимости.
– Спокойной ночи, Казик.
Богдан еще раз улыбнулся, затем его загорелое лицо вдруг исчезло, и все-все загорелые лица на свете – тоже. Хлопнула дверь парадного, от дома отъехала машина, настала тишина. Рутковский протянул руку к пиджаку и принял таблетку люминала. Запил ее глотком водки. Потом еще и еще одну, каждый раз запивая водкой.
Ему почудилось, будто его окликнули по имени. Он сел в постели, открыл глаза. Все вокруг сплошь было залито серебристым сиянием. Серебряная пыль покрывала платформы сортировочной станции, серебрились клубы паровозного дыма, отливали серебром товарные вагоны. И везде были расставлены охранные посты. Эшелон казался погруженным в абсолютное безмолвие, даже пар из паровоза вырывался беззвучно. Лишь однажды к сияющему небосводу устремился детский крик, и снова наступила тишина. Тишина и холодноватое, серебристое сияние.
– Казик! – крикнул кто-то.
Дверь четвертой от паровоза теплушки была наполовину отодвинута. В проеме стояла Ядвига… Ее планетой была Луна. Кожа Ядвиги, пропитанная лунным светом, сверкала, переливалась, просвечивала сквозь одежду. Но тело ее даже при этом мертвенном освещении казалось обильно плодовитым и животворным, как у библейских праматерей, из лона которых вышли все сыновья и дочери земли.
– Казик! – позвала она опять. – Пойдем с нами!
Он было поддался зову, но вовремя спохватился. Ведь он стоял под лунной сенью, вплотную к стене соляного склада; шагах в десяти от него, на углу склада, находился часовой. Казик замер как вкопанный, боясь шевельнуться. Все вокруг было усыпано солью, и, сделай он хоть шаг, соль захрустит у него под ногами.
– Казик! – еще раз позвала Ядвига.
Он затаился, не дыша. Появился какой-то железнодорожник и дал знак к отправлению; на голове у него была немецкая фуражка, зато вместо формы – такой же оранжево-красный свитер, как на познанском парне. Серебристый пар вырвался из паровоза. Состав дрогнул и, стуча колесами, скрылся вдали.
Казик расшнуровал ботинки и в одних носках, на цыпочках, зашагал по лунной дорожке к темному, погребенному в руинах городу. По пути он столкнулся с немецким патрулем; солдаты фонариком посветили ему в лицо, заметили, что он в одних носках, а ботинки держит под мышкой, но ничего не сказали; с легким презрением махнули рукой: проходи, мол.








