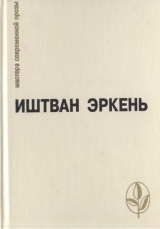
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Иштван Эркень
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Нам лучше знать. Под вечер, когда мальчик ложится, в кухне бывает еще светло, и старуха, хоть она и подслеповата, все же различить может, где человек, а где тень.
– Почему бы вам прямо не высказать ей все претензии? Ведь в ваших общих интересах устранить недоразумения.
– Пока Маришка жива, я и слова поперек не скажу. Со старухой у нас обращение самое обходительное, я и телевизор с ней смотрю, и прогуливаюсь с ней, словом, видимость соблюдаю. Зайди к нам кто невзначай, так подумает, будто в доме что ни день, то светлый праздник, да только мне эти «праздники» каких трудов стоят! В особенности с тех пор, как мальчик наш стал неузнаваемый.
– Что вы этим хотите сказать?
– За последнее время сына будто подменили. Никакой игрой его не растормошишь, смеха от него не услышишь, какой-то он запуганный стал, спит плохо, а ест и еще того хуже.
– И в этом, по-вашему, тоже повинна Мама?
– Жена считает, что в ней самый корень зла. Видите ли, врачи говорят, нервы у нашего сына слабые. Два года назад он из-за плохих отметок едва не покончил с собой. И это в двенадцать лет, мыслимое ли дело! Правда, принял он десять таблеток аспирина, и его сразу вырвало, но мы все же показали его психиатру. В больнице нам строго-настрого наказали ни в коем случае не бранить его, а только хвалить да поощрять, потому как мальчику необходимы положительные эмоции, – так сказал врач. С тех пор мы, конечно, его балуем, но кто знает, как все сложится, когда мальчик окажется с глазу на глаз с Мамой в четырех стенах? Честно говоря, господин режиссер, положение сейчас хуже некуда. Квартира для нас – вопрос жизни, но ребенок – он самой жизни дороже.
– А что, если в какой-то момент вы окажетесь перед выбором: или квартира, или ребенок?
– Об этом я не думал.
– Бросьте вы, какое там не думали! Да если разобраться, мы с вами только об этом и говорим с самого начала.
– Ну, не знаю… Поверьте, господин режиссер, я – человек тихий, мирный, покладистый, разве что бутылку пива когда позволю себе выпить, не больше, и не было такого случая, чтобы я на кого-то руку поднял. Но собственное дитя – дело другое. Если кто нашего ребенка заденет, тут от меня спуску не жди.
– Как вы это себе представляете?
– А так, что и перед убийством не остановлюсь, если кто ребенка моего обидит.
– Вы же сами сказали, что в жизни пальцем никого не тронули.
– А ежели доведут до крайности? Пристукну старуху чем ни попадя.
– Надеемся, что до этого не дойдет, дорогой Нуофер.
– Дай-то Бог. Может, еще чего спросить желаете?
– Нет, у меня нет больше вопросов.
– Тогда я с вашего разрешения побегу, а то магазины закроются. Шоколад надо купить.
– Кому это?
– Маме. На что не пойдешь ради собственного ребенка! Из кожи вон лезешь.
– Ну что ж, всего вам доброго, дорогой Нуофер.
* * *
Я. Надь как сквозь землю провалился. Последней видела его Ирена Пфаф, однако и ей было известно лишь, что Я. Надь на три дня ложится в клинику для обследования. Ирена самолично доставила писателя в клинику на своей машине. Ей показалось странным, что, кроме пижамы и тапочек, Я. Надь захватил с собой книги и журналы по медицине. Ну, а когда прошло две недели, а о писателе по-прежнему не было ни слуху ни духу, тут и другие заподозрили неладное.
На второй неделе пребывания Я. Надя в клинике Ирена Пфаф, прихватив жареную курицу и блюдо картофельного салата под майонезом, отправилась в посетительский день проведать писателя, однако дорогу ей преградила доктор Фройнд, которая заявила, что Я. Надь посетителей не принимает, но вызвалась передать больному курицу и картофельный салат.
Как известно, на телестудии секретов не бывает. Поэтому в очередной приемный день в клинику явилась Аранка Ючик с целым противнем яблочного пирога собственного изготовления. Аранке удалось проникнуть не дальше стола дежурной сестры, которая взять передачу согласилась, но до писателя Аранку не допустила.
Конечно, на телестудии стало известно и об этом неудачном визите. Как водится, слух сдобрили и немалой порцией домыслов. До Арона Корома он дошел уже в таком виде, что режиссер-де своим фильмом доконал Я. Надя и теперь тот доживает в клинике последние дни. Тут Арон подхватился и, вооружившись магнитофоном, тремя литровыми бутылями виноградного вина и таким же количеством содовой, постучал в дверь врачебного кабинета. Его появление было встречено весьма холодно.
– Напрасно вы пришли. Я. Надь не принимает посетителей.
– Я хочу это услышать от него самого.
– Присаживайтесь, – помедлив, сказала Сильвия. – Я сварю кофе, и мы с вами потолкуем.
Режиссер и врач сидели друг против друга, прихлебывали кофе и обменивались неприязненными взглядами. Доктор Фройнд первой перешла в наступление. Она потребовала, чтобы режиссер освободил Я. Надя от участия в фильме, поскольку связанные со съемками волнения подрывают его здоровье. До этого злополучного фильма писателя совершенно не занимала мысль о смерти, хотя для его возраста это несколько необычно. Но теперь Я. Надь впал в другую крайность: он не может думать ни о чем другом, кроме предстоящей кончины, и создалась такая парадоксальная ситуация, когда смерть стала для человека целью жизни. У пациента подскочило давление – отчасти на нервной почве, отчасти по причине органических изменений. Давление, правда, за истекшие недели удалось понизить до нормального, но за это время выявилось нарушение кровообращения. Выражаясь профессионально, в третьем и четвертом грудных отведениях зарегистрирован минимальный подъем сегмента S-Т, что на языке непосвященных означает: кардиограмма Я. Надя дает основания для пессимистических прогнозов. Если указанные отклонения не удастся ликвидировать, то придется считаться с возможностью инфаркта.
– Пациент об этом, разумеется, не знает. Надеюсь, я могу рассчитывать на вашу деликатность?
– Будьте спокойны. Распить по стаканчику вина с содовой – вот и все, что мне от него нужно.
Сильвия не одобрила этого намерения. Писателю сейчас вредно все, что может напомнить ему о фильме. Он, правда, лег в клинику лишь для обследования, но затем, поддавшись уговорам врача, согласился остаться на более долгий срок, потому что в этих стенах он чувствует себя в безопасности. Своих прежних знакомых, кто наводит Я. Надя на мысли о смерти, он избегает. И посетителей не принимает исключительно из чувства самозащиты.
– Кардиограмма у него сейчас нормальная?
– О нормальной пока еще говорить рано.
– Тогда скажите Я. Надю, что я хочу его видеть, – попросил Арон.
– Ничего у вас не выйдет.
– А вы намекните ему, что у меня при себе три бутылки вина и столько же содовой.
– Вы полагаете, что ради этого он поступится своим душевным спокойствием?
– Я его знаю больше, чем вы.
Доктор, обиженная, ушла, а вернулась еще более разобиженной. Писатель просил передать, что рад повидаться с Коромом.
Я. Надь лежал один в четырехместной палате, со всех сторон забаррикадированный грудами книг. Одну стопу он смахнул на пол, чтобы освободить гостю стул.
– Я смотрю, ты и магнитофон прихватил.
– Ты не против, если я его включу?
– Конечно, нет! Только для начала давай опрокинем по стаканчику.
Магнитофонная лента [11]11
Этот диалог – несколько подсократив при монтаже – использовали потом в одном из последних эпизодов фильма в качестве звукового фона к сцене похорон Я. Надя.
[Закрыть]
– Начну с того, старина, что я не забыл о своих обязанностях.
– Не думай, будто я пришел напоминать тебе об этом.
– Я просто констатирую факт. Чем глубже я вхожу в роль, тем яснее вырисовываются передо мною ее контуры.
– Тогда полный порядок. А то мне показалось, что ты от меня решил сбежать в больницу.
– Как раз наоборот: я нахожусь здесь ради тебя. Для достижения нашей цели нет лучшего рабочего места, чем больница. Мне настолько хорошо тут, что я отсюда больше ни ногой.
– Не узнаю тебя, Я. Надь! Ты собираешься жить в больнице?
– Не жить, а расстаться с жизнью.
– Не стоит торопиться, Я. Надь. Я слышал, давление у тебя снизилось.
– Давление мне сбили, зато мотор, слава Богу, забарахлил. Только смотри не проговорись при докторе, потому что Сильвия забыла, как она в первый мой визит сюда научила меня расшифровывать кардиограммы. Впрочем, взгляни сам, вот моя последняя кардиограмма. Отчетливо различим подъем сегмента S-Т в третьем и четвертом грудных отведениях; что на общедоступном языке называется: первый звонок. По всем расчетам, мне осталось тянуть две-три недели, не больше. Это я к тому, чтобы ты знал, каким временем мы располагаем.
– Мне было бы больше по душе, если бы ты выздоровел, Я. Надь. И так уже по всей студии раззвонили, будто я вгоняю тебя в гроб.
– Враки! Передай дражайшим коллегам, что я предпочитаю отлеживаться в больнице, лишь бы не видеть их постылые рожи. Наконец-то мне подвернулась работа по душе, так какого черта, спрашивается, я забыл на этой растреклятой студии? Прозябать на вторых ролях, разменивать талант на буфетные остроты? Какой выбор меня ждет там? Жениться на Ирене? Или во второй раз на Аранке? Добиваться милостей Уларика? Хватит, сыт по горло. Скажи им, что я устремился к подлинным высотам. Я сбросил с себя всю эту шелуху, как разношенные шлепанцы, чтобы наконец зажить исключительно ради творчества. Здесь у меня есть абсолютно все необходимое для плодотворной работы: крыша над головой, еда, любимое вино с содовой, ну и заботливая врачевательница, у которой, если ты успел подметить, грудь точь-в-точь, как у Мэрилин Монро.
– Прикажешь понимать так, что докторша влюбилась в тебя по уши?
– Сформулируем иначе: она не отказывает мне в той доле участия, которая разжигает мой творческий пыл.
– Прошу тебя, постарайся на этот раз обойтись без обычных своих любовных драм. Докторша ни в какую не хотела впускать меня к тебе.
– Ничего, старина, дай только срок, и эта станет шелковой. Если не будет другого выхода, я женюсь на ней.
– Пожалуй, ты прав: у тебя тут действительно есть все, что надо.
– Да, все, что нужно для теоретической подготовки, у меня есть. Зато возникли кое-какие практические трудности, с которыми мне не справиться в одиночку. Возьмешься помочь?
– А что именно от меня требуется?
– Оглянись вокруг: эта больничная палата станет нашим съемочным павильоном. Чем не идеальная студия – просторная, светлая! Беда, однако, в том, что реанимационная палата находится внизу, на первом этаже. Я специально спустился, прикинул, что к чему: гиблое дело, с камерой там не развернуться, все заставлено приборами разными, аппаратурой, больные лежат при последнем издыхании, стоны, хрипы. Там снимать мы попросту не сможем.
– Тогда где же?
– Здесь, в моей палате. Нужно только договориться, чтобы ее переоборудовали под этакое импровизированное реанимационное отделение. Всего и понадобится-то один-два прибора.
– Заметано. Что еще?
– Нужен телефонный аппарат.
– Пусть твоя докторша распорядится, если она и вправду без ума от тебя.
– Да в том-то как раз и беда, что Сильвия ревнива и желает всецело изолировать меня от внешнего мира. Так что запиши, пожалуйста, все мои поручения. Во-первых, забери у Ирены мою пишущую машинку, а у Аранки – мой переносный телефонный аппарат. Затем вынь машинку из футляра, спрячь туда телефонный аппарат и оставь внизу у привратника на мое имя. Пишущая машинка ни у кого не вызовет подозрений. А я в случае чего смогу с тобой связаться.
– Договорились, телефон я тебе доставлю, и ты, чуть что, дашь мне знать. Вот только пробраться к тебе не так просто. Насколько я понял, твоя Мэрилин Монро завидует, что в кино снимаешься ты, а не она.
– А ну, позови ее сюда, я вправлю ей мозги.
– Может, сначала по стаканчику для храбрости?
– Валяй.
– Будь здоров, старина.
– Будь здоров.
Вторая магнитофонная лента
– Вы позволите, Сильвия, записать наш разговор на пленку?
– Пожалуйста, у меня никаких секретов нет. Так чего вы от меня хотите?
– Прежде всего мы хотим заручиться вашим согласием. Видите ли, этот молодой режиссер с телевидения снимает фильм обо мне.
– Я в курсе дела. Однако тема эта в данный момент не актуальна, потому что, хотите вы того или не хотите, а я вас вылечу, Я. Надь.
– Рано или поздно эта тема станет актуальной.
– Незачем так далеко загадывать. И кстати, больница – это вам не театр.
– Но и мы не представление разыгрываем, а создаем документальный фильм на сугубо научной основе. И фильм наш призван служить тому же делу, что и ваша клиника, а именно: прогрессу науки.
– Не спорю, такая формулировка куда благозвучнее. И все же есть разница: мы, врачи, стараемся отдалить смерть, вы же, насколько мне известно, стремитесь ее зафиксировать. Не понимаю, почему вам понадобилось избрать именно эту тему.
– Потому, что для смерти не существует стереотипов, Сильвия. Нам известно лишь, что рано или поздно она ждет нас, но думаем мы о смерти, как о прыжке вслепую во мрак. Помогите же нам развеять этот мрак собственного невежества. Покажем телезрителям, что смерть – дело житейское, а значит, она может быть осмыслена нами и отображена, может быть названа своим именем.
– В чем же заключается моя задача?
– Видите ли, для фильма совершенно необходима красивая женщина. Ваша красота – это облатка, в которой мы заставим зрителей проглотить горькое лекарство.
– Напрасно вы расходуете комплименты. Я прежде всего врач.
– Большего нам и не требуется. У вас будет роль доктора Сильвии Фройнд, которая до последней минуты останется у изголовья больного.
– Заранее предупреждаю: я не потерплю ни малейшего вмешательства в мои служебные обязанности.
– Гарантирую, что вы беспрепятственно сможете выполнять свой долг. На таких условиях вы согласны?
– Я должна испросить разрешения у профессора.
– Телестудия обратится к профессору с официальной просьбой. Возьми себе на заметку, Арон.
– Все будет улажено.
– Вы изумительная женщина, Сильвия! Истинным наслаждением будет работать вместе с вами. Спасибо, старина, теперь можно выключить магнитофон.
* * *
Уларик, завидев режиссера, расплылся в улыбке.
– Ба, кого я вижу! Надеюсь, ты явился доложить, что фильм готов. Начальство в нетерпении, меня со всех сторон подгоняют.
– Конец пока не светит.
Уларик помрачнел.
– Так не пойдет. Пора, брат, закругляться.
– Тогда помоги мне.
– Что я должен сделать?
Вероятно, на Уларика действительно крепко насели, потому что он с ходу посулил все уладить. И с профессором-то он свяжется. И заручится его согласием на съемку фильма. И добьется, чтобы палату Я. Надя переоборудовали под реанимационную. И даже постарается выбить новейшую медицинскую аппаратуру, лишь бы только фильм наконец был готов.
– Еще что-нибудь от меня требуется?
– Сущий пустяк. Сегодня во второй половине дня открывается международная выставка роз. Сгоняй туда кого-нибудь из операторов. Пусть отснимут материал приблизительно минут на пять, а потом я попрошу включить этот материал в программу вечерних новостей. О дне передачи дам знать заранее.
– Идет! Ты разрешишь просмотреть отснятый метраж?
– Не раньше, чем все будет готово.
– Ну, и когда это, по твоим расчетам?
– Видишь ли, слово «когда» не фигурирует в моих расчетах.
– Хорошо вам, творческим работникам, а я обязан доложить руководству!
– Можешь доложить, что у Я. Надя зафиксирована коронарная недостаточность.
– Ладно, это уже кое-что.
* * *
Уважаемый господин профессор!
Полагаясь на Вашу неизменную приверженность к искусству, вновь дерзаю обратиться к Вам за поддержкой.
Когда я в последний раз навестил нашу больную, мне показалось, что жизненные силы ее идут на убыль. Если мои предположения верны, то это значит, что я должен быть готов к съемке финальной сцены. И тут я вынужден просить Вашего любезного содействия.
Заметив, какой интерес проявляет Мико к выставке роз, в которой ей уже не суждено принять участия, я добился, чтобы наш корреспондент подготовил телерепортаж о выставке. Думаю, что этой передачей мы могли бы доставить умирающей последнюю радость.
Не мое дело судить, как именно протекает болезнь в данном случае, и все же мне представляется, что рано или поздно наступит такой критический момент, когда Вы как врач сможете определить, сколько времени больной еще удастся продержаться в живых. Для меня было бы идеально, если бы развязка произошла между половиной восьмого и восемью часами, то есть во время вечерней передачи новостей.
Программа этой передачи составляется в тот же день, к вечеру, и для того, чтобы репортаж о выставке роз попал в программу, я должен знать о предполагаемой кончине нашей больной самое позднее до шести вечера. После шести в программу включаются только сообщения о международных событиях исключительной важности.
Поэтому убедительно прошу Вас, господин профессор, как только этот перелом в ходе болезни Мико станет очевидным, известить меня не позднее шести часов вечера по добавочному 6-76. Об этой любезности я прошу Вас не только ради успеха нашего фильма: как мне кажется, лучше и нельзя обставить уход Мико из жизни.
В ожидании Вашего звонка остаюсь с уважением Арон Кором.
* * *
Уважаемый господин режиссер!
Ваше возмутительное послание я порвал в клочки. Я не потерплю во вверенном мне заведении попыток столь серьезного нарушения врачебной этики, даже если попытки эти облечены в форму просьбы.
Вас не оправдывает и тот факт, что в медицине Вы – профан! Вам надлежит знать, что данная мною клятва обязывает меня лечить людей, то есть стремиться к продлению их жизни. Поэтому я не имею права подгонять смерть больного под Ваши режиссерские устремления или приурочивать ее ко времени передачи последних известий. Будем считать, что просьба Ваша не имела места.
Однако, к сожалению, Вы верно подметили, что состояние несчастной Мико стало критическим. Опасаюсь, что долее завтрашнего дня ей не прожить. На этот факт, будучи истинным сторонником Вашего творческого замысла, я и хотел бы обратить Ваше внимание. Будьте наготове, если желаете запечатлеть исход этой человеческой драмы. Родные и близкие больной предупреждены мною заблаговременно.
С приветом
д-р Тисаи,профессор-терапевт.
Первая половина дня
– Что это вы надумали ко мне заглянуть, молодые люди?
– Да вот, решили навестить вас.
– Уж не господин ли профессор вас подослал?
– Что вы! Мы выезжали по делу и оказались неподалеку от вашего дома.
– А я было подумала…
– Нет-нет, мы, можно сказать, забрели сюда случайно.
– Если побудете немного, то и с господином профессором встретитесь. Он теперь каждый день к нам наведывается.
У больной даже голос стал каким-то тусклым. Лицо – кожа да кости – готовая посмертная маска. И все же настроение ее было менее удрученным, чем в прошлый раз.
– Как ваше самочувствие?
– Есть я ничего не ем, и все время в сон клонит. Силенки мои истаяли.
– По-прежнему страдаете от боли?
– Да нет, лекарство мне теперь дают более сильное, чувствую только, как изнутри распирает, но боль вроде бы отпустила. А может, оттого мне полегчало, что обстановка у нас в доме изменилась к лучшему.
– С каких это пор?
– Вот уже несколько дней, просто небо и земля. А ведь как я жаловалась, помните?
– Скажите, что же именно изменилось?
– Многое. К примеру, раньше Мама почти не ухаживала за мной, а теперь каждое утро меня умывает, поит чаем, лимонадом, лекарства дает, кормит. Восемь лет назад, когда у нее образовалась катаракта, я ее утешала: «Не горюй, Мама, я стану твоими глазами». И представьте себе, сейчас она мои слова вспомнила. На днях и говорит мне: «Ты – мои глаза, ну а я – твои ноги. Только скажи, чего тебе подать». Кто бы мог подумать? Ну, а главное, она к Нуоферам придираться перестала.
– И давно произошли эти перемены?
– В последнюю неделю, и сейчас это очень даже кстати. Правда, и Нуоферы ее ублажают всячески. Шандор сливочным шоколадом пичкает, а жена его специально, Маме в угоду, фасолевый суп варит и тушеную капусту с копченой грудинкой готовит. Раз я слышала, как Мама ее благодарила: «Спасибо, что уважили, золотко». Таких душевных слов я от нее сроду не слыхала.
– Надеюсь, теперь вы спокойны.
– Да, ко времени радость подоспела, может, и в последнюю минуту. Я и сама чувствую, конец мой близок, да только не боюсь нисколько.
– Вы это серьезно?
– Перед смертью какие уж шутки.
– Как же не бояться смерти? Впрочем, можете не отвечать на мой вопрос, если не хотите.
– Чего уж там, могу и ответить. Сказать по правде, больше смерти меня пугает другое: как представишь себе, что тебя в гроб упрячут, да еще и крышкой прихлопнут. Вот что худо.
– А почему эта мысль так угнетает вас?
– Не могу я одна! Я всю жизнь прожила на людях. Днем на работе суетишься, и вокруг все знакомые, все тебя знают; по вечерам – мать рядом, а то и соседи. Должно быть, всякому приятно, когда живая душа рядом. А как гроб заколотят, тут уж всему конец.
– Выходит, самая большая для вас утрата в жизни, что рядом никого не будет?
– Это самое я и хотела сказать.
– Значит, без людей вам вообще не хотелось бы жить на свете?
– Верно. Хотя не скажу, чтобы я от людей много радости видела. Шесть лет прожила с мужем, плохо ли, хорошо ли, а все не одна была. В пятьдесят шестом он в уличные перестрелки ввязался, домой приходил с автоматом, а после сбежал за границу. Через «Свободную Европу» передал, что перебрался, мол, в Америку, и больше о нем ни слуху ни духу. Потом свалилась на нас эта беда с маминой слепотой; хочешь не хочешь, пришлось смириться, так же как смирилась я и с тем, что Нуоферы у нас поселились. Как-то изменить свою жизнь, повлиять на нее я никогда не умела, знай себе мирилась со всем. Так и сейчас: от конца своего никуда не денешься, стало быть, надобно принять его. Вот весь ответ на ваш вопрос.
– Какой вопрос?
– Вы же спрашивали, страшно ли умирать. Нет, не страшно. Как подумаешь, какая я теперь стала хворая, уж не видишь особой разницы…
– Но все же было, наверное, и в вашей жизни что-то светлое, о чем приятно вспомнить.
– Что-то не припомню такого.
– Ну, к примеру, даже по тому, как относится к вам старый Франё, видно, что на работе вас ценят.
– Конечно, ценят, как не ценить! Где им вторую такую дуру сыскать? Скажут: надо сделать – и знают наперед, что все будет сделано в наилучшем виде.
– Что же, и розы вы не любили?
– Вот спасибо, что напомнили! Нет, розы я всю свою жизнь любила.
– Расскажите нам что-нибудь о розах.
– О розах? Да что о них рассказывать-то?
– Простите великодушно. Я глупость сморозил.
– Да нет, не глупость, это я такая бестолковая. Сколько себя помню, ничего другого и не делала, кроме как розы обихаживала, а всего-то и знаю о них, что краше розы нет цветка на свете.
– Спасибо, этого вполне достаточно. Может, отдохнете немного?
– Ваша правда, устала я что-то. Но если для вашего фильма еще чего нужно, то вы спрашивайте, не стесняйтесь.
– Поспите. Вам не помешает, если мы тут побудем?
– Мне теперь никто не помешает.
– Ну вот и поспите, а мы посидим тихо.
Вторая половина дня
Мико спала. Режиссер и оператор забились в угол, сидели, ждали. Время тянулось медленно. Телевизионщики не решались ни разговаривать, ни курить. Изредка заходила Мама, низко наклонялась над дочерью, чтобы разглядеть ее лицо, и опять уходила. Совсем стемнело, когда вернулись с работы Нуоферы. Стараясь не шуметь, они проскользнули на кухню и зажгли там свет. Тишина стояла глубокая. Даже автобусы как будто проносились бесшумнее, чтобы не потревожить спящую.
У входной двери раздался звонок. Маришка проснулась. Оператор пошел открывать дверь: прибыл доктор Тисаи – в белом халате, прямо из больницы. На несколько минут, пока шел осмотр больной, он услал всех в переднюю.
– Как бы не проворонить последние известия, – вздохнул Кором.
– У нас еще двадцать минут в запасе, – успокоил его оператор, взглянув на свои часы со светящимся циферблатом.
Тисаи позвал их: можно войти.
– Будьте наготове, – шепнул он. – Я тоже останусь при ней.
Мико не спала, однако на сей раз она даже не повернула головы к вошедшим.
– Кто там? – спросила она едва слышным, безжизненным голосом.
– Это мы, с телевидения.
– Позовите Маму и Нуоферов. Пусть все будут в сборе.
– Сию минуту, – с готовностью бросился к двери Арон. – И если позволите, принесу телевизор.
– Зачем? Я ведь его все равно не смотрю.
– А вдруг будет что-нибудь интересное?
– Мне теперь ни до чего интереса нет.
Внесли телевизор. Поставили его на стул против кровати. Оператор привел Маму, усадил ее, затем заставил пересесть в другое место, чтобы она не загораживала Маришку. Пришли Нуоферы и стали в дверях. Молодая женщина старалась удержать слезы. Оператор, закончив приготовления, опять удалился в свой угол.
– Начнем?
– У меня все готово.
– Тогда я включаю телевизор, – сказал Арон и повернул рычажок.
Режиссер и оператор стояли позади прибора и только по дикторскому тексту догадывались о том, что происходит на экране.
Ага, это репортаж о наводнении. Плотины укрепляют мешками с песком. Бедственное положение арабских беженцев. Пуск новой производственной линии на Электроламповом заводе. Заседание Академии наук. И, наконец!.. Слава Богу, передача подоспела вовремя.
– Наш специальный корреспондент сообщает: в Будафоке открылась первая Международная выставка роз и проводится конкурс на звание лучшей сортировщицы.
Телевизор придвинули как можно ближе к постели Мико.
– Господи, – выдохнула Маришка, стараясь приподнять голову. Глаза ее не отрывались от экрана. – Господи Боже, да ведь это наше хозяйство! Помогите мне подняться, пожалуйста.
Профессор обхватил больную за плечи, приподнял и подложил ей под спину свернутую вдвое подушку.
– А вам всем хорошо видно? – спросила Маришка. Голос ее зазвучал чисто, внятно, точно со старого железа наждаком сняли ржавчину. – Смотрите, Франё! А флагов, флагов-то сколько! Вот они, наши розы! Это «Мефистофель», с острова Маргит. А это «Шевалье Дельбор», с юга Франции, цвет у нее бесподобный, густо-алый, какая жалость, что на экране плохо видно! А это «Чардаш», нежно-розовая, тоже с острова Маргит, вывел этот сорт Бергер. Вон та желтая называется «Фламинго». Смотрите, смотрите, это «Мистерия», сердцевина у нее белая, а к краям лепестки краснеют. Ах, до чего же неудачно показано, ведь это же канадская «Жемчужина моря», она вся так и переливается из желтого в бордово-красный. Если б вы видели, насколько она краше на самом деле! А вон «Новая Европа», родом из Бонна, из Германии. Теперь подряд пошли шведские сорта, а это наши – «Цитронелла» и «Принцесса Фери». Батюшки, да никак это Кантор, моя напарница! Она предложила первая, чтобы нам выступить на конкурсе с «Умирающим лебедем», мы с ней вместе обо всем условились, жалко только, что плохо видно, на самом деле цветок наш несравненно краше. Роза вся как есть белая, и только сбоку алая крапинка, это я придумала – привить от красного сорта «Таманго», вроде бы капля крови получается в том месте, где у лебедя рана… Кто же вышел на первое место, не мы, случаем? Куда же Франё подевался? А этого человека, кому приз вручают, я сроду в глаза не видела. Как знать, не расхворайся я не ко времени, глядишь, и нам бы какую награду присудили. Ах, уже конец? Показали не очень удачно, но все равно на душе хорошо, будто я сама там побывала. Спасибо вам, молодые люди, от всего сердца, и вам, господин профессор, спасибо. Спасибо, мне ничего не нужно, я чувствую себя хорошо.
Врач сделал Маришке внутривенную инъекцию, но на сей раз никого не стал высылать из комнаты. Глаза больной оставались открытыми. Одеяло поднималось и опускалось на животе, вздутом, как у беременной. Жизнь еще теплилась в ней, но сама она всем своим существом уже устремилась куда-то далеко-далеко…
Профессор Тисаи присел подле больной. Камера работала без остановки. Никто не двигался. Тишина была абсолютной. Время как будто замедлило свой ход. Оператор взглянул на Арона, но тот сделал ему знак не выключать камеру, как бы ни затянулась эта пауза [12]12
Впоследствии сюда были вмонтированы кадры, ранее отснятые в цветоводческом хозяйстве «Первоцвет». Кадры эти тоже оставили неозвученными, люди двигались бесшумно, только губами шевелили, как немые, а вокруг раскинулись необозримые поля роз. Безмолвие цветущих полей и мертвый покой в доме Мико усиливали ощущение тишины, словно весь мир умолк на эти минуты. Это одно из самых удачных мест в фильме.
[Закрыть].
Долгое время спустя Маришка заговорила. Слова слетали с губ едва уловимо, как вздох.
– Позовите ко мне Маму.
– Здесь я, доченька. Подать тебе чего?
Никакого ответа. Доктор Тисаи нащупал пульс больной. Маришка все еще дышала, только теперь дыхание ее стало шумным. Глаза ее широко раскрылись, взгляд был устремлен в потолок. Режиссер подошел к кровати.
– Прошу вас, соберитесь с силами и, если можете, повернитесь, пожалуйста, к вашей матушке.
Мико медленно повернула голову, но не туда, где сидела Мама и остальные люди; невидящим взглядом она уставилась в пустоту.
– Шандор тоже здесь?
– Здесь я, – чуть слышно выдохнул Нуофер.
– Пусть Шандор возьмет Маму за руку.
– Садитесь рядом со старушкой, – шепотом подсказал Арон, – и смотрите в объектив.
Все в комнате, как по уговору, перешли на шепот, будто произнесенное вслух слово могло оказаться во вред больной.
Нуофер подсел к Маме, взял ее руку в свои.
– Теперь вы вместе? – спросила Мико.
– Вместе мы, доченька, вместе, – поторопилась успокоить ее Мама.
– Мы сидим рука об руку, – добавил Нуофер.
– Видишь ты нас, Маришка? – спросила Мама. Ответа так и не последовало. Все в комнате неподвижно замерли; вот наконец у больной вырвался глубокий вздох.
– Кончилась! – всхлипнула Мама.
Профессор, отыскав у Маришки пульс, отрицательно покачал головой: нет. Еще нет. Еще жива. Но Арон, словно повинуясь инстинкту, безошибочно уловил приближение решительной минуты и сделал знак оператору. Чтобы самому не попасть в кадр, режиссер прошел вдоль стены к самой двери. Оператор с камерой проделал тот же маневр. От двери Арон направился к кровати. Он врезался в замершую кучку людей, раздвигая их направо-налево, разъединил жену Нуофера и мальчика, Шандора и Маму. По образовавшемуся проходу за ним медленно следовала камера, но вот и камера замерла, совсем близко от лица Маришки.
Инстинкт не подвел Арона. В этот момент доктор Тисаи выпустил руку Маришки, поднялся и дважды утвердительно кивнул. Смерть наступила. И не было в этом ничего внушающего страх или ужас; закрылись глаза, упала набок голова, одеяло больше не вздымалось и не опадало. Просто не стало одного человека. Опущенные веки Мико – как точка в конце фразы; на них и остановился кадр.
* * *
Похороны пришлись на унылый, пасмурный день. Низкие, черные тучи заволокли небо и среди дня погрузили город в сумерки. Это приглушенное освещение, пожалуй, соответствовало печальной церемонии, но уж никак не благоприятствовало съемкам.
У кладбищенской часовни собралась такая огромная толпа провожающих, что телевизионщики подумали было, что перепутали время или место похорон. Столько родственников, друзей и знакомых у Мико вряд ли наберется. Когда режиссеру и оператору удалось наконец пробиться ко входу в часовню, их остановил какой-то старик, одетый в черный парадный костюм.
– Вы, часом, не ошиблись? Тут хоронят одну работницу из цветоводческого хозяйства.
– Не Мико ли?
– Точно, Маришку Мико мы хороним.








