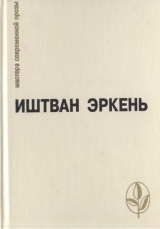
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Иштван Эркень
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
И тогда я обрел себя или, как говорят обо мне, обрел свой голос. Я-то знаю, что это скорее возврат к прежнему: ведь давным-давно, в самых первых, юношеских моих пробах пера прозвучал этот необычайной гротескной тональности голос, вновь – и на сей раз окончательно – прорвавшийся наружу благодаря столь парадоксальной ситуации, когда я вдруг оказался никому неподотчетен. В эту пору легли на бумагу первые «рассказы-минутки», а также «Семья Тотов» и «Кошки-мышки».
Мне надоело детально описывать человеческое лицо, одежду, комнату, пейзаж. Я вовремя сообразил, что это всем знакомо. Понапрасну я стал бы описывать комнату, в которой находился, – все равно каждый увидит лишь изначально сложившийся в нем ее образ. Потом я пришел к выводу, что описание в целом совершенно не стоит писательских усилий. Затем осознал, что придуманный сюжет также излишен, он лишь портит дело. Постепенно я стал отказываться от фабулы ради фабулы. «Рассказы-минутки» возникли потому, что я попросту ленился писать более длинные. Но это была умозрительная лень: за ней стояло отрицание тех принципов, с какими я был теперь не согласен.
В 63-м году появились первые признаки изменения обстановки. До сих пор, каждый год посылая в Издательство художественной литературы рукописи для публикации, я неизменно получал их обратно в сопровождении учтивого, но однозначного отказа. А в тот переломный год мне не только не вернули материалы назад, но даже кое-что опубликовали. В идеологическом отделе ЦК состоялась беседа, закончившаяся для меня весьма положительным результатом: от вышеупомянутого издательства пришел договор на сборник моих рассказов, а затем я наконец получил заграничный паспорт. Разумеется, тотчас же разнесся слух о том, что «положение Эркеня изменилось», и сразу объявились просители от двух газет и двух театров за материалом. А полгода спустя я распрощался с заводом. Заводское руководство вздохнуло с облегчением: сомнительная честь иметь среди своих работников столь одиозную фигуру.
Вышел из печати сборник рассказов «Царевна иерусалимская», куда были включены произведения, написанные мною в основном в годы вынужденного молчания. Затем увидел свет сборник «Молодожены на липучке» – открытый манифест гротеска. По заказу театра за две недели я создал сценический вариант «Семьи Тотов». В день премьеры, казалось, всюду в театре, вплоть до туалетов, пахло провалом. Ан нет, «Тоты» принесли мне первый сценический успех, после чего «на ура» были приняты и «Кошки-мышки».
Наконец я стал «выездным». Поездки по большей части были связаны с премьерами моих пьес. Брюссель, Лондон, Париж, Вашингтон… Впервые я побывал в Америке и столкнулся здесь с неожиданностью: меня удивило, что американцы иначе относятся к смерти, чем в Европе. Там врачи открыто говорят больному, какая участь его ожидает, сколько еще времени ему отпущено. Я видел по телевидению документальный фильм «Dying» – «Умирание»… Под впечатлением этого фильма и возник замысел «Выставки роз». Ни у нас, ни в других знакомых мне странах Европы подобный фильм был бы невозможен, поскольку для нас смерть как тема является табу.
Любопытно, что едва коснешься этой темы, и мгновенно все мы начинаем нервничать: мы не готовы к смерти ни духовно, ни душевно, ни разумом, ни чувствами. А ведь каждый, у кого есть дети, знает, что пяти-шестилетний ребенок, который и слова-то этого почти что не слышал, поскольку мы стараемся при детях его не произносить, непременно рано или поздно задаст вопрос: «Папа (мама), ты тоже умрешь? Я тоже умру?» Вот ведь, спрашивается, откуда он это знает?
Смерть – это естественное завершение нашего бытия. Нас не ужасает факт нашего рождения, так отчего же мы жалуемся, сокрушаемся, дрожим от страха, что нам предстоит уйти из жизни? Вся наша жизнь приобретает смысл благодаря тому, что когда-то мы должны умереть.
В 68-м разрешили к постановке мою пьесу «Пишти в кровавую грозу», девять лет находившуюся под запретом. Для меня это было большой радостью. Теперь надо спешить, друзья вокруг уходят один за другим, а я зажился…
Однажды зазвонил телефон. Необычайно учтивый молодой человек представился работником кинохроники и сказал, что студия хотела бы подготовить интервью со мной. Я поинтересовался, по какому поводу. «По случаю вашего дня рождения», – сказал собеседник. «Да мой день рождения давно прошел!» Молодой человек глухо молчал. «Значит, я должен подготовить некролог самому себе?» – спросил я напрямую. Молодой человек страшно смутился и наконец выдавил из себя: «В общем-то, да…» – «Ладно, согласен», – ответил я. Съемочная группа явилась ко мне домой и взяла интервью. Так сказать, с перспективой на будущее…
Жизнь Иштвана Эркеня оборвалась 24 июня 1979 года.
ПОВЕСТИ
КОШКИ-МЫШКИВсе мы чего-нибудь да хотим друг от друга.
Только от стариков нам ничего не надо.
А вот когда старые люди тоже чего-то хотят друг от друга, мы поднимаем их на смех.
Фотография
Фотография сделана году в 1918-м или 1919-м, в Лете (комитат Солнок), у непроточного рукава Тисы, неподалеку от поселка сахарного завода, где жило тогда семейство Скалла.
Высокий берег. Виден задок рессорной брички (лошади в кадр не вошли), а по береговому склону бегут вниз, к реке, обе сестры Скалла в легких кисейных платьях, свободно раскинув руки и заразительно смеясь; но реки на фотографии тоже не видно.
Снимок при экспонировании получился с передержкой; со временем девичьи фигуры на фотографии пожелтели, поблекли, да и лиц почти не разобрать.
Письма
Гармиш-Партенкирхен
От Мюнхена до нас без малого сто километров, и тем не менее ровно в восемь вечера, с истинно немецкой пунктуальностью, машины одна за другой свернули в ворота парка. В восемь тридцать служанка – не сиделка, приставленная ко мне, а горничная – распахнула дверь в обеденную залу; сначала она подкатила меня в кресле на колесиках к обычному моему месту во главе стола, а затем уже я каждому из гостей указала отведенное ему место. На такого рода званых ужинах в узком кругу не принято заранее раскладывать карточки с именами приглашенных, поэтому я могла по своему желанию предложить профессору Раушенигу сесть рядом со мною; Раушениг не только знающий врач, но и превосходный собеседник. Впрочем, приглашен он был вовсе не потому, что он мой домашний врач, а как младший брат вице-президента Баварской торговой палаты; для Миши очень важно поддерживать деловые связи. Профессор Раушениг тотчас осведомился о моем самочувствии; я, в свою очередь, ответила: какой смысл жаловаться, если все равно изменить ничего невозможно. На это последовал комплимент; у меня-де редкая сила воли, и еще всякие мудрые высказывания – не могу их вспомнить, устала, и память подводит меня. Сиделка принесла снотворное, так что допишу тебе завтра утром.
Ну вот, продолжаю письмо. Профессор сказал мне: «Wir, Menschen, sind Übergangs-Kreaturen und wissen sehr wenig über Freude und Leid. Alles, was uns Zweck scheint, kann auch Ursache sein» [2]2
Мы, люди, – существа преходящие и чрезвычайно мало знаем о радости и страдании. То, что представляется нам законченным, может оказаться началом нового (нем.).
[Закрыть].
Переводить не стану, не зря же ты в свое время преуспевала в немецком, воспользуйся случаем освежить свои познания! А позднее, когда речь зашла о бессмысленности физических страданий, он заметил: «Собственно говоря, при посредстве курицы одно яйцо производит другое». Неплохо сказано, а? К сожалению, я не могла всецело сосредоточиться на беседе с профессором – надо было помнить и о других гостях. Когда стали обносить шампанским и разнообразными винами, мне всякий раз приходилось первой поднимать бокал, потому что, пока я не пригублю, никто из гостей не притронется к вину. Хороша, должно быть, была я в своем новом платье из черных голландских кружев – ожившая мумия, да и только! Послушай, ты, глупышка! У меня же пропасть нарядов, и так бы хотелось послать тебе что-нибудь! Я понятия не имею, сколько у тебя платьев? И потом, кто такая эта твоя Паула, встрече с которой ты так обрадовалась и которую якобы я должна помнить? Мне это имя не говорит ровным счетом ничего, хотя память у меня – когда я не переутомлена – хорошая, на имена в особенности.
Ужин в гостиной давали при свечах. Двести восемьдесят свечей. В прежние времена такой великосветский шик можно было видеть разве что в Театре комедии, когда там ставили Молнара. А у нас это будни!
Будапешт
Дорогая моя Гиза! Паулу ты не знаешь да и знать не можешь. Она же, напротив, очень о тебе наслышана, и потому первым ее вопросом было: «Как поживает твоя сестра Гиза?» Дело в том, что мы с Паулой всю осаду отсиживались вместе, в одном бомбоубежище в Буде, и я, беспокоясь о вас и шесть недель ни сном ни духом не ведая, как вы там, в Пеште, остались ли живы во время боев за город, только и знала, что без конца о тебе ей рассказывала. Бедный мой Бела, как был растяпой, так и остался верен себе: на всю осадную пору прихватил с собой из аптеки только десяток ампул с противостолбнячной сывороткой да пятьсот таблеток ультрасептила, хотя там осталось лежать шесть мешков сахарного песку. Но такой уж он человек, к чужому не притронется – даже когда Будайская крепость огнем горит! Кабы не Паула, мы бы тогда с голодухи ноги протянули. А она нас не только мукой, смальцем, картошкой снабжала, но, случалось, и медком угостит, и беконом, а то и яйцо даст. Люди в ту пору вонью собственной и то поделиться жалели, а Паула последним куском делилась, да так притом естественно и мило, что я иной раз ей и спасибо сказать забывала. С тех самых пор я ее не видела, вплоть до прошлого воскресенья. А уж при каких обстоятельствах мы встретились – и вообразить нельзя! Едва вспомню, сквозь землю готова провалиться.
День у меня выдался – хуже не придумаешь. С самого утра посыпалось то одно, то другое, нервы уже на пределе были. Ты-то знаешь, как это со мной бывает. Когда все идет наперекосяк, досада копится, копится, а там – точно фитиль подожгли, в любой момент могу взорваться. А вообще-то, если уж на то пошло, эта особа – хозяйка молочной лавочки – давно у меня в печенках сидела. Обидно только, что весь этот спектакль разыгрался на глазах у Паулы, именно в той молочной на улице Чатарка! Паула стояла наверху: в молочную ведут четыре ступени вниз; так вот, она, застыв на месте, стояла и слушала, как мы грыземся, и только смотрела сверху вниз, на лохань с дерьмом, куда порядочному человеку сунуться противно. Можешь себе представить – хороша картина: левой рукой я прижимаю к себе соседскую кошку, в правой – бутылка из-под кефира, там молока чуть на донышке; на одной ноге у меня домашняя туфля, на другой высокий ботинок со шнуровкой, а на голове – чужая шляпка, оказавшаяся у меня по чистой случайности! Я разошлась вовсю, кричу на молочницу, не очень выбирая выражения, а молочница тоже глотку дерет и тоже не стесняется в выражениях; позади меня четыре старушки дружно честят молочницу на чем свет стоит, потому что всем эта лавочница ухитрилась насолить, и только Тивадар Лёкёш в конце очереди делает вид, будто кашель его одолел; старик всегда норовит в стороне остаться. Теперь представь себе: в самый разгар перепалки распахивается дверь, и на пороге возникает дама; внешность у нее, скажу тебе, не знай я, что она на четыре года старше меня, дала бы ей, не задумываясь, на добрый десяток лет меньше. А волосы какие, Гиза! Ни дать ни взять – натуральная блондинка, оттенок такой естественный, неподдельный, словно чистая вода в стакане. Одета она была в светло-ореховый джерсовый костюм английского покроя; с одного взгляда ясно: в Будапеште такого днем с огнем не сыщешь. Но это еще не все, Гиза: она была совсем без чулок, потому что загар у нее – ну просто божественный. Подумать только: на четыре года старше меня, а загар такой, будто она целые дни проводит в спортивном бассейне. Ну, и туфли соответственно – самого модного заграничного фасона: остроносые, с вырезом, и каблук высоченный. Гиза, это еще не самое главное. А вот что интересно: она и рта не раскрыла, просто стояла молча и смотрела, а в лавочке моментально наступила гробовая тишина, все, как по команде, уставились на нее, и всем стало стыдно.
Поначалу я не узнала ее. Она внимательно пригляделась ко мне и спросила: «Если не ошибаюсь, вы – госпожа Орбан, не так ли?» Я еще не успела прийти в себя и молчу, будто в рот воды набрала, зато молочница быстро опомнилась и попыталась было продолжить свару, но даже пикнуть не посмела, потому что Паула только глянула на нее и осведомилась: «Что вам угодно, уважаемая?» Слова как слова, но взгляд… Так она глянула на эту молочницу, что достопочтенная госпожа Миштот вмиг была уничтожена – вернее сказать, морально разбита в пух и прах; она и не пикнула, когда я вместе с Паулой повернула к выходу, не заплатив ни гроша. Потому что впопыхах я и кошелек умудрилась дома забыть.
Паула проводила меня до самого дома, это, впрочем, недалеко, молочная от меня в трех минутах ходьбы, и разговора особого вроде бы не было, а я до сих пор нахожусь под его впечатлением. Паула спросила, из-за чего мы рассорились; да какая там ссора, говорю, не думает же она, будто я способна унизиться до перебранки с молочницей, этой дурой стоеросовой. Это я, конечно, напрасно сболтнула, ведь, когда Паула вошла в лавочку, скандал был в полном разгаре. Затем она спросила о тебе, и я сказала ей, что состояние твое, к сожалению, не улучшилось, хотя вот уже шестнадцатый год, как ты переехала жить к своему сыну Миши в Гармиш-Партенкирхен, где за тобой смотрят самые лучшие врачи. Паула попросила передать, что она тебя целует, а потом сказала еще, что шляпка на мне – просто загляденье и очень меня молодит. И тут, представляешь, Гиза, вместо того, чтобы признаться, что шляпка эта вовсе не моя, а какой-то незнакомой мне женщины и очутилась на голове у меня чисто случайно, я наплела ей, будто отхватила шляпку в Центре, за двести пятьдесят форинтов. Кончилось тем, что мы с Паулой договорились встретиться во вторник после обеда, посидеть в «Нарциссе». Ты это кафе не знаешь, его открыли лишь в прошлом году на улице Ваци, и я там не бывала ни разу, так, разве что походя заглянешь когда в окно; терпеть не могу эти шикарные заведения.
Как видишь, ни о чем особенном мы с ней не говорили, так, больше о пустяках, но с тех пор, о чем бы я ни подумала, я тут же ловлю себя на мысли: вот бы хорошо обсудить это с Паулой! Едва дождалась я вторника; мне кажется, Паула влияет на меня, как ты. Вспомни то золотое времечко, когда мы жили в Лете! Постоянно со мной что-нибудь да случалось, огорчение за огорчением, обида за обидой, но если ты была рядом, стоило тебе только сказать: «Ну, что с тобой, Liebling [3]3
Милая (нем.).
[Закрыть]?» и бед моих как не бывало, ты всем существом своим давала мне почувствовать, сколь мелки все мои обиды в сравнении с миром возвышенных переживаний. Вот и Паула такая же. Это у вас от природы. Я имею в виду не только ее безукоризненный вкус, ее умение одеваться, но и свойственную ей врожденную элегантность, то внутреннее благородство, каким обладал наш милый, добрый папа, который, несмотря на свою стокилограммовую комплекцию, заляпанные грязью сапоги и видавшие виды бриджи, сумел снискать всеобщее уважение, начиная со старого Данцигера до дядюшки Лайоша, весовщика. Редкостный дар, свойственный людям благородной души!
На этом кончаю, тороплюсь в «Нарцисс». Со вторника мы встречаемся там каждый день.
Междугородный телефонный разговор
– Что все-таки она тебе сказала?
– Что она-де не обязана отпускать молоко по пятьдесят граммов.
– Взяла бы не пятьдесят граммов, а больше.
– Кошке и этого с лихвой хватает.
– И из-за этого вы с ней поссорились?
– Нет, до ссоры было еще далеко. Тут я этаким медовым голосом ее и спрашиваю: «Где это сказано, милочка? Может, у вас такое объявление висит?»
– А она что в ответ?
– Что, мол, нет надобности вывешивать такие объявления, и без того каждому понятно.
– А ты что?
– Я свое гну: должно, мол, быть объявление.
– А она что?
– Пустилась объяснять, что молочная по воскресеньям открыта, чтобы снабжать молоком грудных младенцев и вообще детей, а вовсе не кошек или других каких тварей. Вот тут я почувствовала, что меня бросило в жар.
– И что же ты ей ответила?
– Я ее спрашиваю, все так же вежливо: «Почему же это у вас нигде не оговорено в объявлении, моя милая?»
– А она тебе что?
– Это, мол, само собой разумеется, а стало быть, и в объявлении ни к чему оговаривать.
– А ты ей?
– Тут я и говорю ей: как же так, пишут же, что хлебные изделия руками трогать запрещается, хотя это и так всякому понятно. Выходит, и правила работы молочной нелишне было бы вывесить.
– А она что?
– Всего, говорит, не вывесишь.
– Ну а ты?
– Надо, говорю, так вывесишь.
– А она?
– Нет, не вывесишь.
– А ты что же?
– Стою на своем.
– И конечно, голос повысила?
– Тогда еще нет.
– Значит, она первой начала перебранку?
– Да нет, вообще-то первой сорвалась я. А что мне еще оставалось, если эта мегера потребовала, чтобы я немедленно освободила магазин. Это почему же, спрашиваю, по какому такому праву? По тому самому, отвечает, что с кошками и собаками в молочную вход запрещен. Может, у вас и объявление такое есть, спрашиваю. Есть, говорит, как раз у вас над головой висит.
– И что, там в самом деле было вывешено такое объявление?
– Представь себе, было!
– В таком случае молочница совершенно права.
– Вот именно! Оттого я и взорвалась!
– Чего же ты ей наговорила?
– Уж будь спокойна, все ей выложила, что за месяцы накопилось.
– Нагрубила ей?
– Знаешь, в таких случаях, как я себя ни сдерживаю, а что-нибудь да сорвется с языка.
– И что же именно ты ей сказала?
– Дура ты, говорю, толстопердая.
– Что-что? Прости, я не поняла.
– И неважно; так, пустяки.
– Наверное, это оскорбительное слово?
– Ты когда-нибудь слышала, чтобы я оскорбила кого?
– Насколько помню, мне иногда приходилось тебя одергивать.
– Да уж, крепкие словечки тебе всегда были не по душе.
– А остальные покупатели, они тоже ввязались в перебранку?
– Все были за меня! Видишь ли, эта молочница всем в округе давно поперек горла стояла.
– И здесь, по ходу действия, появилась эта твоя Паула!
– Ирония тут совершенно неуместна.
– Ирония? В чем ты усматриваешь иронию?
– По тону чувствую.
– Ну что ты, родная, тебе показалось.
– Судя по всему, моя новая приятельница тебе чем-то не нравится?
– Заблуждаешься. Не нравится мне другое: что ты появляешься на людях неряшливо одетой.
– Некогда мне было одеваться! Говорю тебе, кошка сбежала.
– Не стоило горячку пороть, вернулась бы твоя кошка и сама.
– Как это вернулась? Ведь убежала-то она от соседки, из ее комнаты.
– Объясни тогда, каким образом ты сама очутилась у соседки, и в таком виде, полуодетая!
– Сколько минут мы с тобой разговариваем?
– Пусть это тебя не заботит.
– Звонок влетит тебе в копеечку!
– Говорю же, это несущественно. Так что с соседкой, она была нездорова?
– Ее вообще не было дома.
– Как же ты, полуодетая, оказалась у соседки, в пустой комнате?
– Гиза, это совсем неинтересно.
– Напротив, мне крайне интересно.
– Ну, скажи на милость, зачем тебе вникать во все эти мелочи?
– Затем, что я беспокоюсь о тебе.
– У тебя нет никаких причин за меня беспокоиться.
– Возможно, всему виною обычная твоя взбалмошность, но по твоему письму я поняла, что у тебя не все благополучно.
– С чего ты взяла?
– Читается между строк.
– Как это между строк?
– Да и по тону твоему тоже чувствуется.
– Тогда я расскажу тебе все как есть, лишь бы ты успокоилась, Гиза. Видишь ли, эта моя соседка, она, конечно, женщина добрая, но уж очень забитая. Ее и по имени-то никто не зовет, все Мышка да Мышка. Она оставляет мне ключ от своей комнаты, потому что сама целыми днями на работе, а шляпки мастерит только в свободное время. Так вот, в тот самый день, только я начала одеваться, как позвонила одна ее заказчица, хотела узнать, готова ли ее шляпка. Я – в соседнюю комнату, с кошкой на руках. Вижу, шляпка лежит готовая… Ну я и не утерпела, дай, думаю, примерю! Кошку я спустила на пол, буквально на минуту какую, не больше, а эта мерзавка сразу шмыг за дверь и – вниз по лестнице.
– Ты, конечно, за ней?
– А что мне еще оставалось?
– В чем была, в том и выскочила на люди?
– Да еще пришлось гоняться за ней по всему кварталу.
– Как ты могла?!
– Разве ты на моем месте поступила бы иначе?
– В целом мире нет кошки, ради которой я рискнула бы показаться на улице небрежно одетой.
– Ты ведь знаешь, что это не моя кошка, а моих соседей. Просто она ко мне очень привязана. Можешь себе представить, что было бы с соседями, пропади их обожаемая кошка, тем более что они и так ее ко мне ревнуют.
– Об этом ты мне не писала.
– О чем это я тебе не писала?
– Ты писала, что адъюнкт и его супруга на редкость деликатные и вежливые люди, и ни словом не обмолвилась о ревности.
– Ничего тут интересного нет!
– Напротив: интересно, чем вызвана их ревность.
– Они вообразили, будто бы я приманиваю их кошку.
– И чем же ты ее приманиваешь?
– Во сколько обходится каждая минута нашего разговора?
– Повторяю, это не должно тебя беспокоить.
– А я не успокоюсь, пока не узнаю, сколько будет стоить наш разговор.
– Ничего он не будет стоить.
– Этого не может быть.
– Счет за переговоры приплюсуют к расходам предприятия.
– Миши – владелец предприятия, значит, он и плати из своего кармана?
– Повторяю, счет отнесут к накладным расходам.
– Так или иначе, а платить ему!
– Миши это скорее обрадует. Чем больше счет за междугородные переговоры, тем ниже налоги на прибыль.
– Уму непостижимо!
– Так чем ты приманиваешь кошку своих соседей?
– Даю ей блюдечко молока.
– И только?
– Иногда мясцом побалую.
– По-твоему, это корректно?
– Кто виноват, что мои соседи чересчур щепетильны!
– В подобной ситуации я тоже почувствовала бы себя задетой.
– Хочешь сказать, на их месте ты бы обиделась?
– Разумеется.
– Потому что и ты такая же щепетильная.
– Впервые слышу.
– Сейчас ты впервые обижена на меня.
– С чего ты взяла?
– По всему нашему разговору чувствуется.
– Я ничем не дала понять, что обижена.
– Потому что ты не откровенна со мной.
– Ты отлично знаешь, что я всегда откровенна с тобой.
– Тебя что-то угнетает, я сразу же это почувствовала.
– Не понимаю. На что ты намекаешь?
– Я имею в виду Паулу.
– Очередные твои фантазии! Пойми ты, глупая, если у тебя появилась новая подруга, с которой тебе хорошо, я могу только радоваться за тебя.
– Я знаю, что ты за меня радуешься, и все же твоя радость чем-то омрачена.
– Заблуждаешься. Вот разве что в письме твоем было одно суждение, которое мне кажется несколько поспешным.
– Какое еще суждение?
– Ты пишешь, будто бы эта Паула оказывает на тебя точно такое же влияние, как я.
– Ты меня удивляешь, Гиза!
– Чем же именно, моя дорогая?
– В моем понимании это наивысшая похвала. Я ведь прямо так и написала, что по своей утонченной натуре и душевному благородству она напоминает мне тебя.
– А между тем эта особа – крашеная блондинка и носит светло-ореховый джерсовый костюм. По-твоему, и в этом мы с нею схожи?
– Ты ведь тоже очень следишь за своими нарядами, Гиза.
– Меня обязывает к этому положение, которое я занимаю в доме сына. Но, видишь ли, Даже самые дорогие мои парижские туалеты приличествуют моему возрасту. Что же касается волос, то я, как ты знаешь, не блондинка, а седая.
– Тебе и тут повезло, седина у тебя дивная. Хотя, признаться, я не вижу греха в том, что кто-то красит волосы.
– И ты еще пытаешься ее защищать?
– Нужна ей моя защита! Да в наше время миллионы и миллионы женщин красят волосы.
– Повтори, пожалуйста, что ты сказала!
– Чего повторить?
– Последнюю свою фразу.
– А что я такого сказала? Действительно, сейчас миллионы женщин красятся.
– Так я и подозревала.
– Что именно?
– Подозревала, что ты буквально во всем подражаешь этой своей Пауле.
– В чем это я ей подражаю?
– Ты тоже превратилась в блондинку?
– Ума не приложу, с чего тебе это взбрело в голову…
– Отвечай: да или нет?
– Должна тебе сказать, Гиза, ты меня удивляешь.
– Тогда поклянись, что не красилась. Самым дорогим поклянись: памятью покойного отца.
– Вот еще, давать такую клятву из-за сущих пустяков!
– Значит, ты все-таки блондинка?
– Вовсе я не блондинка.
– Следует понимать, что дражайшая Паула посоветовала тебе какой-то другой оттенок?
– Ну, можно ли в таком тоне говорить о человеке, который спас нас с мужем от голодной смерти?
– Я говорю о тебе.
– А достается Пауле.
– Меня тревожит только твоя участь.
– Ну так пусть моя участь тебя не тревожит.
– Через пять минут тебе же самой стыдно будет за эту ссору.
– Какая ссора? Да я в жизни ни с кем не ссорилась!
– Напротив. Всю жизнь тебе доставляло удовольствие ссориться.
– Давай кончим разговор, дорогая.
– Я хотела предложить тебе то же самое.
– Миши передай привет от меня.
– Обязательно передам.
– Хильдегард и обоим твоим внучатам тоже.
– Спасибо.
– Целую тебя, Гиза.
– Береги себя, пожалуйста.
– Нечего мне беречься.
– Покойной ночи, дорогая!
– Покойной ночи.








