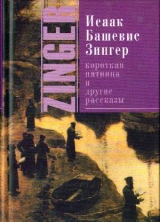
Текст книги "Короткая пятница и другие рассказы (сборник)"
Автор книги: Исаак Башевис-Зингер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
2
Вскоре, однако, я понял, что и у Зейдла есть свое слабое место: гордыня. И уверяю вас, ее там было не в пример больше того, что позволяет иметь ученым Талмуд. Не лучина тщеславия, а настоящий костер.
План сложился быстро, и вот однажды глубокой ночью я разбудил Зейдла и сказал ему:
– Зейдл, тебе известно, что ты лучше всех раввинов в Польше разбираешься в Комментариях?
– Естественно, известно, – ответил он. – Но больше-то об этом никто не знает.
– А тебе известно, Зейдл, что никто не сравнится с тобой в знании иврита? – продолжал я. – И что в Каббале ты изощреннее самого реб Хайма Витала? И что ты больший философ, чем сам Маймонид?
– К чему ты все это говоришь? – удивился Зейдл.
– Да к тому, что ведь это неправильно, когда такой великий человек, как ты, знаток Торы и энциклопедист, вынужден торчать в этой Богом забытой дыре, где никто не в состоянии оценить твоей мудрости, где люди тупы, раввин невежда и даже твоя жена не понимает, как ей повезло с мужем. Реб Зейдл, воистину ты жемчужина, затерянная среди песков.
– Ну? – спросил он. – И что же я, по-твоему, должен делать? Встать на площади и рассказывать каждому встречному о своем уме?
– Нет, реб Зейдл. Боюсь, что это не поможет. Тебя назовут сумасшедшим.
– Так что же тогда ты предлагаешь?
– Не будешь перебивать, скажу. Слушай, тебе прекрасно известно, что евреи никогда не любили своих лидеров: они роптали на Моисея, бунтовали против Соломона, бросили в ров Иеремию и убили Захарию. Избранный народ ненавидит величие. В великом человеке они видят соперника Иеговы, поэтому и любят только сирых да убогих. Все их тридцать шесть праведников почему-то всегда или сапожники, или водоносы. Еврейские законы считают, что нет ничего важнее капли молока, упавшей в горшок с мясом, или яйца, снесенного на праздник. Они специально исказили иврит, чтобы нельзя было прочесть древние тексты. Их Талмуд превращает царя Давида в какого-то местечкового раввина, который рассказывает женщинам о менструациях. Для них поэтому, чем меньше, тем больше; чем страшнее, тем красивее. Знаешь их лозунг? Больше грязи, ближе Бог. Подумай сам, реб Зейдл, ведь ты для них как бельмо на глазу – с твоей-то эрудицией, богатством, манерами, умом и великолепной памятью.
– Зачем ты мне все это говоришь? – спросил Зейдл.
– Реб Зейдл, послушай меня, ты должен стать христианином. Гоим – полная противоположность евреям. Ведь их Бог – человек, поэтому и человек для них может стать Богом. Гоим любят величие и преклоняются перед тем, кто им обладает: перед людьми великой жалости и великой ненависти, великими творцами и великими разрушителями, великими девственницами и великими блудницами, великими мудрецами и великими дураками, великими правителями и великими бунтарями, великими верующими и великими безбожниками. Поэтому, реб Зейдл, если хочешь признания, прими их веру. А насчет Бога не беспокойся. Он так велик и могуч, что Земля вместе со всеми людьми для него не более чем рой насекомых. Ему абсолютно все равно, будешь ли ты молиться Ему в синагоге или в церкви, будешь ли ты поститься от Субботы до Субботы или есть свинину. Его не слишком интересуют эти маленькие создания, которые считают себя венцом творения!
– То есть ты хочешь сказать, что Бог не давал Моисею Тору на горе Синай? – спросил Зейдл.
– Чтобы Бог открыл свое сердце человеку, рожденному женщиной? Конечно же, нет.
– Иисус не его сын?
– Иисус – обычный бастард из Назарета.
– И нет ни воздаяния, ни наказания?
– Нет.
– Что же тогда есть? – спросил у меня испуганный и окончательно сбитый с толку Зейдл.
– Есть то, что существует, но не обладает существованием, – ответил я ему на манер ученого философа.
– И нет никакой надежды когда-нибудь узнать истину? – Зейдл был в отчаянии.
– Мир непознаваем, и в нем нет истины, – ответил я, стараясь как можно искуснее играть словами. – Ты ведь не можешь почувствовать вкус сам своим носом, или узнать запах бальзама ухом, или услышать звуки скрипки языком, точно так же ты не можешь познать этот мир своим разумом.
– Но чем же, если не разумом?
– Страстями – самой маленькой частью мира. А у тебя, реб Зейдл, есть только одна страсть – гордость. И если ты уничтожишь ее, то останешься в абсолютной пустоте.
– Что же мне делать? – спросил расстроенный Зейдл.
– Завтра же иди к священнику и скажи ему, что хочешь обратиться. Потом продай все свое имущество. Попробуй заставить жену поступить так же: согласится – хорошо, нет – тоже не беда. Гоим сделают тебя священником, а священнику запрещено иметь жену. Ты продолжишь учение, но снимешь это ужасное длинное пальто и ермолку. Вся разница будет заключаться в том, что вместо того, чтобы прозябать в этой глухой деревне, где евреи ненавидят тебя и твою ученость и где тебе приходится молиться в доме учения, в котором уже давно прогнил пол, а за печами храпят пьяницы, ты будешь жить в большом городе, читать проповеди в прекрасной церкви, где играет орган и где твою паству будут составлять уважаемые люди, чьи жены будут целовать твои руки. А если ты еще напишешь что-нибудь об Иисусе или Его Матери, то тебя сделают епископом, а потом и кардиналом, и – кто знает? Все во власти Божьей, – возможно, в один прекрасный день ты станешь Римским Папой. Тогда гоим посадят тебя, как идола, на позолоченный трон и внесут в собор, а вокруг будет куриться ладан. И во всех городах, начиная с Рима и Мадрида и заканчивая, уж прости меня, Краковом, люди будут падать на колени перед твоим изображением.
– Как же меня будут звать? – спросил Зейдл.
– Зейдлус Первый!
Мои слова оказали на него такое огромное воздействие, что Зейдл не смог больше спокойно лежать в постели и сел. Его жена проснулась и спросила, почему он не спит. Очевидно, женский инстинкт подсказал ей, что мужа охватило какое-то возбуждение, и она решила, что произошло чудо. Но Зейдл уже смирился с мыслью о скором разводе и велел ей не задавать глупых вопросов, а ложиться и спать дальше. Сам же он надел шлепанцы и пошел в кабинет, где зажег свечи и до рассвета просидел за Вульгатой.
3
На следующий день Зейдл сделал все в точности, как я и велел. Он пошел к священнику и сказал, что хочет поговорить с ним о вопросах веры. Конечно же, тот был более чем удивлен. Но что может быть лучше для ксендза, чем уловленная в сети еврейская душа? Короче, чтобы не утомлять вас долгим рассказом, священники и богачи со всей округи обещали Зейдлу блестящую карьеру в церкви; он быстренько распродал все свое имущество, развелся с женой, крестился святой водой и стал христианином. Впервые за всю жизнь Зейдл оказался в центре внимания: духовенство носилось с ним как курица с яйцом, богачи расточали ему похвалы, а их жены великодушно улыбались и приглашали к себе в поместья. Его крестным отцом стал сам замосцский епископ. Зейдла, сына Зандера, сменил теперь Бенедиктус Яневский, такую фамилию выбрали в честь деревни, в которой он родился. Хотя Зейдл и не был еще священником, он заказал себе у портного черную сутану и носил на груди четки и крест. Первое время он жил в доме священника и почти не выходил на улицу, потому что стоило ему там появиться, как еврейские мальчишки тут же начинали кричать: «Отступник! Отступник!»
Его новые друзья имели массу планов относительно его будущего: одни советовали поступить в семинарию и продолжить учение; другие рекомендовали поселиться в люблинском доминиканском монастыре; третьи предлагали взять в жены какую-нибудь богатую женщину и стать помещиком. Однако сам Зейдл не собирался сворачивать с давно выбранной дороги. Он хотел славы и величия. Причем немедленно. Он знал, что в прошлом многие обратившиеся евреи становились известными благодаря своей полемике с Талмудом – Петрус Альфонсо, Иоганн Префферкорн, – и это если называть только некоторых. Зейдл решил пойти по их стопам. После того как он обратился и ешиботники не давали ему спокойно ходить по улице, он внезапно понял, что никогда не любил Талмуд. Его иврит был всего лишь диалектом арамейского; его мудрость была глупа; легенды невероятны, а библейские Комментарии натянуты и полны софистики.
Зейдл начал посещать библиотеки при семинариях в Люблине и Кракове и прочел гам все трактаты, написанные обращенными евреями. Вскоре он заметил, что все они абсолютно одинаковы. Авторы были невеждами и без зазрения совести занимались плагиатом, воруя друг у друга целые страницы и ссылаясь на одни и те же несколько абзацев из Талмуда, в которых содержалась критика гоим. У некоторых даже не было собственных слов, и они просто переписывали труды других, ставя на них свои имена. Настоящая книга еще не была написана, и кто же мог справиться с этой задачей лучше него, с его-то знанием философии и каббалистической мистики? Вместе с этим Зейдл нашел в Библии несколько новых доказательств того, что пророки предвидели рождение, страсти и воскресение Иисуса, и доказал некоторые положения христианства с помощью логики, астрономии и естественных наук. Трактат Зейдла должен был стать для христианства тем же, чем для иудаизма явилась «Сильная рука» Маймонида, – и он же должен был перенести автора из Янева прямо в Ватикан.
Зейдл читал, думал, писал, проводя в библиотеке дни и ночи. Время от времени он встречался с христианскими мудрецами и говорил с ними на польском и латыни. С той же страстью, с какой раньше он изучал еврейские книги, Зейдл засел теперь за христианские. Вскоре он уже помнил наизусть целые главы из Нового Завета. Он стал экспертом в латыни. Он так хорошо разбирался в христианской теологии, что священники и монахи просто боялись с ним разговаривать: он обязательно находил в их речах какие-нибудь ошибки. Много раз его обещали зачислить в семинарию, но всегда в последний момент что-то срывалось. На пост краковского библиотекаря, который прочили ему, назначили родственника губернатора. Зейдл начал понимать, что и среди гоим не все так уж хорошо. Священники поклонялись не Богу, а Золоту. Их проповеди были полны ошибок. Большинство из них не только не знали латыни, но и на польском говорили неправильно.
Долгие годы Зейдл работал над своим трактатом и никак не мог его закончить. Его требования к себе были так высоки, что он постоянно находил изъяны в уже сделанной работе, и чем дальше продвигался вперед, тем этих изъянов становилось больше. Он писал, зачеркивал, переписывал, рвал и писал снова. Его папка распухла от различных цитат, заметок и выписок, но свести их воедино Зейдл не мог. После постоянно многолетнего напряжения он так запутался, что уже и сам не мог понять, где правда, а где ложь, где есть смысл, а где только бессмыслица, что будет угодно церкви, а что воспримут как ересь. Он не верил больше в то, что называл истиной и ложью. Тем не менее он продолжал работать, и в голову ему приходили все новые и новые идеи. Он так часто обращался к Талмуду, что чем больше погружался в его глубины, тем больше делал пометок на полях, чем больше списков сверял, тем сложнее ему было решить, пишет ли он свой труд против или в защиту Талмуда. Со временем он прочел книги о судах над ведьмами, отчеты о девушках, уличенных в связи с Сатаной, документы инквизиции – в общем, все материалы, которые могли помочь в понимании той или иной страны или эпохи.
Постепенно золотые монеты в мешочке, который Зейдл всегда носил на груди, иссякли. Его лицо пожелтело, как пергамент. Взгляд потух. Руки дрожали, как у старика. Сутана запачкалась и обтрепалась. Надежда прославиться исчезла. Он стал жалеть и о своем обращении. Но обратного пути уже не было: во-первых, он больше не верил ни в одну религию, а во-вторых, существовал закон, по которому христианина, решившего перейти в иудаизм, следовало сжечь на костре.
Однажды, когда Зейдл сидел в Краковской библиотеке и изучал очередной старинный манускрипт, свет перед его глазами померк. Сначала он было решил, что уже наступили сумерки, и спросил у монаха, почему никто не зажигает свечей. Но когда услышал в ответ, что на улице все еще белый день, понял, что ослеп. До дома Зейдл добрался только с помощью монаха. С этого времени он стал жить в темноте. Боясь, что вскоре все его деньги совсем закончатся и он останется без гроша так же, как уже остался без зрения, Зейдл, после долгих колебаний, решил стать нищим у какой-нибудь краковской церкви. «Я потерял и этот мир, и иной, – рассуждал он. – Так что толку в гордости? Если пути вверх нет, надо идти вниз». Так Зейдл, сын Зандера, он же Бенедиктус Яневский, занял свое место среди нищих на паперти краковского собора.
Сперва церковники еще как-то пытались ему помочь. Они предложили ему место в монастыре, но Зейдл не желал становиться монахом. Он хотел по-прежнему спать в одиночестве у себя на чердаке и носить на груди мешочек с золотыми монетами. Не захотел он быть и служкой в алтаре. Сначала некоторые студенты семинарии останавливались на паперти, чтобы поговорить с ним об ученых материях. Но вскоре все о нем забыли. Зейдл нанял старуху, которая должна была по утрам приводить его на паперть, а вечером отводить обратно домой. Она же каждый день готовила ему горшок каши. Добросердечные прихожане давали ему милостыню, и ему даже удалось отложить кое-что на черный день. Мешочек снова потяжелел. Другие нищие высмеивали его, но Зейдл никогда не отвечал на их насмешки. Часами он стоял на коленях, с закрытыми глазами, непокрытой головой, в застегнутой на все пуговицы сутане. Его губы шевелились не переставая. Прохожие думали, что он молится христианским святым, но на самом деле он читал Гемару, Мишну и псалмы. Христианская теология забылась быстро, а то, что он учил еще в юности, осталось. На улице всегда было шумно: по булыжной мостовой ехали повозки, ржали лошади, слышались крики извозчиков, щелкали кнуты, смеялись девушки, плакали дети, женщины окликали друг друга по имени, о чем-то громко говорили и отпускали непристойные шуточки. Зейдл замолкал только для того, чтобы вздремнуть, опустив голову на грудь. У него не осталось никаких мирских желаний, последней и единственной страстью было: узнать истину. Существует ли Создатель или мир всего лишь комбинация атомов? Есть ли душа или человеком управляет только разум? Будет ли после смерти наказание и воздаяние? Есть ли субстанция или все сущее иллюзорно? Солнце опаляло его, дожди мочили его, голуби капали на него, но Зейдл не замечал всего этого. Утратив последнюю свою страсть, гордыню, он утратил и интерес к материальному миру. Иногда он спрашивал себя: «Неужели это я, тот самый Зейдл, которого когда-то называли чудом? Сын реб Зандера, лидера общины? И у меня на самом деле была жена? И до сих пор в этом мире живет кто-то и помнит меня?» Зейдлу казалось, что все это было неправдой. Ничего такого никогда не было, а следовательно, и вся реальность была одной огромной иллюзией.
Однажды утром, когда старуха, как всегда, забралась на чердак к Зейдлу, чтобы отвести его на паперть, она увидела, что он заболел. Подождав, пока он уснет, она тихонько стащила его мешочек с монетами и убежала. Даже в бреду Зейдл понял, что его ограбили, но ничего не мог поделать. Его голова, тяжелая как камень, лежала на соломенной подушке. Ноги дрожали. Суставы болели. Все изможденное тело охватил жар. Он просыпался и снова засыпал, просыпался и засыпал. Очнувшись в очередной раз, он уже не мог понять, день сейчас или ночь. С улицы доносились громкие голоса, крики, стук копыт, звон колоколов. Зейдл решил, что там устроили языческий праздник, с трубами и барабанами, дикими животными, непристойными танцами и жертвоприношениями. «Где я?» – спрашивал он у самого себя. Он не мог вспомнить название города и забыл даже, что живет в Польше. Возможно, это были Афины, Рим или даже Карфаген. «Какой сейчас век?» – недоумевал он. В его воспаленном мозгу проносились мысли о веках до Рождества Христова. Эти мысли быстро его утомили. И только один вопрос по-прежнему не давал покоя: «Неужели эпикурейцы правы? И я умру, так ничего и не узнав? И исчезну навеки?»
В этот самый момент на чердаке материализовался я, Искуситель. Несмотря на свою слепоту, Зейдл меня увидел.
– Зейдл, – сказал я, – готовься, пришел твой последний час.
– Это ты, Сатана, Ангел Смерти? – спросил неожиданно чем-то обрадованный Зейдл.
– Да, – ответил я ему. – И я пришел за тобою. Но я не буду помогать тебе раскаиваться или исповедовать тебя, даже не пытайся!
– Куда ты заберешь меня? – спросил он.
– Прямиком в Геенну.
– Если есть Геенна, значит, есть и Бог, – прошептал Зейдл.
Губы его дрожали.
– Это ничего еще не доказывает, – возразил я.
– Нет, доказывает, – ответил он. – Если существует Ад, существует и все остальное. Если ты реален, значит, и Он реален… Теперь можешь делать со мной все, что захочешь. Я готов.
Я достал свой меч, прекратил его агонию и, вырвав когтями душу Зейдла, потащил ее в иной мир, окруженный целой стаей демонов. В Геенне Ангел Разрушения уже раздувал огонь под углями. А у порога стояли два веселых чертенка, наполовину из смолы, наполовину из огня, в треугольных шляпах и с длинными хвостами. Увидев нас, они чуть не умерли со смеху. «Смотри, – сказал один из них другому, – да это же Зейдлус Первый, ешиботник, который хотел стать Римским Папой».
СВАДЬБА В БРАУНСВИЛЛЕ
1
Доктор Соломон Марголин с самого начала не хотел идти на эту свадьбу. Конечно, она была назначена на воскресенье, выходной день, но ведь Гретель была абсолютно права, что воскресный вечер – единственный за всю неделю, когда они могут побыть вместе. Теперь же пропадал и он. Обязательства перед общиной часто вынуждали его жертвовать вечерами, принадлежавшими ей. Сионисты включали его в состав своих комитетов, его избрали членом правления Еврейского научного общества, сделали соиздателем академического Еврейского ежеквартальника. И хотя он часто называл себя агностиком, или даже атеистом, тем не менее все эти годы он исправно таскал Гретель на седеры к Аврааму Мехлесу из Сенчимина. Доктор Марголин бесплатно лечил раввинов, эмигрантов и еврейских писателей, помогал им с лекарствами, а если требовалось, то и с местом в госпитале. Когда-то он регулярно посещал Сенчиминское землячество, занимал там какие-то посты и ходил на все устраиваемые им праздники. Сейчас замуж выходила Сильвия, младшая дочь Авраама Мехлеса. Как только им принесли приглашения, Гретель заявила: она еще не сошла с ума, чтобы тащиться на чью бы то ни было свадьбу в этот дикий Браунсвилль. А если он, Соломон, хочет туда поехать, есть там ужасную жирную еду и вернуться домой не раньше трех часов ночи – это его право.
Доктор Марголин был вынужден признать, что его жена в чем-то, безусловно, права. Когда он еще сможет выспаться? Ему надо быть в госпитале уже в понедельник утром. К тому же он сидит на диете и не может есть жирную пищу. А на таких свадьбах всегда подают только жирное. Он прекрасно знал все отрицательные стороны подобных торжеств: англизированный идиш, идишированный английский, ужасная музыка и дикие танцы. Там нарушаются все еврейские законы и обычаи; мужчины, не соблюдающие обрядов иудаизма, одевают на головы ермолки, а раввины и канторы подражают христианским священникам. Каждый раз, когда он брал с собой на свадьбу или бар-мицву Гретель, его сжигал стыд. Даже она, рожденная христианкой, могла видеть вырождение американского иудаизма. Так что лучшее, что он мог теперь для нее сделать, – это отправиться на праздник в одиночестве.
Обычно в воскресенье после завтрака они вдвоем ходили на прогулку в Центральный парк, а иногда, когда позволяла погода, доходили и до Палисайда. Но сегодня Соломон Марголин не хотел вставать рано. Давно прошло то время, когда он принимал активное участие в делах Сенчиминского землячества; сам город уже успел превратиться в груду развалин. Все его родственники там были замучены, сожжены, убиты в газовых камерах. Многие сенчиминцы спаслись и позднее перебрались из лагерей в Америку, но в основном это были молодые люди, которых он, Соломон, не знал на прежней родине. Сегодня ночью все они соберутся вместе: сенчиминцы со стороны невесты, терешпольцы со стороны жениха. Он знал, как они будут докучать ему, укорять в том, что редко появляется, намекать на эгоизм. Как фамильярно вести себя, бить по спине и тащить танцевать. Что ж, пусть так, но он должен пойти на свадьбу Сильвии. Ведь и подарок уже послан.
День занимался серый и мрачный, уже с утра похожий на сумерки. Всю ночь шел снег. Соломон Марголин надеялся хорошо выспаться сегодня, но, к несчастью, проснулся даже раньше, чем обычно. Наконец он встал. Побрился, внимательно осмотрев свое отражение в зеркале, и подровнял седые волосы на висках. Сегодня он выглядел старше своих лет: с мешками под глазами и избороздившими лицо морщинами. В его чертах проступала какая-то изможденность. Нос казался длиннее и острее, чем обычно, с обеих сторон рта залегли складки. После завтрака он растянулся на софе в гостиной. Оттуда он мог видеть Гретель – увядшую блондинку средних лет, – гладившую белье на кухне. Короткая нижняя юбка открывала ее мускулистые, как у танцовщицы, икры. Они познакомились в берлинском госпитале, где Гретель работала сиделкой. Один ее брат был нацистом и умер от тифа в русском лагере для военнопленных. Другого, коммуниста, застрелили нацисты. Старый отец доживал свои дни в доме другой дочери, в Гамбурге, и Гретель регулярно высылала ему деньги. Здесь, в Нью-Йорке, она сама стала почти еврейкой. Она дружила с еврейскими женщинами, состояла в «Хадассе», изучала законы еврейской кухни. Даже ее беды стали еврейскими, и она постоянно оплакивала Катастрофу. Она заказала себе участок рядом с мужем, в той части кладбища, которая принадлежала Сенчиминскому землячеству.
Доктор Марголин зевнул, потянулся за сигаретой, лежащей в пепельнице на кофейном столике рядом с софой, и начал думать о себе. Его карьера удалась. Все шло хорошо. У него был офис на Вест-Энд авеню и состоятельные пациенты. Коллеги уважали его, и он стал заметной фигурой в кругах нью-йоркских евреев. О чем еще мог мечтать мальчишка из Сенчимина? «Человек, сам себя сделавший», сын бедного меламеда. Он был высоким, красивым и всегда пользовался успехом у женщин. Даже сейчас, несмотря на возраст и высокое кровяное давление, у него еще случались интрижки на стороне. Но вопреки всему этому, где-то глубоко внутри, Соломон Марголин чувствовал себя неудачником. Когда он был ребенком, его называли вундеркиндом, он знал наизусть целые страницы из Библии и изучал Талмуд и Комментарии. В одиннадцать лет он отправил свои респонсы тарновскому раввину, который отозвался о них как о «великолепных и удивительных». В тринадцать он уже в совершенстве знал «Путеводитель колеблющихся» и «Кузари». Он сам освоил алгебру и геометрию. В семнадцать попытался перевести с латыни на иврит «Этику» Спинозы, не зная, что это уже сделали до него. Все в один голос предсказывали, что из него вырастет гений. Однако он растратил свой талант, постоянно меняя темы занятий; зачем-то начал изучать языки и переезжать из одной страны в другую. В личной жизни все шло не лучше. Его огромная любовь, Рейцель, дочь Мелеха-часовщика, вышла за другого и погибла во время Катастрофы. Всю свою жизнь Соломон Марголин мучился вечными вопросами бытия. Он все еще лежал по ночам без сна, пытаясь постичь загадку мироздания. Он страдал от ипохондрии, а страх смерти преследовал его даже во сне. Гитлеровская резня и исчезновение всей семьи убили в нем последнюю надежду на лучшее будущее и уничтожили веру в человечество. Он начал презирать тех богатых матрон, которые приходили к нему на прием со своими маленькими проблемами, в то время как миллионы людей были обречены на смерти, одна страшнее другой.
Из кухни вышла Гретель:
– Какую рубашку ты сегодня наденешь?
Соломон Марголин поднял взгляд на жену. И она несла свою долю страданий. Хотя и молча, она все же оплакивала братьев, даже Ганса, нациста. Она прошла через тяжелые испытания. Ее мучило чувство вины перед мужем. Сейчас ее лицо покраснело, на нем выступили мелкие капельки пота. Доктор Марголин получал достаточно, чтобы платить горничной, но Гретель не желала отказываться от работы по дому. Она все делала сама, даже стирала белье. Это стало ее манией. Каждый день она чистила плиту. Моя окна их квартиры на шестнадцатом этаже, она никогда не надевала страховой ремень. Хотя все остальные хозяйки в их доме получали заказанные продукты прямо на дом, Гретель регулярно таскала тяжелые сумки из супермаркета. По ночам она иногда говорила такие вещи, которые казались ее мужу безумием. Она все еще подозревала, что он изменяет ей с каждой своей пациенткой.
Супруги равнодушно смотрели друг на друга, чувствуя ту особую отстраненность, которая часто вырастает из огромной близости. Доктор Марголин часто удивлялся тому, как быстро постарела его жена. Состарились не только черты лица, изменилось и что-то еще: пропали гордость, любопытство, надежды на лучшее. Он пробормотал:
– Рубашку? Все равно. Скажем, белую.
– Тебе не надо надевать смокинг? Подожди, я принесу витамины.
– Я не хочу витаминов.
– Но ты же сам говорил, что они очень полезны,
– Оставь меня, пожалуйста.
– Ну, как знаешь, в конце концов, это твое здоровье, а не мое.
И она медленно вышла из комнаты, на секунду задержавшись в дверях: словно надеясь, что он вспомнит что-то и позовет ее назад.








