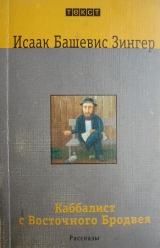
Текст книги "Каббалист с Восточного Бродвея"
Автор книги: Исаак Башевис-Зингер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Понимаю.
– Вы в этом уверены?.. Но никому не дано перехитрить судьбу. Так было и так будет. Я уже говорил вам, что люблю еврейский театр. Вы приехавшие позже, даже представить себе не можете, чем был для нас театр. Ух, какие тогда были актеры: Адлер, Томашевский, мадам Липцына, потом Кесслер! Большинство, особенно служащие, ходили в театр по субботам, но я, холостяк с деньгами, мог позволить себе ходить туда хоть каждый день. Что я и делал. Нынешние пьесы – это так, ерунда. А раньше было что посмотреть: царь Давид, Вирсавия, разрушение Храма – вот это я понимаю. Евреи сражаются с римлянами и вся битва разворачивается прямо у вас на глазах! У меня никогда не было проблем со спутницами, но я предпочитал ходить в театр один. Была такая актриса – Этель Сирота. На афишах ее имя печаталось мелкими буквами, но когда я увидел ее на сцене, то прямо ахнул. Она давно уже не выступает. Этель – бабушка моих внуков. Если бы я стал подробно рассказывать, как мы с ней познакомились и как я увел ее у мужа, нам бы пришлось здесь трое суток сидеть. Я до сих пор не понимаю, как я, простой извозчик из Варшавы, вообще решился заговорить с американской актрисой. Но когда влюбишься, еще и не то сделаешь! Потом уже она признавалась, что часто чувствовала на себе мой взгляд на протяжении всего представления. Я всегда покупал билет в первый или второй ряд. Ее муж работал в гастрольной труппе. Его никогда не занимали в нью-йоркских постановках. Как-то раз я видел его на сцене в Филадельфии, бревно бревном! Детей у них не было. Короче говоря, мы полюбили друг друга. Когда я первый раз пригласил ее в ресторан, у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло от радости. Мы поужинали на Бродвее, а потом пошли в ночной клуб. Там на сцене танцевали голые красотки. Но мне никто не был нужен, кроме Этели. Мы выпили шампанского, и я захмелел. «Что ты во мне нашел? – спросила она. – Мой муж готов обменять меня на последнюю дуреху». – «Словами этого не выразишь», – ответил я. Мы стали целоваться, и каждый поцелуй был как огонь. Точно как пишут в романах. Когда ее муж, этот чурбан, прослышал, что кто-то воспылал страстью к его благоверной, У него тоже проснулся аппетит, и началась игра в кошки-мышки. Но в конце концов он все-таки понял, что ей нужен я, а не он, и потребовал откупных. Я отсчитал ему две тысячи долларов – целое состояние по тем временам, – и он дал ей развод. То есть это на словах все так быстро, а на деле эта история тянулась довольно долго. Но мы с ней уже фактически жили как муж с женой. Когда мы поселились вместе, я начал расспрашивать ее о прошлом. И она поклялась, что до меня у нее был только один мужчина – ее муж. Так вот я вывел одно правило: если женщина говорит, что ты у нее второй, можешь не сомневаться: на самом деле ты десятый, двадцатый, а то и пятидесятый. В Библии сказано, что змеи, скользящие по камням, и корабли, плывущие по морю, не оставляют следов. Если не ошибаюсь, это слова царя Соломона, и вы понимаете, что он имел в виду. Каждый день я узнавал что-то новенькое. До того как думал я. Стоит тебе отвернуться, и твоя жена уже строит кому-нибудь глазки. Все они такие. Дошло до того, что мне пришлось обратиться к психиатру. Так этот недоумок, вместо того чтобы выписать мне какое-нибудь успокоительное, только усугубил дело. Он сам был разведен и платил алименты. Он ткнул в диван и сказал: «Если бы этот диван умел говорить, разводов было бы гораздо больше». Я стал плохо спать, и всему виной была моя подозрительность. Просыпался посреди ночи с диким желанием задушить Этель. Наверное, я бы никогда этого не сделал, но я буквально кипел от злости. А когда я осознал, что у меня подрастают две дочери, которые тоже когда-нибудь станут такими же хитрыми и подлыми, как все остальные женщины, мне и их захотелось убить. Представляете, убить своих собственных детей! Вы можете объяснить такое безумие? Наверное, вы считаете меня убийцей?
– Вы не убийца.
– А кто же я!
– Человек.
Гонг позвал нас на ужин, и мы отправились в ресторан первого класса. По просьбе Сэма нас посадили за один стол. Мой «винный стюард» теперь обслуживал нас обоих. Каждое блюдо готовилось по индивидуальному заказу, вследствие чего ужин длился около двух часов.
– Вы остались с Этель? – спросил я Сэма.
Он отодвинул тарелку в сторону.
– Нет, мы развелись. Я хотел уехать из Нью – Йорка, а она, наоборот, не желала жить нигде больше. Продолжала таскать меня в театр и в кафе «Рояль», где мы постоянно натыкались на ее бывших любовников. Каждый раз к нам подсаживался какой-нибудь тип, с которым она когда-то спала. Это было невыносимо. Хоть я и простой человек, сын кучера, но в нашей семье такого быть не могло. У мамы – да покоится она в мире – был один Бог и один муж. В общем, я чуть не свихнулся. Мне казалось, еще немножко, и я убью Этель, а потом и себя самого, потому что гнить в тюрьме было бы выше моих сил. Мы все время ссорились, и наша любовь дала трещину. Этель сделалась – как это называется? – фригидной. В постели жаловалась, что ей больно. Я отвел ее к невропатологу, и тот сказал: «Это все у нее в голове». Мы расстались, потом снова сошлись, потом опять расстались. Этель вернулась в театр. Пьеса, в которой она сыграла, уже через неделю сошла со сцены. Критик – забыл, как его звали, – написал, что он чуть не уснул во время спектакля. Этель он вообще не упомянул. Этих ребят интересуют только звезды. В общем, вскоре Этель сама потребовала развода. А я еще не опустился до такой степени, чтобы кому-то навязываться. Короче говоря, я послал ее в Рино, и дело было сделано. Само собой, я поддерживал детей. Она думала, что это я виноват в том, что ее актерская карьера не заладилась, и что теперь ее прямо завалят выгодными предложениями. Но театры закрывались один за другим. Молодое поколение уже не знает идиша. Да и зачем тащиться в какой-то театр в даунтаун, если за сорок центов рядом с домом можно посмотреть голливудское кино с музыкой, танцами и шикарными девчонками. Шесть лет она прожила одна, без мужа. Когда я приходил повидаться с детьми, она со мной не разговаривала, запиралась в спальне или вовсе уходила из дома. Потом она завела себе мужа-аптекаря, вдовца с пятью детьми. Мне было невыносимо в Нью-Йорке. Она настроила против меня детей. Наша старшая дочь, Фанни, знать меня не желает. Сейчас она врач. Младшая вышла за актера и попыталась пойти по стопам матери. Но из этого ничего не получилось, и в конце концов они развелись. Между прочим, она уже дважды разводилась. Я даже не знаю, где она сейчас обретается. Кажется, где-то на Среднем Западе. Окончила курсы медсестер; Мой сын – ученый, профессор социологии в Мэдисоне, штат Висконсин. Он женат на гойке. Он-то как раз всегда меня любил. Раньше часто приезжал ко мне в Лос-Анджелес. У него пять симпатичных ребятишек. Но они уже не евреи. Мать отправила их в католическую школу. По воскресеньям они ходят в церковь. Совсем оторвались от корней. Я переехал в Лос-Анджелес. Во-первых, потому, что стал плохо переносить холода, а во – вторых, потому, что не мог больше жить в одном городе с Этель. Кроме того, меня замучил мой деловой партнер. С партнерами ведь часто так: либо они бездельники, либо воры, либо и то и другое вместе. А тут еще Гитлер развязал войну. Я читал в газетах о том, что творят с евреями. Мои родители умерли до войны. Отец – да покоится он в мире – отказался в свое время ехать в Америку из-за того, что здесь евреев заставляют работать в шабат. Мой брат Беньямин погиб на Первой мировой. Всех остальных родственников убили нацисты. Я, конечно, не все знал, но и того, что до нас доходило, было достаточно, чтобы впасть в отчаяние. В газетах писали, что здоровенные парни вытаскивают младенцев из кроваток, а потом играют их головами в футбол. В Нью-Йорке я посещал собрания земляков и митинги протеста в Мэдисон-Сквер-Гарден. Ораторы говорили дельные вещи, проводили сбор средств, и я всегда жертвовал, сколько мог. И все-таки у меня было такое чувство, что большинство людей, включая и самих выступающих, все это как-то не особо задевает. Я узнал, что ораторам платят гонорары и якобы они еще торгуются. А на меня эти ужасы невероятно подействовали. Может быть, потому, что я жил один и по ночам долго не мог уснуть. Лежал, читал газеты, и у меня прямо сердце на части разрывалось. Если образованные люди способны на такие зверства, а остальной мир молчит и не вмешивается, чем собственно, человек отличается от зверя? Когда живешь с семьей, у тебя нет времени подумать: жена все время от тебя чего-то требует, дети пристают. А когда лежишь один в четырех стенах поневоле задумаешься о всякой всячине. В общем, я перебрался в Калифорнию.
Чем мне могла помочь Калифорния? Но во всяком случае, там я начал новое дело и с головой ушел в работу. В Санта-Барбаре я познакомился с одной вдовой, и у нас получилось что-то похожее на любовь. Но я все равно не мог до конца расслабиться. Лежишь, бывало, с ней, целуешься, милуешься, а сам думаешь, что она только что похоронила мужа, отца своих детей, и вот уже подыскала замену. Все мои мысли шли в одном направлении. Нет на свете настоящей любви, нет верности! Так называемые «близкие» еще страшнее дальних: предадут и глазом не моргнут. Вначале вдова сказала, что ей от меня ничего не нужно, кроме тепла и нежности. Но я и оглянуться не успел, как уже содержал ее. То ей подавай норковую шубу, то брошку, то кольцо с бриллиантом. Потом она стала требовать, чтоб я застраховал ее на четверть миллиона долларов – ни больше ни меньше. Я прямо ей сказал, что, если бы мне хотелось на кого-то тратиться, я бы выбрал помоложе и покрасивее. Она закатила скандал, и я послал ее куда подальше. Слишком уж она беспокоилась о своей выгоде.
С тех пор я живу один. Время от времени появляются разные женщины, но, как только я даю понять, что не склонен смешивать сердечные дела с денежными, они бегут от меня, как от огня. Я много думал обо всем этом. Ведь если так посмотреть, мою маму тоже содержал муж. Но она рожала отцу детей, с утра до ночи занималась домом и была верной женой. Когда отец уезжал в Зихлин или Венгров, он мог не беспокоиться, что какой – нибудь щеголь заявится к ним в дом миловаться с его женой. Да если бы он даже в Америку уехал на шесть лет, мама бы не стала ему изменять. А современные женщины…
– Ваш отец сам был верным мужем, – прервал я его. – А вы требуете верности только от женщины.
Сэм задумался, потом посмотрел на меня с любопытством:
– Да, это так.
– Ваша Ева целовалась с сыном сторожа, а вы целовались с горничной.
– Что? Я, конечно, поклялся Еве в верности, но совсем без женщины я ведь тоже не мог. Хоть иногда-то мне нужно было…
– Без веры нет верности.
– Так что ж я должен был делать, по-вашему? Молиться Богу, который позволил убить шесть миллионов евреев? Я в Бога не верю.
– Если вы не верите в Бога, вам придется жить со шлюхами.
Он помолчал.
– Вот поэтому я и живу один.
Сэм осушил свой бокал, и стюард тут же наполнил его снова. Я тоже сделал глоток, и мне тоже подлили вина.
– Куда вы едете? – спросил я. – В Буэнос-Айрес?
Сэм отодвинул бокал.
– Вообще-то у меня нет никаких дел в Буэнос-Айресе. У меня вообще нигде нет никаких дел. Я на пенсии. А что касается денег, так мне хватит, даже если я до ста лет доживу, чего я, кстати, себе не желаю. Зачем? Для таких, как я, жизнь – проклятие. Раньше я думал, что старость подарит мне покой, надеялся, что после семидесяти меня уже не будет волновать всякая ерунда. Не тут-то было! Мозг отказывается мириться с возрастом. Похоже, я не сильно поумнел за последние пятьдесят пять лет. Я понимаю, что Евы, скорее всего, уже нет в живых. Она почти наверняка погибла в нацистской мясорубке. Да и в любом случае сегодня она была бы уже шаркающей старушкой. Но в моем сознании она по-прежнему юная девушка. И Болек сын сторожа, тоже еще молодой парень, и ворота на том же самом месте. Я часто лежу без сна и злюсь на Еву. Иногда жалею, что слишком слабо тогда ей врезал. Ведь я бы наверняка женился на ней, не загляни я в глазок в тот вечер. Ее отец хотел устроить свадьбу с размахом. К ее дому должна была подъехать карета, а Болек стоял бы во дворе, подмигивал ей и смеялся.
– Если бы вы не посмотрели тогда в глазок, – сказал я, – возможно, вы бы никогда не попали в Америку. И вас, и Еву, и всех ваших детей сожгли бы в Освенциме или еще в каком-нибудь концлагере.
– Да, я тоже об этом думал. Я просто посмотрел в глазок, и вот вся моя жизнь пошла по-другому. Вы бы все равно сидели сегодня за этим столом, но не со мной. Этель бы не вышла замуж за аптекаря, а так бы и прожила со своим чурбаном. У нее никогда бы не было детей, потому что ее муж был бесплоден. Так ей сказали врачи. Что все это значит? Только одно – всем на свете правит случай.
– Может быть, Богу угодно было, чтобы вы остались в живых, поэтому Он и заставил вас тогда заглянуть в глазок.
– Извините, дорогой мой, но это уже полная чушь. Значит, по-вашему, миллионы других жизней ему были не угодны, а моя угодна? О чем вы говорите? Никакого Бога нет. Вот и все. Хоть я и не учился в университете, но в голове у меня все – таки мозги, а не солома. – Сэм внезапно сменил тон: – Я хочу, чтобы вы знали: у меня на этом корабле есть женщина.
– Во втором классе?
– Да. Я сказал ей, что я сапожник и плыву в Буэнос-Айрес, потому что там дешевле и я смогу прожить на пособие.
– Кто она?
– Итальянка. Живет в Чили. Три года провела в Америке у своей сестры. Немного выучила английский. У нее шестеро детей. Четверо из них уже женаты. Я вышел подышать на палубу, а потом сел рядом с ней, и мы разговорились. Она, наверное, была очень хороша в молодости. Сейчас ей уже за пятьдесят, а южные женщины быстро старятся. Я начал ее расспрашивать о том о сем, и она мне все рассказала. Ее муж испанец, работает парикмахером в Вальпараисо. Сестра попросила ее приехать в Нью-Йорк, потому что заболела раком. У них дом на Стейтен-Айленде. Довольно обеспеченные люди, между прочим. После того как ей отрезали левую грудь, врачи сказали, что все нормализуется. Но потом то же самое повторилось в правой. В общем, моя подруга оставалась с ней, пока та не умерла. Чилийки врать не умеют. Ничего не станут скрывать, при условии, что вы посторонний. Я теперь все про нее знаю. У нее были мужчины и до свадьбы, и после свадьбы. Муж стриг и брил в своей парикмахерской, а она оставалась дома. И то это был сосед, то почтальон, то мальчишка-продавец из продуктового магазина. Все они хотели одного и того же. И она редко кому отказывала. В Америке к ней сразу начал приставать муж ее сестры. Жена-то болела вот он и переключился на нее. «А если бы я тебя попросил?» – сказал я. И она ответила: «Где? у меня в каюте три соседки, причем две страдают морской болезнью и лежат пластом». Я сказал, что мог бы снять пустую каюту в первом классе. Первый класс ее немного напугал, но мне все-таки удалось ее уговорить. Она прихорошилась, и я привел ее в свою каюту. Вот вы все говорите о Боге. Она очень даже благочестивая. В Чили ходила в церковь каждое воскресенье и в Америке тоже. По пятницам никогда не ест мяса – только рыбу. Но, как говорится, то одно, а это – другое.
– Наши матери и бабушки жили иначе, – сказал я.
– А вы откуда знаете?
– Но вы же сами говорили, что ваш отец мог доверять вашей матери.
– Да, мне так кажется. Но доказать я это не могу. Если бы я женился на Еве и у нас были бы – дети, они бы, наверное, тоже не поверили, что их мать путалась с сыном сторожа.
– Кто знает, может быть, она была бы вам верной женой.
– Может быть. Но все равно она бы никогда не смогла забыть эту историю. Может, Болек пришел бы к ней через несколько месяцев после нашей свадьбы и начал бы ее шантажировать. Мол, если она ему не отдастся, он обо всем расскажет. Такие, как он, и не на то способны, когда им приспичит.
– Это правда.
– Но что-то я совсем заболтался. Все о себе да о себе. А вы-то чем занимаетесь? Кстати, на какой улице вы жили в Варшаве?
– На Крохмальной.
– А, улица воров!
– Я не вор.
– А кто вы?
– Писатель.
– Серьезно? Как ваша фамилия?
Я назвался.
Я думал, он подпрыгнет от неожиданности, потому что я регулярно печатался именно в той газете, которую он читал. Но он только поглядел на меня с каким-то грустным изумлением.
– Да, конечно, это вы. Теперь, когда вы сказали, я вас узнал. Я много раз видел ваши фотографии. Я читаю все, что вы пишете, и давно мечтал познакомиться с вами.
Мы помолчали. Потом Сэм сказал:
– Если такое могло произойти на этом корабле, наверное, Бог все-таки есть.
БЕГУЩИЕ В НИКУДА
Мы с Зейнвелом Маркусом сидели в кафетерии на Бродвее: пили кофе и ели рисовый пудинг. Разговор за шел о войне с Гитлером и разрушении Варшавы. Я в те годы жил в Америке, а Зейнвел Маркус – в Польше, так что он испытал на себе все ужасы Второй мировой. До войны Зейнвел Маркус работал газетчиком, так называемым колумнистом. Он писал «подвалы», неглупые, несколько сентиментальные, с огромным количеством цитат из разных писателей и философов. Особенно он любил цитировать Ницше. Кажется, Зейнвел Маркус никогда не был женат. Он был маленького роста смуглый, с раскосыми глазами. Зейнвел шутил, что его род происходит от Чингисхана и одной из его наложниц-дочери раввина. Зейнвел Маркус страдал дюжиной воображаемых заболеваний, включая импотенцию. Он вроде бы и жаловался на свой недуг, и в то же время как будто хвастался им, намекая на невероятный успех у немецких женщин. Много лет Зейнвел был берлинским корреспондентом еврейской газеты, выходившей в Варшаве. Он вернулся в Польшу в начале тридцатых, и мы дружили с ним вплоть до моего отъезда в Америку. Сам Зейнвел Маркус иммигрировал в США в 1948 году из Шанхая, где какое-то время находишься в статусе беженца. В Нью-Йорке у него развилась еще одна форма импотенции: литературная, кроме того, он страдал профессиональным писательским заболеванием: у него сводило правую руку. Почему-то редакторы еврейских газет в Америке не пришли в восторг от его многозначительных афоризмов из Ницше, Кьеркегора, Шпенглера и Георга Кайзера. Плюс ко всему у него обнаруживалась язва желудка, и, похоже, не воображаемая, а настоящая. Врачи запретили ему курить и пить больше двух чашек кофе в день. Но Зейнвела Маркуса это не устраивало. «Без кофе моя жизнь и гроша ломаного не стоит, – заявил он мне как-то. А судьба американского Мафусаила мне все равно не светит». Зейнвел Маркус знал невероятное количество разных историй, и слушать его было одно удовольствие. Он был лично знаком со всеми так называемыми «профессиональными евреями». Он бывал в еврейских колониях барона Гирша в Аргентине, участвовал во всех сионистских конгрессах, ездил в Южную Америку, Австралию, Иран и Эфиопию. Его статьи в переводе на иврит печатались в Тель-Авиве. Я много раз пытался уговорить его написать воспоминания, но Зейнвел Маркус неизменно отвечал парадоксом: «Мемуаристы всегда врут, а я умею говорить только правду – какой же из меня мемуарист?»
Сидя в тот день на Бродвее, мы, по своему обыкновению, заговорили о любви, верности и предательстве. Зейнвел сказал:
– Какого только предательства я не насмотрелся на своем веку, но того, что в тысяча девятьсот тридцать девятом году проделали на моих глазах эти бегуны, я и представить себе не мог.
– Бегуны? – переспросил я. – Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду мужчину и женщину в процессе бега, – ответил Зейнвел.
– Подождите, я возьму нам еще по чашечке кофе.
– Нет-нет, мне на сегодня кофе хватит.
– Еще чашечку выпьете. В крайнем случае я выпью ее за вас. В России чашку горячего кофе можно было заказать даже при большевиках, но в этом «краю обетованном» горячий кофе не раздобудешь ни за какие деньги. И не только в этом кафетерии, даже в «Астории». А также в Вашингтоне, Чикаго и Сан-Франциско. Знаете, есть такое явление: называется – коллективное помешательство. Я сейчас.
Зейнвел взял пустой поднос с соседнего столика и помчался к стойке. Но уже через секунду прибежал назад.
– Где мой чек? – выкрикнул он. – Если потерять чек, тут остается только один выход: покончить с собой.
– Зейнвел, – сказал я, чек у вас в руке.
– Что? Да, похоже, я совсем расстерялся в этой Америке. Может, у меня маразм?
Он опять пошел к стойке, прихватив по дороге брошенную кем-то газету. Вскоре он вернулся с двумя чашками кофе и бисквитным пирожным. Газета была вчерашней. Я дотронулся до чашки и сказал:
– Зейнвел, по-моему, эта чашка горячая. Что вы теперь скажете?
– Чашка, но не кофе, – отозвался Зейнвел. Обычный американский фокус: посуда горячая, а содержимое холодное. Для американцев не существует объективной реальности. Здешнего адвоката не заботит, виновен подсудимый или не виновен. Его волнует только одно: формальная безупречность собственной защиты. То же самое с американскими женщинами – они не хотят быть красивыми, они хотят выглядеть красивыми. Для них главное – макияж. Как только Адам и Ева обнаружили; что на них ничего нет, Ева кинулась делать одежду из фиговых листьев.
– Так кто же были эти бегуны? – перебил я его.
Зейнвел поглядел на меня с недоумением:
– А, да, бегуны. Они бежали от Гитлера после того, как по варшавскому радио объявили, что – причем чем быстрее, тем лучше – все должны перейти через Пражский мост в ту часть Польши, которая осталась за Сталиным после пакта Молотова-Риббентропа. Варшаву бомбили, дома лежали в руинах, убитые валялись прямо на улицах. Новый диктатор Рыдз-Смиглы, преемник Пилсудского, был такой же генерал, как я турок. Единственное, что в нем было генеральского, – это расшитая фуражка с блестящим козырьком. Наверное, трудно найти два более непохожих народа, чем поляки и евреи, но все-таки и у них есть кое-что общее: ничем не оправданный оптимизм. Еврей полагают, что Всемогущий, Который, между нами говоря, самый главный антисемит, любит их больше всех во Вселенной, а поляки верят в силу своих усов. У тогдашних польских генералов не было ничего, кроме латунных медалей и лихо подкрученных усов. Их солдаты отправились воевать с гитлеровскими танками верхом и с саблями, как во времена короля Собеского. А командиры, знай себе, расчесывали усы и до последней минуты уверяли всех, что победа будет за ними. Я жил в маленькой гостинице на улице Милно. Эта была такая укромная улочка, что ее даже почтальон не мог найти. Услышав объявление по радио, я схватил сумку и бросился бежать. Я понимал, что чемодан мне просто не унести. А некоторые тащили такие сундуки, которые даже верблюду были бы не под силу. – Зейнвел сделал глоток кофе и хмыкнул: – Холодный, как лед.
– А что произошло с беглецами? – спросил я.
– Одного из них вы, кстати, довольно хорошо знали. Фейтл Порисовер, драматург. Может быть, вы были знакомы и с его женой Цветл?
– Разве он был женат? – удивился я.
– Ах да, верно, он женился уже после вашего отъезда в Америку, – сказал Зейнвел, – Если помните, у Фейтла был высокий, тонкий голос, и поэтому все герои в его пьесах тоже разговаривали писклявыми голосами. Он пытался, подражать Чехову. Чеховские персонажи постоянно шепчут и вздыхают, а герои Фейтла стрекотали и пищали, как сверчки за печкой у моего дедушки. Фейтл был коротышкой, даже ниже меня, а Цветл наоборот – огромного роста, с грубым мужским голосом и неуемным честолюбием. Наверное, Фейтл пообещал ей главные роли в своих пьесах. Впрочем, его и самого кормили обещаниями. Режиссер. Германн каждый год уверял, что поставит какой – нибудь его шедевр, а деньги на постановку должен был дать один театральный меценат. В общем, это был порочный круг обещаний, которые никто не выполнял. Этот меценат оказался мошенником и банкротом. Забыл, как его звали. Память играет со мной в прятки. Когда она мне нужна, – ее нет, а когда я хотел бы от нее отдохнуть, она тут как тут со всякими дурацкими подробностями, особенно ночью, когда не спится.
Так о чем я говорил? Да, о том, что все мы превратились в бегунов на дальнюю дистанцию. Цветл тоже бежала с нами, хотя женщин в этой толпе было не так уж много. Фейтл тащил чемодан, набитый рукописями, а Цветл – гигантскую коробку с платьями и корзину с едой. Она бежала и ела. Целые палки колбасы, швейцарский сыр, сардины, селедку. Она бежала быстро – у нее были длинные ноги, и несчастный недотепа Фейтл никак не мог за ней угнаться. Он пищал, чтобы она его подождала, но Цветл делала вид, что не слышит. Надо было спешить – в любой момент могли налететь немецкие самолеты и разбомбить нас всех к чертовой бабушке.
Вначале почти все были увешаны сумками и чемоданами, но вскоре люди стали избавляться от лишнего груза. Вся дорога была усыпана свертками, корзинами, мешками, сумками. Мне рассказывали, что, когда Фейтл понял, что с таким тяжелым чемоданом далеко не убежишь, он остановился и начал делить свои пьесы на те, что обязательно нужно сохранить, и остальные, которые можно выкинуть. Это было бы ужасно смешно, если бы, в сущности, не было так трагично: представьте себе состояние автора, вынужденного на бегу решать, какое из его творений самое гениальное. В конце концов он оставил всего одну пьесу – разобрал ее на листочки и рассовал их по карманам. Потом крестьяне из окрестных деревень собирали добычу, но рукописи Фейтла, разумеется, так и остались лежать в пыли.
Теперь слушайте, что было дальше. С нами бежал один литературный деятель, с позволения сказать, поэт. Он стал заметной фигурой на литературном горизонте уже после вашего отъезда в Америку. Бенце Цотлмахер, здоровенный, неотесанный детина с физиономией боксера и копной жестких волос, вечно торчащих во все стороны, как проволока. В конце тридцатых в Писательском клубе часто устраивали вечера. И в публике, и среди выступавших преобладали так называемые прогрессисты. Всем известно, что в Польше было очень немного евреев-пролетариев, а евреев-крестьян не было вовсе. Но у этих рифмоплетов выходило, что все три миллиона польских евреев либо стоят у станка на заводах, либо пашут. Эти горе-писаки предсказывали неизбежную революцию и диктатуру пролетариата. За пару лет до начала войны еще появились троцкисты. Троцкисты ненавидели сталинистов, сталинисты троцкистов. Во время публичных дебатов они обзывали друг друга фашистами, врагами народа, провокаторами, империалистами. Угрожали друг другу, что, когда массы наконец поднимутся, все предатели будут висеть на фонарях. Сталинисты повесят троцкистов, троцкисты – сталинистов, и те и другие «общих врагов: правых сионистов «Поалей Цион», левых сионистов «Поалей Цион», просто сионистов и, конечно, всех религиозных евреев. Я помню, как президент Еврейского клуба доктор Готтлейб заметил как-то: «Откуда они возьмут в Варшаве столько фонарей?»
Бенце сперва был сталинистом, потом сделался троцкистом. Одной поэзии ему было мало. У него были огромные кулаки, и, когда на его выступлениях сталинисты позволяли себе неодобрительные выкрики в его адрес, он спрыгивал со сцены и раздавал им затрещины. Ему самому тоже доставалось, и он частенько ходил с забинтованной головой. Однажды я из любопытства пошел на его чтение – сплошные банальности и штампы! В день нашего массового исхода из Варшавы выяснилось, что Бенце Цотлмахер бегает лучше всех. И заметьте, на спине у него было два огромных рюкзака, а в каждой руке – по гигантскому чемодану. Похоже, он заранее подготовился к испытаниям. Но существовала одна проблема, и Бенце отлично ее осознавал: он просчитался – ведь мы бежали в ту часть Польши, которая принадлежала России, то есть Сталину. Белосток, конечный пункт нашего «марш-броска», был прямо-таки наводнен русскими. Варшавские сталинисты держались особняком, явно рассчитывая захватить власть сразу же после перехода границы. Кто-то сказал, что у Бенце больше шансов выжить в оккупированной нацистами Варшаве, чем в Белостоке среди своих бывших товарищей.
Так как я с самого начала взял с собой очень мало вещей, да и их-то выбросил, еще не доходя до моста, я передвигался почти так же быстро, как Бенце. В результате я оказался свидетелем двух любопытных происшествий: во-первых, видел, как Бенце на ходу пытается помириться со сталинистами. И хотя он действовал самым бесстыжим образом, все прошло, как по маслу. Дело в том, что он предусмотрительно захватил с собой несколько блоков сигарет, о которых, разумеется мало кто вспомнил в этой неразберихе. Так вот, он угощал сигаретами только сталинистов. А когда у него попросил закурить какой-то троцкист, Бенце нарочито громко, чтобы все слышали, заявил, что не желает иметь никаких дел с троцкистскими предателями интересов трудящихся, прислужниками Рокфеллера и Херста, фашистскими клёвретами. Я думал, что сталинисты с презрением отвергнут этого псевдонеофита, – ничего подобного! Для политиков перебегать на сторону сильного – привычное дело. Эти сталинисты сами проделывали то же самое. Как только Бенце расплевался с троцкистами и восславил товарища Сталина, он стал для них своим. Искренность вашей веры не имеет для homo politico ни малейшего значения, ценится формальная принадлежность и безоговорочная поддержка победившей клики.
Вторым примечательным событием была внезапно вспыхнувшая любовь Бенце к Цветл, жене Фейтла. Жена и дети Бенце остались в Варшаве, и теперь ему нужно было быстренько сблизиться с Цветл. Я видел, как они обнимаются и целуются набегу, словно давнишние любовники. Когда она предложила ему какой-то лакомый кусочек, он ел у нее с ладони. Казалось, она просто забыла о Фейтле, отставшем от них на несколько километров. Донельзя груженный собственным скарбом, Бенце теперь нес еще коробку Цветл, а она за это подкармливала его колбасками и крендельками. Во всем этом было что-то невероятно порочное и в то же время типичное – столь свойственное человеческой природе.
Наконец мы прибежали в какое-то местечко – не помню, как оно называлось, – еще не тронутое войной. Может быть, это была уже сталинская Польша, а может быть, ничейная земля – я до сих пор не знаю. Тамошние евреи вынесли нам хлеб, воду, молоко. Гостиницы не было, поэтому часть беженцев разместили в доме учения, а часть – в доме для бедняков. Но так как Бенце с Цветл прибежали первыми, их пригласил к себе какой-то сталинист. Через несколько часов в доме учения я увидел Фейтла. Он лежал на лавке. Босой. Распухшие ступни стерты в кровь. Он был настолько измучен и подавлен, что даже не узнал меня, хотя мы каждый день встречались в Писательском клубе. Я назвался, и он сказал: «Зейнвел, я больше не жилец».








