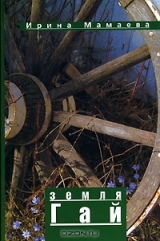
Текст книги "Ленкина свадьба(из сборника"Земля гай")"
Автор книги: Ирина Мамаева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Глава 16
Вечером, когда дождик кончился и даже солнышко выглянуло, Ленка бегала к Аркаше. Ей было невыносимо стыдно за то, что она его не выслушала тогда, на закате, а ведь он что-то важное ей говорил. Как он хочет поехать в горячую точку, в Чечню, спасаться от чего-то еще более страшного, чем война.
Ленка бежала, и ей хотелось обнять его, прижать к себе, утешить, защитить. Но Аркаша даже в дом ее не пустил.
– Чистенькой прикидываешься, святошей? А мне Митькина все конкретно рассказала! Все-все про тебя, Леночка.
Ленка как на стену с размаху налетела:
– Что – все?
– И за меня заступалась – помнишь, когда Репа мои стихи читал и книжку мне не отдавал? – только чтобы перед ним выпендриться! Выпендрилась? Получила? Чистенькая она! Такая же сучка, как все!
Но Ленка не слушала, а бежала, бежала, бежала прочь.
…А у Ленкиного дома, на скамеечке, сидели баба Лена и тетка Тося. Весь день обе провели в заботах, и теперь им хорошо было сидеть вот так, на солнышке, греться. Мир – Тоськин дом напротив, слева сирень, речка, у речки ольхи, а справа —
огороды – был чистым, вымытым, блестящим на солнце, и смотреть на него было приятно.
Бабкам ни о чем не хотелось разговаривать. В голове у каждой были одни и те же мысли, и они это знали. Да и молчать вот так, глядя на мир, оставалось всего ничего: вот-вот должны были прийти с поля – Ленкины родители и сама Ленка. Ужин у бабы Лены давно стоял на столе, и душа была покойна.
Хорошо было видать главную дорогу и людей, снующих, шагающих, прогуливающихся по ней. Вот пробежала Ирка Румзина, за ней тихонько проехал директорский “козлик”. Ирка размахивала руками, как Чапаев саблей, и, наверняка, звала директора на подвиги, на большие дела по поднятию сельского хозяйства из той ямы, где оно давно уже пребывало.
Неожиданно просто, по-деревенски, под ручку, прошли Алевтина с Вазгеном. Тоська засветилась, засияла, улыбнулась беззубым ртом: оно и понятно, мирить людей гораздо приятнее, чем ссорить. Баба Лена тоже заулыбалась, глядя на них, – чай, не чужие люди, а стало быть, и счастье – как свое.
На велосипедах проехала ватага деревенской детворы: Танькиных четыре дочки, два парня Надьки-телятницы, Ларискин младшенький, еще чьи-то… бабки снова заулыбались: хорошо, когда детишки есть – живет деревня.
И тут на той стороне речки появилась Лариска. И бодрым, но развязным шагом направилась через мостик к ним. Бабки вздохнули, но приветливо заулыбались. За Лариской следом трусил косматый Ларискин кобель: одно ухо торчком, другое висит.
– Я к вам за советом, – еще с мостика закричала Лариска.
Что-то в ее походке, интонации было очень уж странное, неестественное… Когда Лариска подошла, все стало на свои места: Лариска была пьяна. Бабки молча удивленно смотрели на нее.
– Я правильно живу? – сразу взяла быка за рога Лариска, глядя на бабу Лену.
– Один господь бог знает, как ты живешь… – бабе Лене рассуждать на серьезные темы не хотелось. Рядом с ее ногой уютно пристроился кобель, и она лениво стала чесать его за ухом, – Шарик-Бобик, фиг те в лобик – плохо домик стережешь…
– Ты что – пьяна? – прямо спросила Тоська.
– Да, – воинственно сказала Лариска. – А че? Че уставились? Я вот всю жизнь правильно жила: не пила, двух парней подняла, вырастила, выучила, обженила одного. Как муж умер – на мужиков больше не смотрела. Работала, старалась, на ферме, дома на огороде, кур держала. Сёгоду овец завела ради шерсти, чтобы вязать маленькому Ванюше-внучку носочки-рукавички. Людям старалась зла не делать, пока черт с этим домом не попутал, так и то все – от нищеты, да когда невестка на меня волком глядит, что ночью не сплю, брожу – спать мешаю. А чего не сплю – так хвори меня одолели: ноги ночами болят – мочи нет. Так ведь еще теперь уродина такая хожу! – и она без злобы или ненависти – сил уже не было – посмотрела на Тоську, вспомнила
что-то, – “а-а…” – сказала про себя и показала Тоське две фиги, – вот, Тосенька, победит космоэнергетик твою вредоносную энергию. Он скоро еще приедет.
Тоська от вида фиг растерялась.
– Ладно тебе, не по-христиански это, срам, – и баба Лена отвела Ларискины руки, – садись-то, в ногах правды нет. Что стряслось-то?
Лариска потеряла мысль, села на скамейку, задумалась…
– А так это, оказалось теперича, что неправильно я жила. И зря жила ажно. В бога не веровала, и как ни крути, а все для себя делала. И детей для себя ростила, и скотину для себя выхаживала. И даже мужика, мол, не заводила, чтобы перед другими нос высоко держать. Это мне космоэнергетик сказал. Приехал вот, говна-пирога, сюды пое-откуда, кто такой, что за птица, кто его надоумил людей пользовать… И вся жизнь моя – псу под хвост! Накрылась медным тазом вся моя энергетика, – Лариска звонко шлепнула себя по макушке и пониже спины, – а где я этого бога возьму, где? Не учила меня мамка-покойница, царствие ей небесное, молитвам. Где ты, господи?! – бухнувшись на колени, театрально воззвала Лариска к небу, то ли кулаками потрясая, то ли руки воздев.
Кобель на всякий случай отскочил в сторону и улегся рядом с клумбой, в тени ноготков.
– Эх ты, забодай тебя комар, – баба Лена притянула к себе Ларискину
голову, – дурная головушка, неразумная, ты что думаешь, я сразу с господом в сердце родилась? Меня тоже мамка не научила. Тогда времена такие были – все иконы прятали и от бога отказывались. А отец-то мой Гуляевский был, сама знаешь, а вся Гуляевщина – богохульники, нехристи, в своего какого-то господа верили, а и пое-в-кого… не знаю… От них, что ли, учиться было? Ты думаешь, дорога к богу такая легкая, как… как за водой сходить?
– Лей, зашарайдала. Мужика она не заводила, – проворчала Тоська, все еще обижаясь на фиги, – а ты возьми и заведи! Рожа-то получше стала, моими, промеж прочим, чаяниями тоже. Думаешь, мне не совестно было, кажный день на тебя такую в очереди глядеть осередь людей? Мянда гордая выискалась!
– Кто?!
– Э… сосна. По-карельски.
– А и заведу мужика, заведу! – Лариска вырывалась из объятий бабы Лены что было силы, – этого… ну… да хоть и Генку с золотыми зубами! Положено же и мне бабье счастье! Как Алевтине. А че делать-то?
– А ты больше спи! – заявила Тоська. – Больше спишь – меньше грешишь.
– Да я!..
– Господь с тобой, Ларисонька, – бабка Лена держала ее из последних сил, – еще чище, чего надумала-то! Помолись вечером, спроси прощения за все вольные ли невольные прегрешения, за слова свои гневные, да попроси, чтобы наставил он тебя, как жить дальше. Жизнь прожить, амин-слово, не поле перейти, не вожжами трясти…
– Не фиги воробьям показывать, – вставила Тоська.
– …да и прожить-то ее можно по-разному. А хорошо жизнь прожить – это не просто…
На этих словах Лариска все-таки вырвалась, вся взлохмаченная, вскочила на ноги:
– Все потому, что я всю жизнь жила с оглядкой, только чтобы худого про меня не сказали – “как люди посмотрят, что скажут”, – а для себя и не жила.
– И это – грех, мироугодничество, – подсказала Тоська.
– Везде – грех! Куда ни плюнь – грех! Жизнь прошла, а вспомнить и нечего! Терпишь все, терпишь, а ради чего? Ради чего, спрашиваю, терпеть?
– Тепереча всех оввинить нап, да? – сказала Тоська, а баба Лена удивилась:
– Что терпеть-то?
– Счастье-то где?!
Ага, срать и рожать – нельзя обождать! – прокомментировала Тоська.
И тут все оглянулись, потому что на главной дороге появились совхозные коровы. Первая вышагивала из ее, Ларискиных, черно-пегая холмогорка, с полным крепким выменем, которое на каждый шаг качалось из стороны в сторону. И Лариска, само собой, залюбовалась скотинкой – корова летом давала два полнехоньких ведра жирного вкусного молока. Следом шло остальное стадо. В основном рыже-пегие айрширки. Тоже толстые, сытые. Некоторые совсем белые или в мелких чубаринках и казались розовыми.
– Чтой-то стадо до фермы по деревне иде? – сказала тетка Тося.
– Колька-дурачок, верно, опростоволосился, – сказала баба Лена.
Самые смекалистые коровы стали спускаться к речке, где у берега уже отава выросла – густая, сочная у воды. Тут же из орешника выскочил Колька на Тюльпане, бестолково размахивая кнутом и бранясь. Уздечка у коня съехала, и даже язык вывалился набок от усердия, как у собаки. Будто на нем верст сто уже проскакали – того и гляди сдохнет. Колька загнал мерина в речку и оттуда пошел пугать коров. Коровы покорно полезли обратно, наверх, на дорогу.
– Ну, и как теперь по деревне ходить? – ни у кого конкретно спросила баба Лена.
– Куды нам ходить? Да и старые мы уже стали – через лябушьи коровьи
прыгать, – так же никому, глядя на стадо, сказала Тоська.
Про Лариску как будто забыли. Она хотела было что-то сказать, но махнула рукой, ругнулась и припустила через мостик на дорогу. Кобель же только проводил ее взглядом, решив остаться там, где его так хорошо приняли. Только снова перебрался к ноге бабы Лены.
– Понорови – стадо-то пройдет! – крикнула было баба Лена, но Лариска уже ловко раздавала тумаки коровам, пробиваясь вперед.
– Счастье побежала имать, – вздохнула Тоська.
Глава 17
Лариска запила крепко. Каждый день с утра уже бегала, залив глаза. Самое интересное, что она и впрямь решила охмурить Генку с золотыми зубами. С Генкой ее пару раз видели, во всяком случае. Интересно, что он тоже был навеселе.
– Ага, Генка, и к тебе нагрянуло! – как-то на ферме шумно обрадовалась Танька и изобразила неприличное, а Генка запустил в нее прямо из офиса червивым подберезовиком.
Лариска же сначала на ферме появлялась, а потом и вовсе ходить перестала. Видно, у нее скоплено было что-то на черный день. Было, стало быть, что пропивать. Невестка срочно поняла, какая у нее, оказывается, золотая свекровь была до сих пор, но было поздно. Баба Лена пробовала Лариску вразумить, но та сразу начинала нести околесицу:
– Ты у меня простыни грязные видела? А занавески? Ты, вообще, грязь у меня дома видела хоть раз? – и хоть кол на голове теши.
Пила она, понятно, с Манькой.
Ходили две сестрички по деревне в обнимку, расхристанные, простоволосые, а вечерами орали во всю глотку песни, сидя у Маньки на крыльце. Манькин барак и дом Абрамовых, Ленкин, стояли недалече, но за Ленкиным речка загибалась, уходила от дороги и разграничивала соседей. На речке, на этой границе, был остров, сплошь заросший ольхой. Деревья скрывали участок Абрамовых, заглушали шумы. Так было, пока хитрые алкоголики не додумались спилить всю ольху себе на дрова.
В деревне ведь до сих пор в отношении земли был полный коммунизм. После того как перестали держать овец, отпала надобность в заборах. Прогнившие, истлевшие от времени они развалились, как будто почуяв свою ненужность, с горя. “Заборы пали, да здравствует всеобщая солидарность трудящихся!” – как тогда выразился Ломчик. И все потихоньку стали забывать, где чье. Кто с каждым годом картошки стал сажать все больше и больше: благо, Генка с золотыми зубами охотно скупал излишки. Кто – там куст смородины прикопал, здесь – морковки посадил. Вдоль речки землю захапали, в сторону полей – до самых оврагов. Какие там положенные пятнадцать соток! Город землемеров посылать не спешил: да берите вы пока эту землю, сколько хотите, – все равно ведь, как сосчитаем, не сможете выкупить, налоги платить. Совхозу было наплевать.
Так вот, вырубили алкоголики ольху на острове, и от Ленкиного дома на Манькин – вид открылся во всей красе. И слышимость была – как из хороших динамиков. Сядут Лариска с Манькой на крылечко и затянут: “Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо…” Ладно бы пели что-нибудь родное, заонежское, так нет же, выводят этот пошлый попсовый хит. Компания их, как правило, к этому времени разрасталась. Добавлялись бывший конюх дядя Толя, отец Юрки, скотник Иваныч, Манькин племянник Сашка из Юккогубы, который, как у тетки запой, быстренько появлялся в гости, Федька-чеченец – его кореш, еще кто-то. А когда совсем зальют глаза и все слова позабудут, переходили на любимую Манькину песню. “Упала лопата” называется. Хороша эта песня тем, что в ней всего два слова “упала” и “лопата”. Тянуть можно бесконечно и на любой мотив. Хочешь – можно весело спеть, в духе марша, чтобы все в груди и не только поднялось, но и стояло стоймя, от захлестнувшего чувства. (Впрочем, тогда пели “лопата стоит!”.) Или, наоборот, всю тоску накопившуюся излить. Песня грустная, лопата-то упала… Упала и пропала.
Иногда с ними пил и Генка с золотыми зубами. У него, богатого, тоже, видимо, была своя “лопата”… Да у всех у нас она есть, чего уж там.
Генка тогда обнимал дядю Толю и пытался нашарить в нем чистое, доброе, вечное:
– У тебя же образование есть, Толян, сельскохозяйственный техникум! Что же ты, а? А может, пай в совхозе, фермером пойдешь, а мы еще все к тебе наниматься придем? Земля-то ведь прокормит…
А Толька плакал, наливал и пил:
– Не умею я, чтобы сам. Вот укажут, куды пойти, что сделать, трезвый – сделаю, а сам… А может, еще вернется социализм, а?
– Не вернется. Споем?
Вот и сейчас Ленке, только что пришедшей с фермы, ясно были слышны нестройные голоса, тянувшие каждый о своем, но все вместе – об одном и том же.
– Ироды, – сказала баба Лена, подавая на стол, но сказала это с такой жалостью, – что с ними делать? И Лариска-то наша туда же. Вот как с людьми бывает, Леночка. Ты ешь, ешь, папанька с маманькой сегодня совсем поздно будут. Что-то ты о женихе своем ничего не рассказываешь?
– Да какой жених, – Ленка опустила глаза в тарелку и покраснела, – скажешь тоже, бабушка! – и не выдержала: – бабушка, мне кажется, он меня тоже любит! Вот правда, любит.
– Любит, любит, Леночка, любит…
– А еще мне Аркаша Сидорчук – ну, знаешь? – что-то особенно сказать хотел, помощи попросить. До меня сразу-то не дошло: я сама собой была занята и ничего вокруг не видела. Представляешь, мне человек свою боль хотел рассказать, помощи просил, а я не услышала! А потом пришла к нему, а он… – и она рассказала, как ходила к Аркаше.
– Слабый человек – ваш Аркаша. А на войну бежать по своей воле – это дурь. Он думает, война – это романтика, это красиво, а увидит правду – испугается, предаст тех, кто там по необходимости, по долгу.
– Да, да, люди все хорошие, – горячо согласилась Ленка, – только слабые некоторые. Как Аркаша. Так ведь и надо ему скорее помочь! – и уже готова была бежать. – Разобраться…
– Помогать надо сильным, Леночка. Вот Юрка твой – сильный. Ему и надо помогать. Сильным ведь – тяжельше всего. А защищаться, Леночка, можно только любовью. Не оружием, не нападением, не ударами, а любовью. Только любовью. Он тебя обижает – а ты не обижайся, а только еще больше его люби. Но если уж
любишь – иди до конца, не отступай. И Аркашу люби, чтобы он тебе ни сказал.
Воспоминания о Юрке разбередили Ленкину душу, и после ужина она отправилась пройтись.
Со второго Спаса, Преображения, хорошая погода закончилась, и уже какой день было пасмурно. Еще не холодно, но уже явно чувствовалось, что короткое северное лето прошло и наступает осень.
Тучи висели серые и сырые, но дождика не было. Ленка кругом, кругом, в обход домов полями, сама того не заметив, дошла до конюшни. Как звали ее туда. Издалека уже было видно, что там кто-то есть. Ленкино сердце испуганно забилось, и она радостно бросилась к воротам. На конюшне был Юрка.
Сидя на корточках у конских ног, он медленными задумчивыми движениями мазал Мусте мокрецы цинковой мазью. Тусклая лампочка, покачиваясь от ветра, освещала конюшню зыбким светом. Тени от лошадей были пугающе неправдоподобные.
– Привет, – Ленка бочком втиснулась в приоткрытую створку ворот, – что делаешь?
– А, привет, – Юрка едва поднял голову, – что-то ноги у Мусты совсем худые стали… Все болячки…
– Хочешь, я помогу?
– Я уже все сделал, – и продолжал мазать.
– Как дела? – Ленка не знала, о чем говорить. Ей хотелось сесть на прошлогоднее сено и смотреть на Юрку, смотреть.
– Хорошо.
– Как рыбалка?
– Клюет.
Замолчали. Потом Юрка сказал:
– Шла бы ты домой, а то, небось, дождик будет.
– Я не боюсь дождика, – Ленка испугалась, что он ее выгоняет, и придвинулась ближе, – мне так хорошо отчего-то сидеть здесь, смотреть на тебя, – хорошо говорить у нее получалось только о своих ощущениях.
– Нашла на кого смотреть. Я тебе че – телевизор? Че тебе надо-то от меня?
– Как – чего? – удивилась Ленка, – я ведь теперь – твоя.
– Насмотрелась сериалов! Насмотрятся они, выучат, а потом несут чушь, как по писаному! – Юрка забросил палочку, которой выковыривал мазь из банки, закрыл банку и встал, оперся на перегородку стойла, – ну, давай, давай, я послушаю.
Ленка растерялась, все слова вылетели у нее из головы. Глупо уставившись на него, она сидела, открывала и закрывала рот, как плотвичка.
– Я тебя люблю, – наконец, сказала она.
– И че дальше?
– Ты меня тоже любишь.
– Зашибись. Это уже интереснее. С чего это ты решила? – Юрка демонстративно переменил позу, изобразил крайнюю степень внимания.
– Ты же со мной… спал, – Ленка удивленно развела руками и прямо, честно смотрела ему в глаза.
Юрка смутился. Вылез из стойла, ударив Мусту под живот, чтобы приняла в сторону.
– Ты че, дура? Я тебя не заставлял это делать, не уговаривал – сама пошла. Что хотела – получила. Хватит теперь на конюшню ходить. Или че? Я на тебе теперь жениться должен? Так времена давно изменились. Нечего тут бедную Лизу изображать! Все! Свободная любовь! Кайф! – на самом деле он не знал, что сказать.
– Разве что-то изменилось? – удивилась Ленка. – Ведь как было, так и есть… ну, как положено между мужчиной и женщиной, так оно и осталось до сих пор… и будет всегда. Если мужчина…
– Иди ты! Не собираюсь я ни на ком жениться. Ни на тебе, ни на ком-то еще. Мне двадцать лет. Я еще погулять хочу, что-то в жизни увидеть. Я, может быть, еще поступать в город поеду!
– А я тебе чем помешаю? Хочешь – гуляй, хочешь – едь поступай. Я за тебя порадуюсь, помогу собраться в город.
– Чему ты порадуешься?! Что за дурацкая фраза “я за тебя порадуюсь”. Не надо за меня радоваться. Я сам за себя хорошо порадуюсь. Может, я и не поеду никуда и радоваться не буду! И без тебя как-нибудь, – Юрка искал, чтобы еще такое убийственное сказать, – проживу! Клево!
– Разве ты не хочешь, чтобы тебя кто-то утешил?
– Я че – убогий, чтобы меня утешать?! Я все могу! Я сам все знаю! Я даже пить брошу, чтобы не сгнить заживо, как папаня! Совсем брошу! Мы с Ломчиком вместе бросим! Я… я грибы мариновать сам научился!
Ленка засветилась, засмеялась, представив, как он маринует вечерами грибы в цветастом переднике. Юрка готов был ее убить:
– Мне че, уже пора – построить дом, посадить дерево, вырастить сына и выйти на пенсию?!
– Знаешь, – обрадовалась Ленка, уловив что-то похожее на собственные размышления, – я тоже думала, что это глупый идеал – посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Посадить одно дерево. И загубить сто, чтоб построить дом. Дом для кого? Для себя, для своих детей. Вырастить сына – так ведь все животные стремятся оставить после себя потомство, а человек ведь – не животное. Ему не только потомство важно оставить. Сына это само собой, но человек рождается еще для чего-то, для чего-то большего, чем дом, дерево…
– Отстань ты со своими проповедями! Хочешь тут сидеть – сиди, а я пошел. Чао. Буэнос диас! – Юрка шумно вышел и громко хлопнул воротиной.
Ленка осталась сидеть. Ее самоё увлекли собственные слова о том, что вырастить сына и построить дом – не самое главное в жизни.
– Человек рождается, чтобы всех любить, – вслух продолжила она, – но как это “всех любить”? Да и любить можно по-разному. Вот я Юрку люблю. А что я ему хорошего сделала? – Ленка вдруг поняла, что ничего хорошего она для него не сделала, а просто бегала следом, ожидая хорошего от него. – Юрка! – закричала Ленка и опрометью кинулась следом за ним, сама еще не зная зачем.
И столкнулась с ним сразу за воротами. Юрка никуда не ушел.
– Че ты орешь?
– Давай я для тебя что-то хорошее сделаю?!
Юрка молча схватился за голову.
Глава 18
Умер Ленкин двоюродный дедушка, деда Саша. Умер незаметно, как и жил незаметно. Нашла его тетка Шура, когда молоко принесла – он у нее молоко брал. Постучала – открыто. Вошла – лежит себе на полатях. Ровный такой, торжественный. Совсем не страшный.
Умер, и все спохватились, что человек-то он, оказывается, хороший был. Пил опять же в меру. За одно это мужика уже в рай брать можно. А он еще и худого не делал, работал в совхозе механиком, “Жигули” чинил местным и дачникам за спасибо.
Прославился, вычитав в старом журнале, что для увеличения урожая картошки надо в землю на поле пружины специального размера определенным способом закопать. Они будто с магнитным полем земли взаимодействовать будут и урожай повышать. Уверовал в это, тихо-мирно намастерил себе этих пружин в гаражах в Юккогубе. И по весне, перед посадкой, обошел с ними, как крестным ходом, поле три раза, помолился да и закопал их в землю, как на бумаге написано. Вся деревня смеялась. А осенью плакала горючими слезами. Шутка ли – посадил, как все, а выкопал в два раза больше картошки. Продал Генке с золотыми зубами излишки, новый телевизор купил.
Деда Саша тогда сам растерялся. Ходил по деревне и всем предлагал сделать таких пружин и объяснить, как закопать. Все только отмахивались, кричали: что, у нас не все дома, что ли, – пружины в землю закапывать! Но завидовать продолжали. Такие
люди – что с ними поделаешь?
А теперь всем стыдно стало. Жена его бывшая, но не разведенная с ним, приехала всплакнуть да дом осмотреть – наследство. Брат из Челмуж, еще какие-то родственники. Не старый мужик-то еще был деда Саша – лет пятьдесят ему и было-то. А фельдшера сказали: инфаркт. Вот оно как бывает.
Хоронили в пятницу. Вся деревня собралась. Генка с золотыми зубами, который вроде как другом ему был, речь сказал. А вообще, разучились хоронить теперь. Никто обряда не помнит, что говорить не знает. Все толпятся, толпятся, только друг другу мешают. Мертвому, конечно, уже все равно, но все-таки. Землю пошвыряли по очереди, помялись и закапывать стали.
Неожиданно заревел магнитофон дачников. Не Иволгиных, а тех, что рядом коттедж отгрохали: не дом – дворец. По куйтежским понятиям. Так вот, люди человека в иной мир провожают, последние почести отдают, бабы ревут, а у них через три сосны магнитофон орет какую-то похабщину. Деревенские все креститься стали. Вот она жизнь, куда катится. Куда?
К бабе Лене подскочила с утра уже “хорошая” Лариска, которой на песни было наплевать:
– Лена, хотела я к родителям своим заодно сунуться, а могилки найти не могу, сходи со мной – может, найдем?
– Уж будто не знаешь, Лариса, – оглядываясь, прошептала баба Лена, – все мертвые собрались новенького принимать, не до живых им сейчас. Завтра к своим сходишь. А сейчас шла бы домой – срам так на кладбище ходить.
Но Лариска отмахнулась и пошустрила куда-то дальше. Баба Лена только вздохнула тяжело. Невдалеке тоже “хорошая” Манька потирала руки – на поминках можно будет “догнаться”.
Баба Лена с Ленкой тоже потихоньку пошли до дому. С утра было солнышко, а теперь быстро набежали тучки, и снова собирался дождь. Пробовал силу, накрапывал, пугал.
– Гадала я на Лариску, – сказала баба Лена, – чтой-то у нее столько событий. Удар. Перемена жизни. И не пойму, худо это или хорошо. Помоги ей господь.
Ленка не знала, что ответить, но тут между ней и бабушкой встряла Любка.
– Добрый день, баба Лена! Как ваше здоровье? Мы тут с Ленкой отойдем, пройдемся по полям, – и утащила Ленку за собой.
Они пошли вперед, вышли с дороги на межу в гороховое поле.
– Мне Вася письмо написал. В стихах! – Любка достала из кармана тетрадный листочек и дала Ленке прочитать, – вот.
На листочке было написано:
Привет, Люба!
Пишет тебе твой муж Василий.
Лежу я в домашней темнице сырой,
Вскормленный водярой Васек молодой.
Приходи сама, приноси еды,
Мне никто не нужен кроме ты.
Ты моя родная, я тебя люблю.
Ну а коль ты против – я тебя убью.
Я тебя родную за ноги возьму
И тропой таежной в дали унесу.
Ты не бойся, шутка,
Я ведь пошутил.
Ты не злись, родная, я тебя люблю.
Подпись: Василий.
– Все фару-рару. По почте прислал, – похвасталась Любка, – вот тетя Шура ругалась-то! Совсем, говорит, ополоумели – в одной деревне, а переписываются, бумагу тратят! Знаешь, я поняла, я его люблю, – Любка остановилась, – я его правда люблю. Я даже замуж за него хочу. А что? Жить будем у меня. У меня ведь квартира в “Голливуде”, а у него мамке как раз не до него. Раз у них все с Вазгеном наладилось.
– Как это – замуж? – Ленка почему-то не ожидала от Любки такого, – что ты с ним делать-то будешь?
– Да что с мужем делают? – у Любки даже лицо стало какое-то другое, простое, доброе, женское. – Щами кормить буду. И кашей. Придет вечером домой, я его посажу напротив, щей ему налью и буду смотреть, как он ест.
“Да-да, ты молодец”, – пробормотала Ленка и пошла, быстро-быстро пошла прямо в горох. Любка ее догнала:
– Ленка, да что с тобой? А у тебя-то как с Юркой?
И Ленка заплакала, в первый раз по-настоящему разревелась, села в горох, мокрый от капель. Любка обняла ее, и Ленка уткнулась ей в ноги, продолжая реветь.
– Я ведь такая глупая, такая никчемная, Любка, – причитала Ленка, – я же только бегаю за ним, а что хочу – не знаю. Знаю, конечно, но не могу же я ему так прямо сказать: давай поженимся. А что еще сказать – не знаю. И сделать для него ничего хорошего не могу. Что я могу сделать? Кота разве дохлого прийти и закопать?…
– Какого дохлого кота? – испугалась Любка, – не надо ему под дверью кота закапывать!
– Не под дверью, – пыталась объяснить Ленка, – ему собаки кота принесли. Дохлого… Он воняет…
Говорят, дождик – это слезы всех влюбленных, всех влюбленных на свете, которых не любят, обижают, не замечают… Влюбленные плачут, и слезы поднимаются к небу. Они такие легкие и такие чистые, что поднимаются к небу. Копятся там, копятся, и проливаются дождем, чтобы люди помнили о том, что влюбленных нельзя обижать. Они такие беззащитные…
– Люба, а умирать – страшно?
– Бог с тобой, я же не умирала.
– Но ты же хотела. Ты же дошла до черты, не знаю, ну когда жизнь не мила… Страшно это?
– Я не хотела на самом деле, – призналась Любка, отвернувшись. – Я не знаю, чего хотела. Так это все дурость, – Любка сорвала стручок. – Горох-то переспел, – и посмотрела на Ленку. – Страшно.
Ленка сидела и размазывала слезы по щекам, честно стараясь перестать плакать. Но слезы катились и катились. А дождик вроде бы перестал.
– Шарик-Бобик, фиг те в лобик, – Любка шутя отвесила Ленке щелбан по
лбу, – плохо домик стережешь!
Ленка улыбнулась было сквозь слезы, но снова заревела.
– Ты, Ленка, не думай об этом, – испугалась вдруг Любка и схватила Ленку за руки, – что он, этот Юрка, особенный? Болван заправленный. Выширится на своем мотоцикле и… – спохватилась. – Да и любит он тебя. Как тебя можно не любить? Да ты поплачь, поплачь.
Так и сидели в горохе. Все уже прошли с кладбища. Снова начал накрапывать дождик.
– А ты что думала? Любовь – это когда двадцать процентов времени тебе очень-очень хорошо, а остальные восемьдесят так хреново, что впору удавиться, – важно сказала Любка.
– Вот и Аркаша так говорит…
И они потихоньку пошли по домам.
Гроза собиралась нешуточная. Высокие грозовые облака копились над деревней, копились, снаряжались, как вражеская рать, пугали… А потом ринулись в бой.
Гремело так, что, кажется, в райцентре было слышно. Ленка побежала на
ферму – промокла до нитки, даже до мостика не добежав. И лило, и лило, и лило с небес.
Работала, поила-кормила телят, а через коридор было видно – поливает.
И с фермы бежала – заливало все вокруг.
Но и эта гроза прошла. На небе, на фоне туч повисла радуга – легкомысленное цветное коромысло.
Вечером тетя Шура стукнула в окно и вызвала бабу Лену:
– Ступай-то, Насте плохо, помирать собралась.
И баба Лена побежала к Насте, благо недалеко.
Дом был не убран. Настя лежала на перине под ватным одеялом. Рядом с кроватью стояла табуретка, заставленная баночками и пузырьками лекарств. На полу около тапочек лежал тонометр.
– О-ох, Лена, смертушка моя пришла видно. О-ох, снилась мне наша мамка да как будто звала ёна куда-то. Молчит, смотрит и рукой эдак, – Настя показала, – делает. О-ох!..
– Что болит-то? – баба Лена присела на край кровати, – тронься-то.
– О-ох, не ворохнуться, сердце бьется ажно выскочить ему нап.
Баба Лена подняла с пола тонометр и измерила сестре давление. Давление оказалось высоким. У всех гипертоников в этом возрасте повышенное – дело обычное, но что-то уж совсем оно подскочило. Баба Лена даже испугалась. Подала Насте адельфана выпить.
– За матушкой-то во сне пошла? Куда она звала?
– Нет, не пошла.
– Ну и хорошо, – успокоилась Лена, – а снилась – так что ж, болеешь ведь. Все под богом ходим.
– О-ох, ноги худые совсем стали, болят – мочи нет, встать не могу, спина болит, окаянная, – согласно запричитала Настя, – ухо застудила – болит.
Баба Лена натерла ей спину и ноги мазями, измерила температуру, поставила горчичники. Больное ухо как маленькой заткнула ваткой с борным спиртом. В общем, провозилась с ней два часа. Не торопясь, выслушивая подробности о болезнях. Потом просто посидела, поговорили.
Поставила чай. Выпили чаю. Настя даже села на перине: полегчало ей.
– Куселасьска-то Тамарка в Юккогубе мужика своего убила. Дрались-дрались – и вот убила, – сказала Настя.
Баба Лена только рукой махнула: ничего удивительного. Настя согласилась.
– Ну, пойду я, что ли?..
– Сядь-то поближе, – Настя легла, баба Лена к ней придвинулась. – Я же младше тебя?
– Младше, на шесть лет, – согласилась баба Лена.
– Я и умереть позже тебя должна, да? На шесть лет позже!
– Позже, позже.
– Я ведь так не хочу умирать, Лена, так не хочу. Вот ты думаешь, и все думают, чего жить, когда одна да одна. Дочка уехала, замуж вышла, а внуков не заводит. Но ведь будут же внуки, да? – Настя вцепилась в руку Лены. – Внуков увидеть хочется, Леночка. И просто пожить хочется. Даже одной. Я ведь младше тебя – как же мне умирать? Ты уж умри раньше меня, а, Лена? Так ведь справедливо будет, ты же старше! Умри раньше меня, Ленушка, ну, пожалуйста!
– Хорошо, хорошо, Настенька, умру я раньше тебя, я ведь, право, старше.
Потом баба Лена долго одна сидела у Настиного дома на скамейке. К себе идти не хотелось. Думала.
“Я ведь и сама скоро умру”, – думала баба Лена, – “годков-то уже – под восемьдесят, долго ли жить осталось? А жить и вправду хочется. Очень хочется…”
Свечерело. Со старого тополя у Настиного дома облетали желтые листья. Кто-то ссутулясь брел по дороге, запахивая плащ от налетавшего порывами ветра.
Подошла Лариска – как будто знала, что баба Лена здесь, – и молча села рядом.








