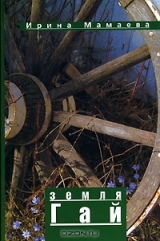
Текст книги "Ленкина свадьба(из сборника"Земля гай")"
Автор книги: Ирина Мамаева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Глава 8
Все в той же бывшей церкви кроме клуба располагалась библиотека. Зимой в библиотеке жарко топили, дров совхоз не жалел; летом было приятно прохладно. Книг, в основном по школьной программе, было немного, все они помещались в пяти шкафах, и в помещении было просторно, светло. Ощущение уюта придавали два еще приличных кресла рядом с журнальным столиком.
Ленка любила заходить в библиотеку, болтать с тетей Катей. Любила посидеть в кресле. Кресло – это была какая-то странная, чужеродная, малоизвестная, а потому ужасно интересная мебель. В деревне сидели на стульях, на табуретках, на скамьях, на кроватях, наконец, или на диванах, которыми некоторые деревенские, например, бригадирша Ефимова, уже успели обзавестись. Но кресло – это было что-то из ряда вон выходящее.
Больше всего Ленка любила листать глянцевые журналы, которые предусмотрительная тетя Катя на дом брать не разрешала. Журналы – это, конечно, громко сказано. Журнал был один – “Крестьянка”, и каждый свежий номер в первые же дни Ленка зачитывала до дыр, выучивала наизусть. Даже рекламу духов и кремов. А потом уже приходила, брала в руки и просто листала, вспоминая часто непонятные ей статьи и вдыхая уже почти выветрившийся от множества деревенских рук, листавших его, запах.
Журналы были из другой жизни, и про другую жизнь. Про совершенно других людей, как казалось Ленке. В деревне были бабы, девки, тетки, старухи, а в той, другой жизни, – женщины. В легких платьях и на высоких каблуках. Ленке не верилось, что вся разница с ними только в одном – они были городскими. Конечно, не в этом. Хотя и в этом тоже. Митькина тоже была городской, и не такой, и ходила на каблуках. Но Митькина была все-таки понятной. Все городское у нее было снаружи, а внутри – точно такое же, как у Ленки, простое, как молоко, как сено. Люди вообще, как правило, снаружи одни, а внутри совсем другие. Снаружи, например, злые, а
внутри – добрые. Снаружи крикливые, а внутри – как испуганные дети. Прячутся сами в себя, как мышь в норку. Баба Лена говорит, что все беды – от этого: сами себя не любят, такими, какие есть.
Неужели эти женщины из журналов взаправду были такие, какие на фотографиях? Красивые, смелые, умные… Иногда Ленке очень хотелось верить, что где-то все-таки живут другие люди: лучше, выше, красивее, чем те, кого она знала за свои шестнадцать лет. С другой стороны, ведь она так любила, по-настоящему любила и Любку, и Ломчика, – Юрку! – и бабушку, и Таньку, и напарницу свою Надьку, и тетю Катю вот, и даже Ефимову…
– Сидишь! – в библиотеку влетела Любка. – Здрасте, тетя Катя! – и с размаху плюхнулась на второе кресло, – опять с журналами? Дай-ка мне вот тот.
Ленка подала:
– Они такие красивые…
– Только пишут там пое-что, и не понять, – Любка, открыв было журнал, передумала, и теперь сидела, обмахиваясь им, как веером. – Как тут хорошо, прохладно!
– Здравствуйте, – нараспев, протянула появившаяся в дверном проеме Митькина, – вы что, девочки, за книжками пришли?
– Привет, Митькина, – буркнула Любка, – ага, что-то давно Достоевского не читали – решили перечитать.
Но на неудавшуюся шутку Митькина не обратила внимания, а затараторила:
– Тетя Катя, какой у вас сарафан красивый, как он вам идет! Вы в нем такая молодая!
– Да ладно, – засмущалась библиотекарша, – в Юккогубе вот, на днях купила…
– Мне бы “Крестьяночку” на дом, а? А-то все дела, дела днем, только вечером и могу посидеть часок, почитать… – продолжила Митькина тем же елейным тоном.
– Ой, – растерялась тетя Катя, – ну бери…
Митькина победоносно взяла номер у Ленки из рук. Продефилировала по книжным рядам, повиливая бедрами в коротеньких шортиках, и остановилась напротив подружек, у окна.
– Что-то ты, Ленка, на дискотеки в последнее время ходить стала часто?.. – Митькина, не глядя на нее, разглядывала свой мизинчик.
– А тебе какое дело? – вместо Ленки ответила Любка. – С тебя берет пример. Ты же у нас звезда Куйтежей, уедешь осенью – как жить будем, не знаю. У кого учиться будем задом крутить – не ясно. Бедные мы несчастные.
– Учитесь-учитесь, – покровительственно пропела Митькина, – вам, правда, долго учиться надо… Двигаться не умеете, ритм не слышите, но это ничего, даже зайца можно курить научить, – Митькина в городе полгода ходила в секцию бальных танцев и чувствовала себя профессионалкой.
– Красиво девочки танцуют, – вступилась тетя Катя, – что ты, Аня, на них нападаешь?.. Как умеют, так и танцуют. Приходите все вместе в выходные, я клуб пораньше открою.
– Придем, – отозвалась за всех Митькина, – особенно Ленка у нас прибежит пораньше. Только вот для чего? Или ради кого?
Но тут в библиотеку вошла Ирка Румзина и с ходу набросилась на Катерину:
– Нет, ну что это такое делается-то?! Мало того, что этот бык чертов всех пугает по полям, а директору все равно, так теперь еще решили ввязаться в программу по выращиванию овощей по финской технологии. Финны бесплатно технику дают для посадки. А у нас земля сама знаешь какая: чуть копни – один исподник – камни. Неудобья: то косогоры, то перелески, то ямы, то канавы. Где у нас этим нарядным финским машинкам пройти? А кто эту морковь убирать будет? Картошку-то убирать некому. Кто за такие гроши в земле копаться будет? Сколько в прошлом году под снегом осталось, помнишь? Да и хранилища под овощи у нас нет. Вырастим
морковь – и куда ее девать? Сразу продавать – не выгодно, хранить – негде.
– На кой ты мне тут лекции читаешь, – вклинилась, наконец, в ее словесный поток тетя Катя, – чем я-то тебе помочь могу?
– Давай мне все, что у тебя есть про выращивание овощей.
– Да у нас, сама знаешь, какого года литература…
– А-а, давай.
Тетя Катя пошла искать книги по стеллажам, а Ирка обратила внимание на девчонок.
– Здравствуйте, девочки! Слышали да что творят? Лишь бы взять что-нибудь бесплатно, да насажать побольше, пока деньги дают, а кому убирать все это потом, какова реальная выгода – всем плевать. А ведь земля – это такое богатство, да? Выйдешь утром в поле, солнце кругом, ширь такая, что дух захватывает, и как
будто – летишь… – у Румзиной даже глаза загорелись и стали добрыми, масляными, как будто о любимом мужчине говорила.
– Земля и земля… – повела плечиком недовольная тем, что их разговор прервали, Митькина, – зато кроме этой земли у вас, деревенских, тут ничего и нет. Серо, скучно, зимой – холодно.
– Грибы, ягоды можно собирать! – вставилась Ленка, – не скучно! А что у тебя в городе-то есть?
– В городе – культура, – Митькина даже удивилась столь глупому вопросу. – Музеи, театры…
– Сама-то давно в теантере была? – Румзина посмотрела на нее с жалостью.
– Я?.. Мы с классом тогда… э-э… ходили… На Чехова…
– Раз в год в теантер сходят, а потом своей культурой в нос тыкают. Культура – это когда человек работать умеет, дело свое знает и делает его с радостью.
– Да, вот и Танька с родилки говорит, что работать надо с радостью, работа веселых любит, – снова вклинилась в разговор Ленка.
– А грибы ваши собирать – маслята вшивые – от них потом все пальцы коричневые. Фи!
– И правильно говорит, – поддержала Румзина Ленку. – Земля, поля вот эти, тишина, птицы – это такое богатство, которое в городе никому и не снилось, – Ирка говорила это от души, она всегда изъяснялась как-то восторженно, – Катя, найди мне ту синюю книжечку, помнишь, лонись1 брала?
1 Лонись – в прошлом году.
– Работают глупые, а умные затем и умные, что могут найти себе такое место, где работать не надо, – устало, как будто объясняла это уже в сотый раз, сказала Митькина, но Румзина отошла к стеллажам искать книжку.
– А если не работать, то что же делать? – удивилась Ленка.
– Жить! Жизнь – это развлечение! А в городе развлечений больше, чем в деревне. Вот вы тут и скучаете, и ничего не знаете. Знаете, что такое боулинг? – Ленка с Любкой не знали, и Митькина пояснила: – Это игра такая: шары катать, чтобы они кегли сбивали. Кто больше кеглей собьет – тот выиграл.
– И тому приз?
– Нет, просто интересно.
– Какой же в этом интерес – кегли сбивать? Они что – мешают? – снова удивилась Ленка.
– Дура! Это игра такая! О чем я с вами разговариваю! – и Митькина, подхватив журнал, собралась идти.
Тетя Катя между тем нашла для Ирки Румзиной все книжки, включая синенькую, и теперь записывала их в формуляр.
– Ну и что по-твоему, – обратилась Румзина к Митькиной, – взять теперь всех и переселить в город, к культуре твоей?
– Зачем переселять? Умные – сами переселятся, а глупые – пусть в навозе копаются.
– Жалко мне тебя, Анечка, – неожиданно грустно сказала Ирка, – вот ты и умная вроде, и красивая, и в городе живешь, а пустая какая-то… картонная. Радоваться жизни не умеешь. Суетишься, суетишься, все выгоду ищешь, а то, что жизнь настоящая, молодость мимо проходит – не видишь.
– Суетиться надо, чтобы в жизни хорошо устроиться, чтобы… – но Ирка не дослушала, махнула рукой, забрала книжки и ушла.
– Чтобы и погулять, и замуж хорошо выскочить, – докончила Митькина, глядя на Ленку с Любкой.
– За миллионера, – сказала Любка.
– За миллиардера. До свидания, тетя Катя, – и Митькина гордо удалилась.
– Какой уж у нас тут миллиардер… – вздохнула тетя Катя, – непьющий был
бы – вот счастье-то.
– Пойдем мы, тетя Катя, – и Любка потянула Ленку к выходу. – До свидания.
– Счастливо. Непьющих ищите, девки, непьющих.
Ленка с Любкой вышли и, несмотря на то, что им было в разные стороны, пошли в Ленкину, по направлению к Онего: до вечерней смены время еще оставалось, и можно было искупаться.
– Ну, Митькина, блин, вечно все испортит. В каждую дырку затычка.
Пустобрех, – высказалась Любка.
– Зато она красивая. Приятно ведь на красивого человека посмотреть, – вступилась Ленка, – платье вот тети Катино заметила новое, похвалила, а мы не заметили.
– А тебе бы только всех бы любить да жалеть!
– Знаешь, Люб, а мне иногда кажется, что я за этим и родилась – чтобы всех любить и жалеть, – призналась Ленка и сама замерла от того, что выдала свою
тайну, – вот ты знаешь, для чего ты родилась?
– Ну, мать… Что значит – для чего? Родилась и родилась. И ты родилась просто так. Выдумала только, что любить всех должна. Люби ты людей – не люби – легче им от этого ни фига не станет.
Может, Любка и еще чего сказала бы нравоучительного, но, свернув на перекрестке налево, она увидела шедших навстречу Ломова и Аркашу и вдруг растерялась.
– Хелоу! – заголосил издалека Ломчик, – Бонжур, мадамы! Хау-хау дую-дую? – Куда идете? – и Ломов нагло уставился на Любку.
– На озеро, – осторожно ответила та.
Ленка немного отодвинулась в сторону, почувствовав, что им что-то надо сказать друг другу. Аркаша тоже отошел вместе с ней. Мимо ребятня тащила игрушечный самосвал, доверху забитый травой – закладывали силос.
– Купаться? Голливудскую красоту свою до совершенства доводить? А потом этой красотой смущать покой мирных граждан? – витиевато спросил Ломчик у Любки.
– Каких граждан?
– Меня, например…
– Тебя смутишь!
– Я весь в смущении от вашей персоны…
Любка и вовсе не нашлась, что ответить. Ломов сам неожиданно смутился и отвел взгляд… Любка, заметив это, покраснела. Буркнула:
– Ну и шел бы с нами красоту наводить.
И они пошли вперед парочкой. Молча. Свернули на проселочную дорогу в Озерье. И шли, то сходясь, то расходясь по колеям, обходя лужи. Ленка с Аркашей шагали следом.
– Ничего, что я с вами? – спросил Аркаша.
– Пойдем, – позвала Ленка, чтобы не быть третьей лишней, купаться-то ей хотелось.
Они тоже шли молча. Только около маленького дачного домика Аркаша, глянув на огород, сказал:
– А картошка-то у них замуровела – не видать ботвы.
– Полоть и полоть… – согласилась Ленка, – гляди-ка, а дома кто-то есть: баре приехали?
– Похоже.
Когда подошли к озеру, Любки с Ломчиком не было видно.
Глава 9
“Баре приехали, баре!” раздался по деревне радостный клич алкоголиков.
Это значило, что в Озерье, в маленький дачный домик – избушку на курьих ножках – приехали дачники: баре. Баре, барыни – старушка-мать и ее, уже тоже пенсионерка, дочь – Иволгины наезжали в Куйтежи наскоками: быстро-быстро управиться с огородом, проверить, все ли на месте и, если удастся, чуть-чуть отдохнуть. Каждую весну они умудрялись посадить больше десяти соток картошки, овощей, две теплицы огурцов-помидоров, а потом не успевали за всем этим следить. Вот и сейчас картошка у неумелых дачниц заросла так, что сорняки закрывали ботву. Местные же алкоголики во главе с Манькой всегда были этому страшно рады: для них это – способ заработать на бутылку.
События развивались по определенному сценарию.
Весь вечер уставшие с дороги дачницы смотрели на свои плантации с ахами и охами в глубокой печали. А когда просыпались утром – огород был выполот, окучен и даже полит. А перед домом стройной шеренгой стояла похмельная “тимур и его команда” с протянутой рукой и вечной просьбой в глазах: хозяйка, дай на бутылочку. На бутылочку, обычно, приходилось давать. То есть, конечно, их ведь никто не просил, и сорняки обратно уже не посадишь, но ссориться с алкашами не хотел никто, даже местные – не то, что приезжие. Воровство добралось и до Заонежья.
Воровали все: телевизоры, настольные лампы, одежду, простыни и даже ложки с вилками. Воровали картошку из ям. Потом ходили по домам со всем добром и, не стыдясь, предлагали ворованное за копейки, лишь бы наскрести на бутылку. Иволгиных уже один раз вот так обворовывали. Пытались они по бабки Лениному совету зааминить1 дом – веры не хватило. Теперь вот наловчились по осени копать в огороде яму и запрятывать туда все пожитки, а сверху ставить бочку для воды.
1 Зааминить – с молитвой вбить потайной гвоздь: пока его не вынешь – дверь не открыть.
Но рассорься с алкоголиками – они ведь и дом поджечь могут – что с них взять? Поэтому иногда и в долг давали, зная, что не вернут.
Той же Маньке поди попробуй, не дай. Манька вставала на колени, плакала, целовала ноги, умоляла – унижалась – крепкая, когда-то красивая баба с благородной сединой в волосах. Спектакль разыгрывала, конечно, но чтобы отказать, надо было иметь большую силу воли и холодный разум, который бы переборол глупое жалостливое сердце. Их у дачниц не было. И деньги они давали.
Долги, впрочем, алкоголики отрабатывали. Выкапывали осенью картошку совершенно бесплатно. Ну, разве что, за одну бутылочку. Сущая мелочь. Выкопать десять соток все-таки не шутка.
Кстати, про Маньку. Однажды Ленка, будучи одна дома, застала ее у себя в чулане. Манька выходила оттуда с двумя банками консервов в руке и очень растерялась, увидев Ленку.
– Леночка, мне очень кушать хочется, – умоляюще пролепетала Манька, крепко прижав к плоской груди банки, и, не поднимая глаз, выскочила.
Ленка ее не остановила: опешила. Да-к и что останавливать – отбирать?
“Бедная, бедная тетя Маня”, – подумала тогда Ленка и даже с охотой помолилась за нее. Но весь день потом была сама не своя.
…Сама собой прошла пара недель. Заложили силос. Сенокос подходил к концу, и везде вокруг домов по удобьям стояли ловкие аккуратные стожки. Зацвел иван-чай, и после коротких, но спорых дождичков грибы повалили валом, хоть косой коси. Было по-прежнему непривычно жарко для северного лета, даже марево стояло оранжевое, как на юге.
Лариска, кстати, неожиданно, по выражению Ленкиной бабушки, образумилась. Может, испугалась по-настоящему, что вслед за испорченным лицом Манька с Тоськой еще что-нибудь похуже сделают с ней. Может, и правда поняла свою вину, раскаялась. Так или иначе, она отписала Клавкин дом на четверых и ходила мириться к Маньке. Манька сначала долго и важно, для порядку, вопрошала ее, видела ли она, Лариска, когда-либо у нее грязные простыни, занавески – вообще грязь в доме, а потом они вместе напились в стельку. Ходили по всей деревне и орали матерные частушки так, что даже нетрезвые мужики краснели. Потом пошли к тетке Тосе, чтобы снять с Лариски сглаз. Помирились.
Говорят, даже видели, как Лариска стояла на перекрестке у остановки на коленях и просила у всех подряд прощения. Одним скандалом на деревне стало меньше. Да и вообще, все как-то успокоились, затихли, разнежелись под непривычным для Карелии теплым летним солнцем.
Коля-дурачок уже открыто гулял с Танькиной Сонькой, и о них радостно сплетничали. Он даже устроился вторым пастухом – зарабатывал деньги на свадьбу. По утрам появлялся у фермы на толстом рыжем Тюльпане с длинным кнутом в руках. Открывали ворота, выходило стадо и молча шло за ними.
Алевтина стала меньше браниться, стала как-то тише, покладистее и, кажется, светилась счастьем. У ее дома каждый день стояла серебристая иномарка.
Даже Танька засобиралась замуж за своего хахаля. Таньке перемывали кости все, кому не лень. И за четверых детей от разных мужей, и за посаженного в тюрьму, как уж всем стало казаться, в общем-то неплохого мужика. И за нового, будущего, пятого мужа, который был младше ее на шесть лет и, несмотря на свою косую сажень, выглядел меньше Таньки и даже смешно рядом с ней.
Ленке, с одной стороны, радостно было видеть и Соньку, которая вечером выбегала навстречу стаду, и Алевтину, бегающую туда-сюда по деревне в каких-то особенных семейных хлопотах, и Таньку, большую и трогательно беззащитную… С другой – было немного завидно.
Юрка – Юрка! – не обращал на Ленку ни малейшего внимания. Дискотеки проводились исправно. Ленка каждый раз с замиранием ждала выходных, наряжалась, приходила… – и ничего. Даже выпить пыталась, но ее только тошнило потом за клубом под елками.
На душе было мутно. Не чисто и ясно, как доселе, когда не было в голове никаких особенных мыслей, а только обычные: о телятах, о бабушке, о родителях и о том, сколько они накосили сена. И не так легко и солнечно, когда она только-только увидела Юрку, а мутно. Именно мутно и больно, и тяжко, будто держала два двадцатилитровых бидона в руках. Особенно когда она видела их вечерами вдвоем: Юрку и Аньку Митину. И вместе с этим, где-то глубоко внутри себя, Ленка знала, что Юрка – это для нее навсегда.
Все влюбленные всегда в этом уверены. Откуда же тогда берется безответная любовь?..
Ленка долго и часто молилась. Без молитв – она их не знала и не помнила – просто рассказывала богу о Юрке: какой он хороший и просила защитить его. Рассказывала о деревенских новостях: о Лариске, Маньке и Тоське, и обязательно находила для каждой оправдание. И все люди у нее получались такие хорошие, что у Ленки по щекам текли слезы от любви к ним.
Когда Ленка пришла на вечернюю кормежку, их коровы, Келли, уже не было. От нее осталась голая грудина с единственной передней ногой, которую скотник, матерясь, пилил в запястном суставе. Тут же на бумагах лежали внутренние органы. Большое мокрое сердце почти сползло в навозный канал.
– Не смотри ты, – сказала Надька, сгибаясь под тяжестью двух двадцатилитровых бидонов с молоком, дотащила до прохода, поставила и беззлобно ругнулась: – Тишкина жизнь! – Но вместо того, чтобы разливать молоко по ведрам, села на кормушку и задумчиво смотрела на подкрадывавшегося к бидонам теленка
Моськина: – Э-эх… Бесказенная твоя душа…
Надька справилась раньше и ушла, а у Ленки дело не ладилось. Ленка тоскливо скоблила и скоблила один угол железным скребком, а под отскобленным всякий раз оказывался еще один слой слежавшегося навоза. И как это раньше у нее не доходили руки до этой клетки? Ко всем несчастьям еще и не получалось ловко уворачиваться от телячьих заигрываний, и она пару раз получила маленькими рожками в бок и в ногу.
Прибежала высокая тощая Танькина Сонька:
– Ленка, ты ведра с кривой ручкой от нас не брала?
– Они у вас все с кривыми…
– Так брала или нет?
– Нет!
– Так что голову морочишь?! – и Сонька хотела бежать дальше.
– Сонь! А у тебя платье будет? – Ленка вылезла из клетки в проход и встала, задумчиво опершись на скребок.
– Какое, блин, платье?
– Свадебное! Белое такое, с оборочками, длинное до пят и широкое, как колокол. Как в кино.
– Какое платье! – рассердилась Сонька. – Мы и справлять-то не будем, распишемся и все.
– Как? – удивилась Ленка. – А разве ты не мечтаешь о свадьбе, о платье, чтобы хоть раз в жизни быть как принцесса?!
– Принцесса! А с утра – опять в дерьмо? Уж лучше и не вылезать из него, а то потом еще противнее будет.
– Какое дерьмо? – не поняла Ленка, – ты же доярка, ты же навоз не убираешь?
– Отстань, – отмахнулась Сонька.
Ленка снова залезла в клетку, но убирать навоз дальше не хотелось. Ленка и вправду дальше свадьбы с Юркой и белого платья не задумывалась. Свадьба – и все. А то, что с утра опять придется идти на ферму, поить телят, слушать нытье Надьки, убирать дерь… навоз. Но кто-то ведь должен убирать навоз, растить телят, забивать их, делать колбасу, шинку и сервелат… У Ленки забурчало в животе: как же хочется есть! Пора заканчивать.
На телеге курил скотник, ожидая, пока она уберется в клетках, чтобы нажать на рычаг, запустить транспортер, через полчаса выключить его и уйти домой с чувством исполненного долга.
– Ленка, – позвала Таня, – помоги-ка мне телегу с зеленкой прикатить.
Ленка всегда была рада помочь Таньке, даже сейчас, когда вдруг так нестерпимо захотелось есть.
Катили молча, Таня не ругалась, как обычно, ничего не замечала вокруг. Ленка не обратила на это внимания, пока вдруг случайно не заглянула в ее лицо – Таня плакала. Плакала беззвучно, сама не замечая, что плачет. Заметив ее взгляд, Таня бессильно опустилась на кормушку, села, по-мужицки расставив колени, склонившись и опершись о них локтями. Ленка пристроилась рядом. Помолчали.
– А я ведь и не знаю, любила ли я его, – сказала Таня.
– Кого? – удивилась Ленка и осеклась: трактор, косая сажень в плечах.
Танька, не среагировав, продолжала:
– Приеду в Юккогубу, а мне все кричат: Танька! Тебе Трын привет передавал! А я им: “А вы откудова знаете, что…” А они: “Мы все знаем. Он всегда, как напьется, про тебя вспоминает; сразу на трактор – и к тебе”. И это правда, – Танька заглянула Ленке в глаза. – Приедет, бывало, трактор у дома поставит и кричит: Танька! – Танька вытерла слезы рукавом, высморкалась. – Я и трезвым-то его ни разу не видела… – а потом уже без слез в голосе, с гордостью. – Он даже за меня один раз 760 рублей заплатил – его как-то в кассе платить заставили: за невыход на работу, за простой трактора, за использование техники в личных целях. А потом все равно приезжал… Знаешь, я когда у него первый раз дома была, он меня огурцами солеными кормил, с вилки, как маленькую. А мне ведь уже тридцать три. Приятно ведь, когда кормят, а? – рассказывала Танька долго, с трудом, будто полную телегу одна по рельсам катила. Закончила с облегчением.
– Приятно, – согласилась Ленка, и ей почему-то очень захотелось, чтобы и Юрка, когда она первый раз придет к нему домой, непременно накормил ее огурцами.
Танька долго молчала, а Ленка не знала, о чем спросить.
– Он умер, – неожиданно сказала Танька.
“Кто умер?” – чуть было не брякнула Ленка.
– Он умер вчера. Они выпили водки, как обычно, а водка оказалась паленой. Все отлежались, а он умер, представляешь? – Танька смотрела в одну точку и говорила быстро. – Наверное, хотел ко мне ехать, а вот взял и умер.
– Это я виновата, Танечка, это я виновата… Мне так хотелось, чтобы и ко мне приезжали, и меня любили… Я, наверное, завидовала тебе, сама не знаю почему. Ведь зависть – это грех. Но мне и радостно было за тебя, честное слово… я не знаю…
– Ты-то при чем! Это все водка виновата поганая. – Танька сникла, сгорбилась вся, и Ленка просто, как само собой разумеется, обняла ее, а точнее, приникла к ней сама, уткнулась. – Тишкина жизнь! – выругалась Танька. – Ешкин кот! И-тит твою мать!
Ленка со всем соглашалась: тишкина.
Посидели так.
– Ладно тебе расстраиваться, – Танька вдруг высвободилась. – Я переживу, переживу – понятно? – Танька еще раз высморкалась и закурила, – у меня четыре дочки. Их растить надо. Чтобы школу закончили. Образование получили, чтобы не как я – семь классов. Они у меня красавицы будут! Все парни будут их. Соньку вон замуж выдам, – Танька закашлялась и замолчала.
– Все будет хорошо, Таня… – не знала, что сказать, Ленка, горло у нее перехватывало, и слова получались корявые.
– Еще как хорошо, – Танька потрясла в воздухе кулаком, – лучше всех!
Опять замолчали. В тишине неподобающе моменту бурлил Ленкин живот, и она от этого сильно мучилась.
– А ты любишь кого-нибудь? – после долгой паузы спросила Танька.
– Я, – Ленка смутилась, но, еще раз вглядевшись в ее лицо, призналась, – Юрку Смирнова.
– А как ты его любишь?
– Сильно люблю, – и вздохнула, – только он Аньку Митькину любит.
– Да кто ж эту Аньку Митькину любить может? Титьки вечно на вывале: здравствуй, я – твоя корова, подои меня скорей! А в голове – что в телячьей
клетке, – усмехнулась Танька. – А ты что делаешь, чтобы он тебя полюбил?
– А что мне делать? Мне его даже видеть негде. На дискотеке он на меня не смотрит. На остановку я ходить стесняюсь – там все собираются, а я не знаю, как себя вести. Живет он в Загорье – мимо его окон лишний раз не прогуляешься.
Танька призадумалась. В сенник неожиданно вышел Моськин. Вид у него был задиристый, наглый и потому потешный. Он наклонил голову с маленькими рожками, скакнул пару раз по направлению к Ленке с Танькой, брыкнул воздух.
– Ой, страшно, страшно, – улыбнулась Ленка, с удовольствием глядя на него, с нежностью.
– А ты лошадей любишь? – спросила Танька.
– Лошадей?
– Лошадей! Конюх-то наш, отец его, пьет как… лошадь, и Юрка вместо него за конями ходит. Так ты пойди на конюшню…
Танька неожиданно легко переключилась со своего горя на Ленкины проблемы. И сразу в ее глазах появился привычный огонек. Она даже слезла с телеги, стала расхаживать по сеннику. И они как настоящие заговорщики составили план.
Ленка, ободренная Танькой, сразу поверившая в ее затею, как на крыльях прилетела домой и с разгону плюхнулась за стол. Дома были родители, уставшие, загоревшие дочерна, но довольные собой, погодой и скотиной. В гостях была Лариска. Празднично хлопотала бабушка, и вкусно пахло свежими щами.
– Мама! – захлебываясь щами, начала Ленка, – а когда я замуж буду выходить, у меня платье будет? Такое белое, чтобы плечи голые, как в кино у девушек, и чтобы подол до полу?
– …Слышали, – продолжала о своем Лариска, – Куселасьски в Юккогубе опять подрались? Помяните мое слово – не жить им вместе на этом свете. С утра до вечера мир делят!
– Какое платье? – отмахнулась мать. – Ты полоть огород будешь или нет? – все травой заросло.
– Господь им судья, Лариса, – это уже баба Лена сказала про Кусел, – может, успокоятся… Меня вот что беспокоит: Ильин день – а дождя нет. Весь день солнце жарит, как в аду, прости господи. Не было такого, чтобы на Ильин день дождь не лил!
– Буду, буду полоть. Ну правда, как же замуж без платья? – отвечала Ленка матери.
– Накомедила! Замуж она собралась! Слышь, бабка? Ленка-то наша замуж собралась! Ох-х… – и мать отложила ложку, устало облокотилась на руку и закрыла глаза.
– Конечно, будет платье, Леночка, – засуетилась баба Лена, накладывая Ленке картошку, – ты ешь, ешь, а то худую-то никто замуж не возьмет.
– Мама! – Ленка потянулась к ней, чтобы обнять от избытка чувств, но мать отстранилась:
– Придёно, отужинано – вот бы в кровать завалиться да покемарить хоть немного… Что, бабка, правда, сегодня Ильин день? – и, едва расслышав ответ, вышла.
За нею поднялся и отец: летний день зиму кормит.
– Ой, Лена! – Лариска сразу отставила чашку, – я же к тебе пришла, помоги ты мне, христом богом молю. Помирилась я с Манькой? Помирилась! Дом на всех разделила? Разделила! Обещали Манька с Тоськой снять с меня свой наговор? Обещали! А ты посмотри на меня – страх божий.
Лицо у Лариски и впрямь оставалось такое же красное и безбровое, как до примирения. Никаких изменений.
– Я уже и травами лечилась, и мазями, и Тоське в ноги кланялась. Знаешь, что Тоська мне сказала? Извини, Лариса, я старая стала, сила уж не та. Наложить сглаз наложила, а снять не могу. Съезди, говорит, в райцентр, сходи в церковь, исповедуйся, причастись, поставь свечку во здравие, авось, поможет. Как сглазить – так пожалуйста, а снять – так сходи в церковь!
– А ты сходила?
– Так сходить-то сходила: Генка за сотенную свозил. Каждый день теперь и “Отче наш” читаю, и “Богородице дево радуйся”, а проку-то? Что же теперь делать-то, Лена?
– А ты веруешь ли взаправду, Лариса?
– Да кто его знает, есть он али нет. Ты вот веруешь, а откуда у тебя, скажи-кося, такая уверенность? Скажи, ты правда веришь, что он там сидит и смотрит?
– Да где “там”? Не там он, а тут, – баба Лена приложила руку к груди, – допила чай? Пойдем-то.
Баба Лена вышла из комнаты в коридор. Вышла следом и Лариска.
– Господь он в дверях, помолись здесь сейчас с сердцем и пройдут твои хвори.
– Не могу я вот так помолиться, – рассердилась Лариска, – ты лучше к Тоське сходи, пусть вспомнит все заговоры свои да вылечит меня, – и добавила в сердцах, – Откудова у нее склероз? Она всю жизнь постится – никакого холестерина.
…А Ленка потом, на всякий случай, вышла в коридор и горячо, “с сердцем”, помолилась перед распятием над входной дверью, попросила вразумить ее, направить, подсказать слова на завтрашней встрече ее с Юркой, дать ей сил и смелости подойти к нему.








