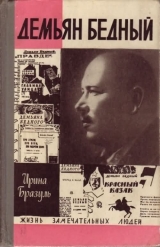
Текст книги "Демьян Бедный"
Автор книги: Ирина Бразуль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Нет, оказалось, не все.
В день похорон полиция испугалась огромного стечения народа. Неожиданно было приказано изменить маршрут следования на Волково кладбище. Молодежь возмущалась. Шум… Крики…
У самых кладбищенских ворот полиция вдруг остановила Розу Федоровну: «Лицам иудейского происхождения на христианское кладбище нельзя!..» Как побелела она, как тихо и твердо сказала: «Нет, всю жизнь вы меня к нему не пускали, а теперь-то уж пропустите!» Если бы она не справилась с этим оскорблением и сама не открыла себе дорогу на кладбище, лежать бы полицейскому близ ворот от сокрушительного удара уже сжатого мужицкого кулака. Придворов разжал его не сразу: что еще могло тут случиться? Даже мертвый этот человек был еще им страшен. Его надо было защищать. А таких крепких кулаков, как у его любимого ученика, здесь, пожалуй, больше не было.
Потом Ефим Алексеевич помогал разбирать громадную, приходившую в связи с кончиной Петра Филипповича почту. Каждое новое письмо заново подчеркивало тяжесть потери. Скольких людей он осиротил!
Отдали должное и газеты. «Рыцарь без страха и упрека», – писали о нем; вспоминали, как оценили его Лев Толстой, Чехов. Приравнивали его литературный подвиг к произведениям Достоевского.
Но с особым трепетом Придворов развернул свежий номер «Звезды». Что-то скажут об этом человеке они? Те, чьим идейным противником он был?..
Отлегло от сердца! Они написали, что «социал-демократы ценили и уважали «последнего могикана «Народной воли»…» и еще много теплых слов. Все это было сказано так искренне, что Придворов испытывал немую благодарность. Ему было бы больно, если бы «Звезда» не сделала этого.
Писали и из других стран, присылали письма с оказией, в двойных конвертах, с извинениями, что не отправили телеграмм «в силу полицейских условий». Французские, немецкие, английские тексты. Привыкнув разбирать почту для него, трудно было делать это теперь, когда его уже не было.
Трудно было опомниться…
Ездил на кладбище.
Приходя к Розе Федоровне, каждый раз в ожидании, пока откроют, он повторял себе, что его уж нет, уж нет!.. Тайна смерти, трагедия невозвратимого впервые ожгла его так больно.
Ничто не радовало его. Не отвлекал ни свой дом, ни даже маленькая, забавная – скоро годик – дочка. С превеликим трудом собрался ответить на письмо тому, вместе с кем переживал горе. Это был критик Горнфельд, который теперь вел отдел поэзии «Русского богатства».
«Давно я получил Ваше письмо… – писал ему Придворов, – …собираюсь ответить Вам, хочу что-то такое сказать, чем-то поделиться, о чем-то спросить, берусь за перо, пишу – и рву. Вялость мысли, дряблость чувства, скрипучесть слога…
После всяческих потрясений и смерти Петра Филипповича в особенности – все не могу прийти в себя: берусь за то, другое, третье – и все без толку. Потерял ось, сбился с орбиты, вращаюсь по черт знает какому закону, блуждаю по непонятному пути.
Ваше письмо тронуло меня. Вы добры. Иначе и быть не могло. Ведь и я писал-то Вам первому потому, что видел, как Вы… пожалели Диму. Как-то у Вас это особенно вышло: просто и хорошо. И ясно чувствовалось: Диму пожалели. Но Дима мал. Вырастет – вспомнит, поймет.
…Осиротев после смерти Петра Филипповича, я не знаю, кто мне теперь хоть в одной самой малой части заменит его (это невозможно!) – в смысле любовного руководительства моими слабыми попытками поэтического творчества».
Это письмо, безусловно, искренне, но сдержанно. Зато спустя месяц, узнав из газет о том, что арестованный ранее Бонч-Бруевич освобожден из тюрьмы, Придворов написал этому менее знакомому, нежели Горнфельд, человеку куда как более горячо и откровенно:
«…Тягчайшим ударом была для меня смерть П. Ф. Якубовича, которого я так полюбил (могло ли быть иначе?), как никогда не любил никого. Если бы он не был «П. Я.», «Л. Мельшин» и т. д., а только П. Якубович, все равно – это был бы самоценный, удивительный человек по необычайной чистоте, по благородной привлекательности своего внутреннего и внешнего облика, которого не могло затемнить ничто. А ведь я видел и знал Петра Филипповича в той будничной обстановке, в которой не может не проявиться мелочность человека, существуй она хотя бы в малейшей степени.
Тяжелая, но красивая жизнь была у Петра Филипповича. И сам он умел увлекать на этот тяжкий, но красивый путь.
Теперь без него я стою на каком-то убийственном раздорожье. Не то что не знаешь, куда идти, а как-то стало безразлично все, – стою на месте.
Даже физически подался я. Якубович умирал при мне – я провел у него последнюю ночь. Потом были похороны, суета. А вернувшись с Волкова, я слег. Стал вял, вял и теперь, и пишу вяло, не умея сказать всего, чем полна душа. Хотя вернее – душа пуста. Холодна и пуста.
…Я все откладываю визит к Вам. Именно «будней» боюсь я.
Пишешь Вам – прихорашиваешься. А в будни, в простом общении надо быть Якубовичем, чтобы не бояться «обнаружить себя». О будни – это такая лакмусова бумага!
Мне кажется, что обладаю такой массой черт и черточек, что порой ужас берет»,
– признавался он напоследок, снова отдаляя встречу с человеком, за которой, он чувствовал, несмотря на всю растерянность, стояло многое и многие, что влекло и давно интересовало его.
Глава V
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
Между тем дела Придворова в Университете шли неважно. Далеко не все, что там преподавалось, теперь интересовало его. Находясь под сенью Петербургского императорского уже седьмой год, он подолгу и носа не казал на лекции. Счастьем было, что в ту пору можно было учиться едва ли не до бесконечности – не зря же существовало прозвище «вечный студент»… Требовалось лишь в срок вносить плату.
Это было нелегко: Придворов стал уже человеком семейным, а поэзия не кормила. Держались одними уроками, и еще придумали: пускали в одну из комнат квартиранта, да жена давала обеды. Было трудно. В канцелярии Университета накопилось много просьб Придворова об отсрочках платежей за право учения. Но он все держался за свое студенчество. Университетская сень укрывала его от недреманного ока властей. Студент получал право жительства и отсрочку прохождения военной службы, которую он, кстати, не окончил в Елисаветградском госпитале. И, пропуская лекции, он регулярно получал в канцелярии свидетельство о том, что «Предъявитель сего – студент, двадцати четырех (пяти, шести и т. д.) лет, православный, в удостоверение чего и дано ему сие свидетельство для свободного проживания в Санкт-Петербурге и его окрестностях сроком по (такое-то число такого-то года)». В полицейском участке ставили печать: «Вид на жительство получил».
Одновременно в университетской канцелярии к делу № 991 подшивали все новые и новые копии ответов, отправленных на запросы: то Елисаветградской городской управы, то Херсонской губернской управы, то Александрийского уездного воинской повинности присутствия. Все эти учреждения интересовались им: «По встретившейся надобности губернская управа просит сообщить, состоит ли в числе студентов Ефим Алексеевич Придворов, а если выбыл, то по каким причинам и не известно ли канцелярии настоящее его место службы или жительство».
…Ох уж эта «встретившаяся надобность»! Зазеваешься – и ты уже в погонах, служишь «апостолу мира»: прощай тогда все! И он из-под земли доставал деньги, оставляя иногда семью голодной. Если же случалось опоздать с внесением платы, мчался сломя голову с прошениями принять ее.
После кончины Петра Филипповича он долго не писал; не мог совладать с необоримой вялостью. К тому же дамоклов меч, как говаривал Петр Филиппович, по-прежнему висел над газетами и журналами. Сколько накопилось придворовских стихов в той же «Звезде»! Многие из них очень хвалил Бонч-Бруевич, а воз и ныне там. Если бы поэт знал, что часть посланных им стихов и писем была срочно сожжена перед налетами полиции вместе с другими бумагами, чтобы не навести на след, не дать ищейкам новых имен, он вовсе бы счел, что «дело – табак». Выходит, хотя Петр Филиппович кое в чем ошибался, вообще-то был прав? Надо дожидаться «нового пятого года». А когда он придет? Уж не в будущем ли столетии? Дождись, пожалуй!
Решительно все у него валилось из рук. И дома было не сладко. Дочка росла в темном, грязном дворе. Квартира на Пушкинской была дешева оттого, что в этом доме находилась баня. Вечный дым, копоть. Зимой быстро чернела проложенная между рамами вата. А уж когда их выставляли!.. Жена говорила, что не успевает протирать подоконники. В этот год апрель выдался неслыханно теплым. Других детей уже повывозили – кого на дачу, кого в деревню. Но что можно придумать, если еле сводишь концы с концами?.. А, черт!..
Он ходил по городу, замечая, как много изменилось со времени его приезда сюда. Пронеслась и стихла буря. Как ни в чем не бывало Невский полон шикарной публики. И город стал наряднее. Уже нет конок, газового света. Их сменило электричество. Вместо одного-двух когда-то увиденных им автомобилей немало их катило теперь по широкой главной улице. Изменился самый темп жизни города, моды, нравы. Ушли из жизни люди, пришли другие… А чего добился здесь он? Седьмой год в Университете. И все? Немного. Перспективы? Никаких!
Как он был наивен еще недавно! «Образование»…
Хотел кем-то сделаться. Кем же? Теперь уже ясно, что столица – это город господ и холопов. Придворов не хотел и не мог пристать ни к тем, ни к другим. А силу чувствовал в себе огромную; и, сжимая мундштук так, что тот трещал под крепкими зубами, спрашивал себя: на что же дана она? Неужели придется повторить вслед за любимым ушедшим другом: «Ах, без жизни проносится жизнь вся моя…»?
Уж так скверно и сиротливо протекала эта весна после потери друга, что дальше некуда. А чего ждать от лета, осени? Снова лекции по методологии истории, истории философии и наипаче истории церкви. Все вранье!.. Если были предметы, которые его серьезно интересовали, и профессора, которых можно было уважать, так давно все прочтено, прослушано и усвоено.
Вероятно, из-за этой угнетенности он не сумел полностью оценить свой неожиданный дебют в «Звезде» и порадоваться ему в полную меру. Развернув однажды газету, поразился больше смелости редакции, чем обрадовался своим стихам. Здесь стоял во весь рост отвергнутый в свое время «Русским богатством» его «Демьян Бедный – мужик вредный»; высказывал свою кручину, да не без подстрекательства:
«Мол, не возьмем – само не свалится, —
Один конец, мол, для крестьян.
Над мужиками черт ли сжалится…»
Так, так, Демьян!
Придворову и на ум не приходило, что роль этого мужика-подстрекателя еще предстоит ему самому. Пока поразил лишь факт публикации. Но он не снимал гнетущих вопросов и тяжести настроения, тем более что газета вышла 16 апреля: именно в ночь с 16-го на 17-е ровно месяц назад на его руках отходил незабвенный Петр Филиппович…
Могло бы взбодрить то, что в мае «Звезда» снова напечатала его стихотворение так же, как и первое, отвергнутое «Русским богатством». Это был «Сонет». Но почти тут же газета вообще закрылась. Слышно было, что кто-то арестован, кто-то уехал от греха, да и с деньгами там заело…
Так прошли второй и третий месяцы со дня кончины друга. В канун четвертого, побывав на Волковом кладбище, Придворов писал в одном из писем: «Я теперь знаю, где я буду лежать. Все мои сбережения пойдут на покупку местечка у ног Петра Филипповича».
Уныло протекало лето, осень, и началась длинная петербургская зима: прибавился расход на дрова. Единственным хорошим событием было возобновление «Звезды». Но стихов Придворова там больше не появлялось.
Одним зимним утром он встал особенно не в духе. Дочка простудилась. У жены болели зубы. Жилец съехал… Сам Ефим Алексеевич был здоров, но слишком зол на эту бессмысленную, осточертевшую жизнь. Доконал его один из учеников. Это был Костя Яхонтов, рабочий кондитерской фабрики «Бликкен и Робинзон»; когда-то Костя пришел, привлеченный объявлением о том, что уроки даются «за недорогую плату». Парень хотел сдать гимназический курс экстерном. При первом же знакомстве репетитор выяснил, что Костя из крестьян, рано осиротел и пошел в люди; его дядья с семи-восьми лет поступали в «мальчики», как-то кормились в столице – вот он и подался по их следам в Петербург. Теперь встал на ноги, работает, хочет учиться. «Сколько я вам буду должен?» – спросил ученик. «А книги у тебя есть?» Книг не было. Репетитор сказал, чтобы Костя не думал о плате за уроки, а перво-наперво приобрел необходимейшие учебники. Дал список.
Заниматься с ним было одно удовольствие. Этот парень был просто талантлив – схватывал с полуслова. Особенно хорошо ему давалась математика. Учитель иногда даже приговаривал: «Ах ты, яхонт изумрудный, ведь опять верно решил, шут тебя возьми! Вот уж не думал, что ты и с этой справишься».
Смущенный и счастливый похвалой, Костя только спросил однажды, отчего это Ефим Алексеевич его называет по-цыгански, то «изумрудным», то «брильянтовым»? Тот в ответ дал почитать Лескова, Островского: увидишь, мол, что такие присказки встречаются не у одних цыган. Так по разным поводам он исподволь приобщал Костю к чтению.
Когда наступила пора экзаменов, уж за кого-кого, а за Костю репетитор был спокоен. И вдруг – это было еще весной – является Костя. Понурый. Провалился по… алгебре.
– Тут что-то не так, – сразу сказал учитель.
Помолчали. Ефим Алексеевич думал о чем-то своем, даже не осведомился, какие достались билеты. Наконец ни с того ни с сего спросил: бастовала ли фабрика? На утвердительный ответ только шлепнул себя по лбу: вот в этом все дело!
Яхонтов не понимал, при чем тут забастовка, но Ефим Алексеевич и не стал разъяснять. Сказал только:
– Ты из каких краев? Ярославской губернии? Вот и отлично! Недалеко. Поезжай-ка ты, мой яхонт, в свою губернию. Возьми там в управе бумагу, что ты политически благонадежен. И валяй сдавать в тамошнюю гимназию. Не провалишься. Это я уже тебе точно, как цыганка, ворожу: вернешься в Петербург с аттестатом. А в наши гимназии, значит, носа совать не надо. Учту для других учеников на будущее.
Костя послушался совета и еще летом отбыл в свой заштатный городишко Ростов Ярославский. А после как в воду канул.
Теперь, в темноте декабрьского утра (было уже двадцать второе число), он неожиданно появился, и появился с аттестатом. Но в каком он был виде! Одно слово успел сказать: «Болею», – и закашлялся. В тепле ему стало душно. Пошли на кухню. Ефим Алексеевич открыл форточку, а Костя уже стоит у раковины и сплевывает кровь.
Это несказанно расстроило Ефима Алексеевича. Такой парень! Это же самородок, талант! И в начале пути уже все кончено. Кровохарканье – это катастрофа. Что теперь ему аттестат?..
Естественно, никто не мог тогда предвидеть будущего Константина Николаевича Яхонтова. Его учитель совсем отчаялся. Ему показалось, что дело пахнет «со святыми упокой». Между тем талантливому ученику еще предстояло окончить физико-математический факультет и с честью пройти долгий путь в науке, сохраняя светлую память о человеке, который поддержал его на первых порах.
Но под новый, двенадцатый год картина выглядела настолько безнадежной, что Ефим Алексеевич с сокрушенным сердцем гадал: переживет ли его питомец весну?
Ефим Алексеевич дал тогда Косте свой теплый шарф, немного денег, пошел проводить его домой. Хотел посмотреть, как он живет. Это была, конечно, холодная клетушка в подвале. Жалкий топчан, подобие стола, сколоченного из грубых досок, и книги. Сто раз себя проклял Костин учитель за то, что поощрял его в занятиях: уж жил бы лучше какой есть! Теперь, не без вины педагога, вышло, что книги скопились, а на столе стоит мутный стакан: Костя питался разведенной на воде мукой, привезенной из дому, – сестры дали.
Мрачнее тучи Ефим Алексеевич вернулся домой. Он не видел выхода. Как выручить? Ну, даже если Костю удастся спасти. Да ведь не один Костя на свете? И вспомнился разговор с Петром Филипповичем о доме, выстроенном им за свой счет Рослонасу… Нет, так ничего не получится. А как же получится? Как?
Сердито отвечая на вопросы жены, он прошел к себе, чтобы отвлечься, взял газеты, которые из-за прихода Кости не посмотрел вовремя. В их числе была «Звезда»; после перерыва она выходила уже не два, а три раза в неделю.
Придворов не знал, что редакция освободилась из-под смешанного руководства и попала почти целиком в руки большевиков. Просто заметил, что газета много изменилась к лучшему. Теперь она еще больше привлекала его.
Развернул тридцать пятый номер – и замер: стихотворение «Сынок». То самое, с которым ехал когда-то в Удельную к Мельшину… То самое, которое Петр Филиппович назвал «бомбой». То самое, что порекомендовал уничтожить! Если бы он видел, если бы он только мог видеть сейчас этот газетный лист! Стихи пролежали у Бонч-Бруевича долгих три года. Правда, они напечатаны без эпиграфа и концовки, но напечатаны!.. Значит, можно бороться? А как же дамоклов меч? Он висит, а они под ним ходят и ничего – делают свое дело. Закрылись на лето – опять открылись. Неукротимые!
Сколько раз того же Владимира Дмитриевича сажали в «Кресты»! И пожалуйста: жив курилка! С каким стихотворением выскочили. Извольте-с. Выкушайте! Ах ты, елки-палки! – все более расходился он, просматривая газету, в которой нашел немало других «гвоздей». Н-нет, оказывается, есть смысл пожить и поработать! Есть резон и стихи писать. Ну и молодцы же эти последовательные социал-демократы, большевистские ребята!.. Он вышел к жене с таким сияющим лицом, что та, только что видя его сильно не в духе, даже испугалась.
А он был возбужден, ощущал непреодолимое желание стряхнуть с себя весь гнет, под которым жил последнее время. Хотелось что-то говорить, делать, куда-то бежать. Куда? Ну, конечно, к дражайшему Владимиру Дмитриевичу. Конечно, на Херсонскую, 5, квартира 9. Только застать бы дома! Хорошо, что близко.
Дверь открыла красивая полная дама. Скромно, но хорошо одета. Приняв ее за жену Бонч-Бруевича, Придворов представился. А вышедший тут же в переднюю Владимир Дмитриевич обратился к «жене»: «Няня, Вера Михайловна скоро вернется. У нас к этому времени самоварчик поспеет?» Узнав у смущенного гостя, что произошло, он рассмеялся и заметил, что это ничего, бывают ошибки похлестче…
– Ну как? Вы довольны, я вижу? То-то прилетели, а то вас не дозовешься. Сколько раз я вас на чай с лимончиком приглашал?
– Вот я и пришел попить чаю с лимончиком! – весело, хотя несколько сконфуженно, отвечал гость.
Мужчины прошли в кабинет-«пенал».
– У вас есть новые стихи? – с места в карьер спросил Владимир Дмитриевич.
И тут Придворов ощутил стыд: распустился, скис, не писал, думал – не нужно… Но он не выдал себя и, быстро смекнув, чего еще не посылал, прочитал старое. Они принялись обсуждать, что имеет шанс проскочить, советовались, как провести цензуру.
– За вашего «Сынка» и еще кое за что нас штрафанут, разумеется, – предрек хозяин. – Ну да нам не привыкать стать… Вообще-то я, как вы знаете, в поэзии не специалист, – говорил далее Владимир Дмитриевич, – но поскольку имею дело с литературой, должен вам сказать одну вещь: для нас продолжайте писать так же просто и доходчиво, как вы делали это до сих пор. Ведь наши газеты – для рабочих. Надо, чтобы каждое слово было предельно понятным. И помимо всего, вы очень подходите нам как автор и в силу этого вашего свойства. Меня радует, что вы не склонны к модным нынче «вывертам»…
– Ну, этим я никогда не грешил, хотя и писал раньше такое, чем похвалиться не могу…
– Значит, миновали эти этапы, о которых говорит Гейне? Помните? Молодые поэты пишут сперва плохо и просто, потом плохо и сложно и, наконец, просто и хорошо… Кажется, так?
– Еще бы не помнить! Да об этом и у Чехова есть… Но я никогда не испытывал побуждений писать туманно, заковыристо или с какими-нибудь там «литературными бантиками», хотя, – он засмеялся, – мог бы! Ей-же-ей, в два счета берусь сляпать такую «загадочность», что все декаденты бы ахнули. Хотите, для смеха сейчас набросаю вам пародию, которая у них может быть принята всерьез?
Он подсел к столу и закурил, задумавшись. Вскоре пародия была готова.
Именно в тот момент, когда они оба от души смеялись, в кабинет вошла дама.
– Здесь такой хохот, что я решила – собралась туча народу. Почему же, думаю, в передней шуб нету? А вас и правда только двое!
– Знакомьтесь.
Вера Михайловна оказалась маленькой, как птичка, хрупкая, с тонкой талией, беленькими, изящными ручками. «Что можно делать такими пальчиками? – подумал гость. – Разве вышивать?..» Лицо ее было молодо, а на темных, гладко собранных в пучок волосах – изрядный налет седины. Большие светлые глаза смотрели из-за пенсне приветливо и спокойно.
Но он вообще был стеснителен с людьми не своего круга, да и стало досадно, что прервался непринужденный разговор.
По-видимому, Вера Михайловна это почувствовала и вышла.
Владимир Дмитриевич, весело поглядывая из-за поблескивающих очков, твердил свое: «Пишите, пишите. Мы будем печатать!» И Придворов уже не отвечал ему своим скептическим «ой ли?», что Бонч-Бруевич про себя отметил.
– А как же со штрафами? Вы говорите, что за моего «Сынка» придется расплачиваться. Но финансы у газеты ведь…
– Волков бояться – в лес не ходить. Вы знаете, как мы начинали? Для основания издательства «Вперед» послужила единственная золотая десятка теперь уже знакомой вам Веры Михайловны. Это был основной капитал. А в качестве запасного считались часы нашего сотрудника, с которым вам еще предстоит познакомиться, – Михаила Степановича Ольминского. Он предложил в случае чего снести их в ломбард. Вот какое было начало издательства «Вперед»… А ведь поработали недурно, пока нас не прихлопнули. И «Звезду» начинали с копеек, а теперь уже и штрафов не боимся…
«Вот как! – думал в это время Придворов, опять вспоминая о построенном Мельшиным доме. – Они, конечно, правы, собирая крохи для общего дела, вместо того чтобы выручать одиночек из беды своей благотворительностью: это мука на воде…»
К сожалению, больше поговорить о делах не удалось – позвали к чаю.
На столе стоял обязательный, как стало известно позже, винегрет. Отличные пироги («Это у нас няня мастерица»). Гудел самовар. К столу явилось и потомство – дочка Леля, помладше Димы Якубовича, лет этак семь, пожалуй, ей было. Но с девочками разговор у него заводился не так скоро, как с мальчишками.
Снова немного нахохлившись, он пил чай, отдавая должное и пирогам. Вера Михайловна сидела рядом, и он чувствовал себя особенно большим и неуклюжим по соседству с таким миниатюрным существом: грубоват для подобного общества, что и говорить, грубоват. Да тут еще и девчонка.
Смолкнув, он продолжал думать о Косте Яхонтове. Беда не шла из головы. И вдруг краем уха прослышал в разговоре супругов, что Вера Михайловна врач.
Он так опешил, что задал глупый вопрос:
– Нет, серьезно?
Девчонка фыркнула над своим блюдцем с чаем. А Владимир Дмитриевич деловито осведомился:
– Медицинский факультет Цюрихского университета вас устраивает?
Но теперь уже решительно ничто не могло смутить его. Это же как нарочно! И, бросив возню с винегретом, он начал рассказывать о Косте…
– Безнадежно ли положение, если только недавно открылось кровохарканье? И что вообще делать? – закончил он. – Моих фельдшерских познаний тут мало.
– За глаза сказать трудно. Но когда я его посмотрю, решим, – отозвалась она, даже просить не заставила.
– Вот спасибо-то, вот обяжете!.. Я сам, как видите, здоровенный дядя, с этим проклятым туберкулезом дела не имел, да врача ни одного здесь не знаю. Повести Костю к какому-нибудь первому попавшемуся, по вывеске, – так кто его знает, что за тип встретится? Да и Костя стесняется, не пойдет за мои деньги. Тут надо будет как-нибудь сделать, вроде по-дружески, чтобы он не думал о моих расходах…
– Помилуйте, о чем вы говорите? Какие расходы? – удивилась Вера Михайловна.
– Да нет, с какой же стати бесплатно? Я просто прошу вас, чтобы…
Тут он увидел, что супруги обменялись такой улыбкой, от которой он почувствовал себя болван болваном, но не пришел в смущение и на сей раз.
– Оставьте это, – вмешался Владимир Дмитриевич.
– Допустим. Но когда же вы позволите привести его?
– Хоть завтра.
С этого момента гостя Бонч-Бруевичей словно подменили. Он рассказывал, уже адресуясь теперь больше к Вере Михайловне, о фельдшерской работе в Елисаветградском госпитале; живо рисовал типы и нравы военной братии в провинции, пересыпая свой рассказ подходящими случаю анекдотическими историями из медицинской практики. Когда Леля пожелала спокойной ночи, он почувствовал себя еще более свободно: издевательски изобразил госпитального попа, который держал в страхе и больных и здоровых.
– Ну, попов я видывала и более воинствующих, – заметила Вера Михайловна. – Когда мы работали в голодную зиму девяносто второго года, нас объявили «антихристовыми детьми». Уговаривали крестьян не принимать нашу помощь, не ходить в столовые. Даже о библиотеке моей донесли архиерею, как об «антихристовом» деле.
– Это почему же? – спросил он, удивляясь про себя: вот уж никогда не подумал бы, что эта женщина работала на селе.
…Решительно она продолжала изумлять его. Оказалось, что в голодный год Вера Михайловна работала не с кем иным, как Львом Толстым. Именно из-за его отлучения от церкви попы объявили помощников Льва Николаевича «антихристовым племенем».
– А что было, когда к нему приехал Стадлинг! – рассказывала Вера Михайловна. – Это был швед, корреспондент английской газеты. Он ходил в лапландском костюме – мехом наверх – представляете? По-русски не говорит, и еще с фотоаппаратом: хотелось ему поснимать русские типы. Аппарат приняли за «антихристову печать». И пошел слух, что если Стадлинг посмотрит на кого-нибудь пристально и щелкнет своей «печатью» – значит, все. Припечатал. Этих людей надо выселять. Началась просто паника!
Однако теперь печальные курьезы сельской жизни, о каких и сам гость рассказывал только что, уже не интересовали его. В памяти еще была слишком жива прошлая осень: уход Толстого из Ясной Поляны, его болезнь и смерть. Постоянные толпы у Николаевского вокзала в ожидании московских газет. Придворову со своей Пушкинской было туда рукой подать, и он не раз бегал на вокзал спозаранку: в московских газетах печаталось больше сведений о состоянии Толстого.
Волнения умов вокруг его имени еще не улеглись. Со страниц газет не исчезали статьи представителей всех политических лагерей; каждый доказывал правоту своей оценки его как мыслителя и художника, боролся за него. Верно сказал Плеханов, что «О Толстом уже наговорено значительно больше вздора, чем о каком бы то ни было другом писателе». Придворов же давно определил свою точку зрения средь воинствующих лагерей; совершенно разделил позицию Ильина, подытожившего разговор статьей «Толстой и его эпоха», напечатанной в начале этого года в «Звезде».
Сейчас хотелось не спора, не оценки, а живых человеческих слов о тех живых человеческих словах и поступках Толстого, свидетелем которых была Вера Михайловна. Сама она теперь тоже интересовала его, и он засыпал ее вопросами.
– Мы нисколько не чувствовали себя подавленными его величием, – отвечала она. – Наоборот. Он сумел поставить себя так, будто все, что мы говорили, для него очень важно. Умел заставить нас высказываться до конца. Как-то я призналась, что не могу во всем с ним согласиться. А он: «А ну-те, ну-те, это интересно. Что же вы скажете?» Да еще попрекнул: «Я знаю, знаю, вы последовательница Михайловского, Шелгунова, Тимирязева и тому подобных. А Канта вы читали? А Шопенгауэра? Да как же вы не читали таких столпов философии и ума человеческого?..» Любил вызывать на спор.
Новая неожиданность. Вера Михайловна – последовательница народника Михайловского? Это как же так? Даже при близости к Петру Филипповичу и еще при его жизни сам Придворов сочувствовал марксистам, дал определенный крен в их сторону. А тут жена большевика.
– Не забывайте, что мне тогда не исполнилось и двадцати четырех лет. Многие в те годы прошли через увлечение народничеством.
– Как же вы относитесь к вашему «греху молодости» теперь?
– Я никогда не отказывала народовольцам в уважении перед их личными достоинствами и ценила их оппозиционность к царизму.
Придворову было больше чем приятно слышать это во имя памяти Петра Филипповича.
Он продолжал расспрашивать дальше о Толстом, и его воображению живо представлялась картина того, как городская барышня (ручки спрятаны в муфточке) явилась к великому писателю предложить ему свои силы; как недоверчиво ее встретили родные Толстого. Но зато он сам сразу поверил, лишь только услышал в ответ на вопрос, когда она могла бы выехать, то самое «хоть завтра», которое было сказано сейчас. Мудрый старик понимал. Не судил по внешнему виду. Придворов еле удержался, чтобы по дедовской привычке не шлепнуть себя по лбу.
– И вы справлялись?
– Отчего же?..
– Ну, а как с вами мужики?
– Да что ж, те, кто не боялись «антихриста», были очень доброжелательны. Правда, один прямо меня спросил: «Расскажи, кто нас кормит? От кого эти столовые и хлеб и кто вас к нам послал? Скажи сама все откровенно». А я была только рада: мы искали случая объяснить все как есть на самом деле, рассеять нелепые слухи. И вот тогда он мне ответил: «Ходи теперь спокойно промеж нас, не бойся, никто тебя не обидит…»
Вера Михайловна рассказала, как сам Лев Николаевич относился к той помощи голодающим, которую возглавил: он понимал, что филантропия нашивает карманы на гнилой, дырявый кафтан. В те часы, когда он думал об этом, бывал подавлен и расстроен. Но случалось видеть его по-детски веселым.
– А в работе был строг. Бывало, засидимся вечером с ним за разговорами. Интересно же, никто не думает об утре. А он посмеивается: «Идите, идите, отдыхать пора. Я ведь не пожалею – в седьмом часу всех подниму!» И верно. Если мы просыпали, идет затемно по коридору и всем в двери постукивает… Легко стучал, а не встать нельзя, – улыбнулась Вера Михайловна.
Няня давно унесла со стола самовар, убрала посуду. На столе осталась только пепельница.
– Между прочим, – сказала Вера Михайловна, – Лев Николаевич как-то приехал ко мне домой в Москве. Беспокоился, что я не появляюсь после ареста. Он застал у меня много молодежи. Пришли повидаться после тюремной разлуки. Многие были только что выпущены. Он стал расспрашивать нас, как нам «сиделось», а мы были в таком радостном настроении, что представили ему нашу отсидку в самом светлом виде. Он был доволен, поверил нам. А уходя, я к этому и веду, сказал: «Все это хорошо, но зачем вы все так курите, господа?»
Новый знакомец Веры Михайловны покраснел. Было от чего смутиться. Он спохватился, что даже не спросил разрешения курить, и, поспешно гася в пепельнице окурок, повторял:








