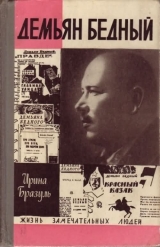
Текст книги "Демьян Бедный"
Автор книги: Ирина Бразуль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Вот посмотрите, каких гостей я к вам веду!
И, не переводя духа, засыпал кинувшегося навстречу Владимира Дмитриевича сообщениями о том, что эти гости не желают ни есть, ни пить, и теперь он посмотрит, каково будет с ними Вере Михайловне, потому что его, Демьяновой, Вере только ручку пожали – и ушли! А сам смотрит на Бонча и доволен, что тот хотя и ждал, а растерялся. «До чего хорошо! Ведь приехал, а?» – спрашивали старого друга смеющиеся глаза Демьяна. Вышедшей тут же Вере Михайловне он в запале предъявил счет:
– Нет, Вера Михайловна, как вам угодно, а по этой причине я без лекарства не уйду… У меня и так живот болит, а теперь нет-с, по такому счастливому случаю – пожалуйте капелек!
Владимир Ильич, пожимая руку Вере Михайловне, осведомляется:
– Это что же за капли такие заведены здесь для умирающего Демьяна Бедного?
…Через день «умирающий» Демьян привез из Питера свежие новости и газеты. В «Правде» были напечатаны его стихи: отклик на выпуск «Займа свободы», с посвящением «Всем, всем социал-оборонцам». Эпиграф: «Бывший царь и его семья выразили желание подписаться на заем»:
I
Как бы, братцы, ни было,
К оборонцам прибыло:
Царь с царицею вдвоем
Подписались на заем.
…
V
А у Солдата Яшки
Ни штанов, ни рубашки:
Одни остались клочья.
Ничем не могу помочь я!
…Демьян зорко следит за выражением лица Ильича.
В каком месте улыбнется?..
Хорошие были дни! Ильич посвежел. Он много плавал в бездонном озере Вамиль-Ярви, вызывая ужас Бонч-Бруевича и удивление дачников, которым было сказано, что гость – балтийский моряк.
Вечерами Демьян пытался обставить «балтийского моряка» в шашки. Вот опять немногочисленные свидетели потешаются, обступив игроков во дворе, где идет сражение. Демьян «злоумышленничает». Пыхтит, кряхтит, делает какие-то невероятно замысловатые ходы. А Владимир Ильич долго не размышляет, только приговаривает: «А баснописец-то наш хитер!» И выигрывает.
Да, отличные были деньки, да скоро кончились.
Третьего июля. Шесть утра. Стук в окно Бонч-Бруевича. Это Макс Савельев. В Питере начались беспорядки…
– Делать нечего, – говорит Бонч-Бруевич. – Придется будить…
Ленин, выслушав Савельева и просмотрев в поезде газеты, заметил, что ничего серьезного в этом пока не видит: очередная вспышка недовольного населения. Результат половинчатой политики Совета и подлости Временного правительства. Гораздо больше его беспокоит новое усиление травли большевиков.
И точно: после трехмесячной легальной жизни и борьбы началась новая полоса, которая привела большевиков к новому подполью, а Ленина к необходимости скрываться под чужим именем.
В первый день Владимир Ильич нисколько не поберегся. Проехав с вокзала к себе, на Широкую, где он жил у Елизаровых, он отправился в особняк Кшесинской. Здесь выступил с балкона, призывая народ к выдержке. И все же, несмотря на то, что демонстрация носила мирный характер, Временное правительство отдало приказ о расстреле. Улицы Петрограда обагрились кровью. А Ленин работал в Таврическом дворце, где на заседании ЦК утверждалось воззвание о прекращении демонстрации.
Уже были попытки поджечь и разгромить редакции «Солдатской» и «Рабочей Правды». Но Ленин все же прямо с заседания ЦК поехал в «Правду».
Здесь все шло как будто обычно. Подписаны полосы. Только вычитал свои стихи «Испуганным лжецам» Демьян Бедный. Ему бы можно уходить. Но, увидев Ильича, он задерживается…
Через некоторое время они уходят вместе. А еще через полчаса налет на редакцию…
Снова арестованы сотрудники во главе с дядей Костей, перевернуты столы, на полу валяются материалы и отпечатанные номера, унесены рукописи, обрезаны телефонные провода. Знакомая картина.
Только на этот раз «работает» не полиция, а юнкера с эсерами. Какие-то типы в штатском торчат в подъезде; выспрашивают у швейцара: как выглядит Ленин? Демьян Бедный? Давно ли ушли? В какую сторону? Это краем уха слышит рабочий Закатов, всего лишь два месяца как начавший ходить в «Правду». Ему все не везло – никак не мог увидеть Владимира Ильича. Он прислушивается и начинает понимать, что все это время видел Ленина чуть ли не ежедневно, но принимал его за издателя…
А травля разворачивалась… В тот же день вышла вечерняя кадетская газета с документами, «позорящими» Ленина. Тут же зубоскальство по поводу того, что большевики собираются составить новый правительственный кабинет, в котором министром труда будет Демьян Бедный. Это кажется кадетским «юмористам» очень смешным. Они не знают, что Демьян Бедный до сих пор заведует рабочим отделом, то есть занят руководством именно в области труда. Их неведение, впрочем, неважно и представляет разве лишь тот интерес, что и в этом случае они попали пальцем в небо. Каковы были административные способности и рабочие качества Демьяна, ясно из того, что несколько позже поэта решили привлечь к работе Совнаркома.
Только чтобы услышать это, надо было прожить еще примерно полгода. А в июле? Уж какой там «покой…»! То, что его всячески поносит печать, Демьяну не только неприятно, но вроде подбадривает. Давно привык. Даже не всегда «оттявкивался». Но снова нет «Правды»? Это хуже. Но душат другие рабочие газеты? Плохо. Но при разгроме типографии на Шпалерной убит старый распространитель «Правды» Воинов? Горько… Но есть ордер на арест Ильича? Это уж совсем тяжело…
Террор, убийства, аресты, обыски…
Являются и в Мустамяки. Выйдя рано утром из дому, Демьян встретил отряд юнкеров. Принял важный вид, закурил сигару. На вопрос: «Как фамилия?» – небрежно предъявил визитную карточку с полным титулом, данным ему Военно-промышленным комитетом.
– А вы не знаете, где тут проживает Демьян Бедный?
Об этом Придворов не имел никакого представления.
Повезло! А дача Стеклова окружена, и он под домашним арестом, пока его не увозят в Питер. А на даче Бонч-Бруевича юнкера, щелкая затворами винтовок, залегли вокруг, окружив дом кольцом: им приказано арестовать «известного шпиона Ленина».
– Храброе воинство! – презрительно бросает им Бонч-Бруевич, который только что приехал сюда с Верой Михайловной: в городской квартире оставаться невозможно. Ленина ищут на Херсонской.
Теперь явились сюда. «В бой» вступает Вера Михайловна. Услышав французскую речь юнкеров, полагающих, что их не понимают, она дает им, помимо всего, отличный пример правильного произношения. Те поражены: «Мадам говорит по-французски?» А «мадам» пушит юнкеров, как школьников:
– Ваши мандаты? Вы забыли, что находитесь не в России, а в Финляндии? Мальчишки! Сейчас составлю протокол, и вы ответите по финским законам!
Но у офицера оказался какой-то мандат, и обыск все-таки производят. Теперь «воюет» уже няня Ульяша.
– Как ты смел лазить в погреб? – кричит она, наступая на юнкера. – Ты там съел что-нибудь… Как же это я не видела, как ты полез, прихлопнула бы тебя там, просидел бы ты у меня во льду, шпионская морда…
Как бы ни были неожиданны, опасны юнкерские операции, дачники не могут удержаться от хохота: против дома, снимаемого Горьким, установили пулемет. «Господи, спаси наши души! – фыркает в сторону Ульяша. – Ну кто же в Нейволе не знает, что Алексей Максимыч уже две недели как сюда не наведывался?»
На другой день пулемет установлен и на Херсонской. Все ищут Ленина. При вторичном обыске на квартире Елизарова его арестовали, приняв за Владимира Ильича.
Тем временем Ленин «благодаря заботливому вниманию, которым меня почтило правительство Керенского», как он писал впоследствии, менял один адрес за другим.
Сутки у Сулимовой, на набережной Карповки. Оказалось опасно. На Выборгскую сторону – к рабочему Каюрову. Тоже рискованно. На той же стороне – к Фофановой. И тут следят. На Пески – к Полетаеву. К Аллилуеву… И наконец, отсюда пешком около восьми верст, через весь город – на Приморский вокзал.
Он переодет, без усов и бороды – как будто неузнаваем. Но, придя на вокзал во втором часу ночи, все же идет не через главный ход, а товарными путями. За несколько минут до отхода поезда спокойно поднимается на подножку… И поезд увозит его в Разлив. Началось последнее большевистское подполье.
В объятом контрреволюцией городе не место и большевистскому поэту. Демьян Бедный не печатается, сидит на даче. Только в августе в московской газете «Социал-демократ» появляется его стихотворение с настолько метким словообразованием, что оно приобретет широкую известность, как кличка, становится нарицательным. Фамилии двух социал-вожаков – Либера и Дана – указаны как название нового «подхалимского танца».
«Либердан!» – «Либердан!»
Счету нет коленцам.
Если стыд кому и дан,
То не отщепенцам!
…
«Либердан!» – «Либердан!»
Рассуждая здраво,
Самый лучший будет план:
Танцевать направо!
Как синоним меньшевистского предательства Ленин использовал демьяновское словцо десятки раз. Оно упомянуто неоднократно в одной лишь статье: «О героях подлога и об ошибках большевиков», и других[7]7
В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 34, стр. 248–255, 409.
[Закрыть].
В этот осенний период в газете «Рабочий и солдат», выходившей вместо «Правды», то и дело попадаются едкие стихи знакомых авторов: «Солдат Яшка – медная пряжка», «Иван Заводской», «Шило». Потом появляется некто «Друг сердечный», а вслед за ним довольно разбитной «Покойник».
А против злобных нападок меньшевистской печати на «Якима Нагого» и других авторов, за которыми скрывался Демьян Бедный, выступает «Мужик Вредный». Он публикует в том же «Рабочем и солдате» идейно-художественное кредо, высказанное, как покажет время, всерьез и надолго:
Пою. Но разве я «пою»?
Мой голос огрубел в бою,
И стих мой… блеску нет в его простом наряде.
Не на сверкающей эстраде
Пред «чистой публикой», восторженно-немой,
И не под скрипок стон чарующе напевный
Я возвышаю голос мой —
Глухой, надтреснутый, насмешливый и гневный.
Наследья тяжкого неся проклятый груз,
Я не служитель муз:
Мой твердый, четкий стих – мой подвиг ежедневный.
Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,
Ты, чьих надежд и дум я – выразитель верный,
Ты, темных чьих углов я – «пес сторожевой»!
Еще через день газета печатает соображения того же «Мужика Вредного» о деле верховного главнокомандующего Корнилова, который в конце августа двинул казачьи войска на Петроград с целью установления военной диктатуры. Авантюра сорвана. Это заставляет Временное правительство лицемерно осудить заговор Корнилова и разыграть комедию подготовки суда. «Мужик Вредный» ни на йоту не верит провозглашениям Керенского и пишет, «сочувствуя» следователю:
Положеньице
Невылазное,
И в башку бредет
Несуразное:
То корнилится,
То мне керится,
Будет вправду ль суд, —
Мне не верится.
Ленин еще не в Питере, но поближе к нему, на окраине Выборга, в поселке Таликалла. Хозяин его квартиры – Юхо Латукка говорит, что Владимир Ильич ожидает утреннего поезда с газетами, как голодный обеда… Вероятно, ему весьма пришлись по вкусу стихи «Мужика Вредного», если через две недели после их публикации Ленин писал, что… «рабочему народу в России «корнилится и керится» вот уже больше полугода»[8]8
В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 34, стр. 306.
[Закрыть].
Однако не слишком ли мало работает поэт в своем дачном изгнании? Весь июль, август, сентябрь он пишет давно задуманную большую повесть и заканчивает ее накануне революции.
За двадцать дней до восстания, 5 октября, в «Рабочем пути» появилась крупная, как говорят газетчики, «шапка»:
Про землю, про волю, про рабочую долю
Не за страх, а за совесть —
Истинная повесть
Демьяна Бедного – Мужика Вредного.
Куда только он не повел за собой читателей, чего только не показал им, чему только не научил!..
Эта серьезная работа охватывала целый исторический этап жизни народа, начиная с объявления войны; обращение к читателям тем не менее сделано весело, завлекательно:
Ой вы, братцы, тетки, дяди,
Я пишу не шутки ради,
Не для смеху, не для слез,
Потолкуемте всерьез:
Где болит? На что мы ропщем?
На совете нашем общем,
Ум прибавивши к уму,
Подберемся кой к чему…
Главным читателям Демьяна – рабочим и мужикам в солдатских шинелях, да и тем, кто бедует в деревне и кто «под сводами заводов» «жизнь фабричную» ведет, следует «подобраться кой к чему»: повесть об их собственных судьбах приведет их прямо к дню двадцать пятого октября 1917 года.
Многие узнают здесь себя в главных героях. Многие узнают строки, которые иногда отрывками шли в «Правде». Вся картина не может не захватить строгой последовательностью широкого полотна. Бедная Маша, что подалась в город, когда ее друга Ваню угнали на фронт, будет воспринята не как обобщенный образ, а как живой портрет. И воспринята тем более сочувственно, что «многих горькая судьба потянула в города».
Еще больше читателей узнают себя в Ване, проходившем воинское обучение на палках; он, «обученный вполне, чрез неделю был в огне».
Ну, а такого исчерпывающего обзора войны читатель Демьяна, может, и не прочитал бы в серьезной статье:
Не вернуть Карпат нам снова,
Не видать нам больше Львова.
Что в чужое взор вперять?
Своего б не растерять.
А потеряно немало.
Наше войско отступало
Из залитых кровью мест.
Сдали Люблин, Холм и Брест, —
Уничтожив переправы,
Отошли из-под Варшавы;
Потеряли Осовец;
Сдали Ковно под конец.
Фронт прорвавши нам под Вильно,
Потрепал нас немец сильно,
Выбивал нас, как мышей,
Из болот и из траншей, —
Искалеченных, недужных,
Тощих, рваных, безоружных,
Виноватых без вины
Гнал до самой до Двины.
От дальнейшего отхода
Нас спасла лишь непогода,
Дождь осенний проливной.
Вот как шли дела с войной!
С предельной ясностью Маша, ставшая работницей, рассказала своему односельчанину Титу, чего от какой партии можно ожидать. И Тит признается: «Прямо диву я давался, слушал, девкой любовался… Ай да Маша, погляди: хоть в сенат ее сади!»
Повесть показала, что творится не только в окопах и селах. Запросто сводил Демьян читателей в царский дворец, дал им заглянуть через плечо царицы, когда та строчила «немцам письмецо»:
«На Руси я все устрою
По берлинскому покрою,
Англичанин и француз
Русский выкусят арбуз.
Англичане сильно гадят:
Конституцию нам ладят,
А французы – бунтари,
Леший всех их побери.
Ни английских конституций,
Ни французских революций
Нам не хочется с царем:
Самодержцами умрем…»
Поэт, казалось, не торопился. Показал улицу, рынок, Государственную думу, побывал на всех свадьбах и похоронах. Спел песню, рассказал басню. Все шло так ладно, ясно и плавно, да вдруг оборвалось.
Кончен, братцы, мой рассказ.
Будет, нет ли, – продолженье?
Как сказать? Идет сраженье.
Не до повести. Спешу.
Жив останусь – допишу.
А погибну? Что ж! Простите.
Хоть могилку навестите.
Там, сложивши три перста,
У соснового креста
Средь высокого бурьяна
Помолитесь за Демьяна.
Жил, грешил, немножко пил,
Смертью грех свой искупил.
Конец будет дописан после… А пока для нового издания пришлось изменить… начало. Четыре строчки подзаголовка об истинной повести были заменены другими:
Демьян Бедный,
Мужик Вредный,
Просит братьев-мужиков
Поддержать большевиков.
Это издание уже печаталось под грифом: «Российская Коммунистическая партия (большевиков)», а на обложке стоял лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Глава VII
НА «ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ»
Постоянный пропуск в Смольный выдан Демьяну Бедному Дзержинским 11 ноября.
Демьян бывал здесь и раньше. В комнате № 18 на первом этаже работала большевистская фракция. Здесь всегда толпились рабочие, посланцы революционных полков.
В первые Октябрьские дни поэта усадили за организационные дела в Совнаркоме. Освободило вмешательство Ленина. По словам Бонч-Бруевича, он сказал так:
– Оставьте его в покое. Если он работал до революции по административной линии, то ведь это его беда. Обстоятельства заставили поступить на службу. А теперь он больше всего будет полезен своим пером. Смотрите, какое прекрасное стихотворение в «Правде»! Демьян Бедный – писатель, поэт, не надо мешать ему в творчестве…
А для того чтобы творчески работать, поэту надо бывать в Смольном. Каждый день. Другой раз – и ночь.
На третьем этаже, в шестьдесят седьмой комнате – Ленин. В семьдесят пятой и шестой – Военно-революционный комитет. Тут же, в стороне, в коридоре нары: пристанище для фронтовых делегатов. И днем и ночью слышны те же слова: «Мир», «Хлеб», «Земля»…
В комнате № 37 – только народившаяся редакция газеты. Ее кто-то предложил назвать «Копейкой». Но еще существовала и вовсю голосила старая, вместе с целым хором антибольшевистских газет, среди которых одна носила колоритное название: «Кузькина мать». Название «Копейка» нельзя было использовать еще и потому, что старую Демьян так разделал, что для создания новой и полушки не оставил.
Приняли предложение Володарского – «Красная газета».
Демьян придумал для новорожденной подарок: в первом же номере постоянный раздел – «Наша колокольня».
Сюда призван «Солдат Яшка – медная пряжка». Здесь воскресает любимый Демьянов дед Софрон. У «Деда Софрона» находится новый «Внук – из Великих Лук». Это поэт Василий Князев.
Все вместе они подняли со своей «колокольни» такой звон, что, когда Демьян входит к Володарскому, тот встречает его:
– Надо что-то предпринять. Нам пишут стихами! Почти все – стихами! Ничего не разберешь.
Присесть к столу редактора и написать несколько строк обращения – дело недолгое: «Всем товарищам, которые пожелают сотрудничать в нашем отделе.
Чтобы писать стихи, нужны и способности, и грамотность, и некоторый опыт. К сожалению, не у всех пишущих стихи есть и то, и другое, и третье… Присылайте не только стихи, но и прозу, рисунки, остроты, заметки, а также сообщения об интересных наблюдениях. Все дельное пойдет в дело».
Оба пробегают текст и решают добавить мягкую просьбу к рабочим: «присылать не стихи, а поделиться мыслями по важнейшим вопросам».
Начало положено. Здесь так же, как и в «Правде», нарождается самобытное движение, которое после станет известно как рабкоровское.

Письма друзей идут вперемежку с хулиганскими выпадами. Угрозами поджечь редакцию. Убить сотрудников. Это не пустые угрозы. Но никто еще не знает, что их жертвой станет душа газеты, ее создатель – Володарский. Он полон жизни. Его статьи огнеметны. Выдумка неистощима.
– Не делать ли нам дополнительно выпуски для армии? Скажем – агитлисток красноармейца? – спрашивает он поэта.
– Отлично. Мы туда – «Солдата Яшку», а «Деда Софрона» оставим на «колокольне».
Демьян работает в «Правде», «Красной», «Рабочем пути», «Деревенской Правде», «Солдатской Правде». Везде! Он всюду поспевает, но досадует: Питер полон профессиональных литераторов, а работать некому. Пришел было один. Тиснул стихи за подписью: «Свой, а не чужой». Псевдоним длинноват, неинтересен, да и стишки неважные. Но ведь свой! А он… струсил и больше не явился. Вот они каковы. Демьян спрашивает у Володарского:
– Окунева мы печатали охотно?
– А в чем дело? Тоже сбежал?
– Зачем? Он просто все это время спокойненько продолжал сотрудничать в своем желтом листке «Эхо»!
– Вон с «Нашей колокольни»!
– Еще бы. Черт с ним! Только всех не сбросишь…
– Есть необходимость еще кого-то скинуть? – осведомляется Володарский. – А отчего вы так мрачны, будто сами собираетесь кидаться? – улыбается он.
Но с Демьяном что-то случилось. Он не подхватывает шутки. Прощается. Надо в «Правду». Именно в ней должны прозвучать стихи о тех, кто колеблется, сомневается, судит. Стихи предназначены не «литературным приказчикам». Не трусливым и наглым приспособленцам. Что о них говорить! Демьян обращается не к тем, что клевещут на большевиков в «Новом луче», «Вечерней звезде», «Дне», «Чертовой перечнице», той же «Кузькиной матери». Для них уже создан Трибунал печати, который рассматривает дела клеветников. Его возглавляет комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Володарский. Демьян немало помогает в этой работе. Но сейчас поэта волнуют совсем другие люди. Их имена всегда были святы. Их колебаний он не может воспринять спокойно. Стихи «Горькая правда» предназначены для них. Молчать он не может. Хоть немного станет легче оттого, что все высказал прямо, в лицо.
Кому? Сам себе не верит Демьян, повторяя имена, поставленные в посвящении. Горький. Короленко. Они осуждают! Никто еще не знает, что Горький после сам честно осудит свои колебания и прямо скажет о том, что «…В 1917 году переоценивал революционное значение интеллигенции и ее «духовную культуру» и недооценил силу воли, смелость большевиков, силу классового сознания передовых рабочих». По-своему изменит отношение к революции и Короленко. Тогда Демьян Бедный снимет их имена в посвящении, где они указаны сейчас. Но сейчас – все в открытую! Он пишет:
В дни рати трудовой святого торжества,
В дни рокового испытанья
Как слышать хочется бодрящие слова
Тех, кем народные питались упованья!
Но слов бодрящих нет, есть злобный суд и брань.
И злая жуть берет от горестного вида,
Что с каждым днем растет, растет меж нами грань,
Что с каждым днем больней обида,
Что со страниц газет – увы! – когда-то дорогих
Былые образы на нас уже не глянут.
Родной народ, любя писателей своих,
Как горько ими ты обманут!
Из «Правды» – на митинг. Демьян читает казакам в цирке Чинизелли свою «Казачью повесть». Потом – на другой, рабочий. Здесь хорошо знают поэта и слушают хорошо. Овации вспыхивают, когда после занятной басенки про советскую репку, что сидит крепко, он переходит к заключению-призыву:
Товарищи, в этот тяжелый час
Кто-нибудь из вас
Неужто белогвардейской сволочи поможет?
– Быть этого не может!
Во время выступлений меньшевистских ораторов зал орет Демьяновы словечки:
– Либерданы! Долой либерданов!
Покидая митинг, Демьян удовлетворенно закуривает очередную папиросу: опять наша взяла!
А теперь пора и на свою «колокольню». Мало «сбросить» с нее кого-то. Мало честно сказать горькую правду тем, кто думает: как звонить? Что звонить? Надо звонить! Чтобы с громким криком помчались по улицам мальчишки: «Красная газета не любит попа и кадета!», «Газета Красная – для буржуев опасная!»
«Красная» печатается на Ямской – та же улица, где когда-то была «Правда»… Типография бывшего меньшевистского «Дня». Ротационка, две наборные, стереотип. Все чин чином. Дело идет нормально. Нормально и то, что в типографии работают за восьмушку хлеба; что в стереотипной, когда прекращается подача тока, матрицы делают, подогревая металл на керосинках. Стереотипная всегда была адом: жаркие печи, отравляющие испарения свинца, клокотание плавящихся остатков металла. Все вручную. Теперь прибавились холод, голод, коптящие керосинки. Но солдаты свинцовой армии не сдают. Тут есть наборщики, знакомые по «Правде». Выпускающий – тоже оттуда. И как они все стараются сделать свою «Красную» понаряднее! Крупные заголовки, тексты, набранные разнообразными шрифтами, все броско, живо… «Вульгарно», – морщатся те интеллигенты, что сейчас не подают руки журналистам, пришедшим к большевикам.
– «Красная» травит интеллигенцию, – заявляет знакомый литератор Демьяну.
– А не наоборот? – щурится он. – Не интеллигенция травит революцию? Не вы ли возмущались, что наша газета орет уличным криком, что в ней не пристало подвизаться профессиональным работникам пера? Вы же бойкотируете нас! Кто лишь вчера говорил в кафе «Петроградского эха» о пришедшем к нам человеке: «Безнадежно нашпигован Володарским»? Ведь с ним отказались поздороваться!
Демьян любит новую газету за весь ее новый, боевой облик, за то, что она пахнет огнем и порохом, что в ней слышен высокий, звенящий металлом голос Володарского. Появляясь здесь между митингами и заседаниями, он говорит тем немногим, что пришли сюда, журналистам:
– Короче. И слова не те. Берите простые, разговорные. Без литературщины.
Он требует действенного, ударного, торопливого языка. Он же указывает выпускающему:
– Рассекайте верстку частыми заголовками. Давайте в них действие. Выделяйте главное. «Правда» родилась как газета для рабочих. Мы – для всех работающих. Это наш сегодняшний читатель! Нас должны читать извозчики!
И это достигается. Тираж растет. Читатель «Красной» ищет ее, хватает из рук. Потому Демьян спешит поспеть на свою «колокольню».
В редакции работают часов с шести. К ночи приедет Володарский. Сядет в свою клетушку. И польются строки передовой… «Не для того свергали мы царя и капиталистов, чтобы подчиняться воле чужих кайзеров и чужих баронов. Мы хотим мира честного и демократического, а не мира похабного…»
В другой клетушке сидит Василий Князев. Демьян любовно смотрит на поэта, потому что ему нынче трижды дороги все искренние, честные авторы. А Князев сам таков и с другими обходится как надо. Старается, выбирает из малограмотной почты все хоть сколько-нибудь годные стихи. Переписывает их наново. И отдает в набор, аккуратно подписав имя, указанное на конверте. То же делает иной раз и Демьян, и не только в «Красной». Публикует в «Правде» стихи, указывая, что взял ритм и столько-то строк из читательского произведения, да ставит имя этого читателя как соавтора рядом со своим. Отсюда и пойдет его позднейшая система обращения с читательскими письмами.
Многое-многое пойдет отсюда, от первых послеоктябрьских месяцев. Но пока они мчатся в тревоге, в холоде, голоде, Демьян пишет, что «рано праздновать победу», «что воздух весь насыщен ядом» и что «свободно мы вздохнем, когда в бою с последним гадом ему мы голову свернем».
Забота о литературе, о читателе – это пока только забота о бойцах за революцию. Это они решат исход дел, обсуждаемых в Брест-Литовске. Это им расплачиваться за то, что в феврале комиссия по мирным переговорам объявляет об окончании перемирия и о том, что «снова начинается состояние войны»…
А потому – снова митинг. Опять митинг. И не всегда только митинг. Случаются встречи… Как их назвать? Большей частью Демьян попадает на них прямо из семьдесят пятой комнаты Смольного. Здесь следственная комиссия по борьбе с анархией, погромами, грабежами, саботажем – контрреволюцией. Таких комиссий несколько. Но в этой делами заворачивает Бонч-Бруевич.
Демьян видит тут пойманных с поличным мастеров подделок советских печатей и подписей – вплоть до ленинских. Видит принципиальных монархистов. Матерых преступников. Испуганных юнкеров. Хозяек ночных притонов. Вовсе нелепых людей – каких-то юродивых, истериков, используемых как «живой динамит» против Советской власти.
…Перечислить всех нет мочи.
Вся их жизнь – от ночи к ночи.
Бомбометы, пулеметы,
Бесшабашные налеты,
Дух тяжелый, хоть и вольный,
И трусливый взгляд на Смольный:
Долго ль нам гулять по свету?
– Бонч тянуть нас стал к ответу…
Здесь изнанка революции, ее «страшное», как говорит Бонч-Бруевич; а Демьян Бедный не праздничный, парадный поэт. Он работник. И ему до всего дело. Откуда и почему прибегают сюда взволнованные солдаты, матросы? Они всегда сообщают нечто чрезвычайное. Иной раз Демьян считает свое присутствие уместным не на митинге, а при чрезвычайных обстоятельствах.
В семьдесят пятую примчался матрос. Не хочет говорить вслух. Отводит Бонч-Бруевича. Шепчет. Сколько Демьян ни настораживает уши – бесполезно! Встревожился и Владимир Дмитриевич. Быстро уходит. Куда? Ясно, к Ленину.
Подождем…
– Товарищи! – вернувшись, обращается начальник семьдесят пятой к двум рабочим комиссарам. – Надо срочно выехать. Машина есть. Адрес: Второй флотский экипаж, за Николаевским мостом. Пьянка. Анархия. Много оружия. Самочинные аресты офицеров.
– Я – с вами, – поднимается Демьян.
Красных балтийцев он знает хорошо. Появились «черные»? Надо познакомиться. Едем!
Их встречает большое полотнище: «Да здравствует анархия!»
– По крайней мере откровенно, – замечает Демьян.
Идут просторным залом. Пробираются меж ящиков с оружием. Шагают по кучам патронов, наваленных на полу. Груды ручных гранат. Связки бикфордова шнура. Револьверы так же навалом. Десятка два пулеметов.
– Вот дьяволы! – сердятся рабочие комиссары. – Мы бережем каждый патрон. Револьверы на строгом учете. А тут…
– М-мда-а… – отвечает Демьян, перемахивая через ящик: тут есть не столько чем «здравствовать», сколько чем это здравствование окончить. – Эх, матросия!
Раздается крик: «Комиссары приехали!» «Матросия» окружает приезжих с нагловатым любопытством. Вооружены до зубов. На ком-то фантастическая одежда: флотская со штатской. Кое-кто пьян. Громкие разговоры. Свист. Полная «непринужденность».
Сейчас важно не потерять ни минуты. Их все-таки «вздернул» приезд комиссаров. Не снизить напряжения, не дать опомниться. Тут есть люди, которые могут выслушать, понять, помочь. Есть и предписание Ленина. Отсюда и начинать.
– Мы – из Смольного. Вот указание председателя Совнаркома. Кто у вас главный?
– Какого председателя? Ленин пишет?
Начинается серьезный разговор. Зал уже переполнен.
– Немедленно доставить самовольно арестованных офицеров!
Некоторое замешательство. Шум.
Перебираются из угла в угол. Толкаются. Говорят еще громко, но при допросе первого офицера становится чуть тише. Допрос идет. Заметно намечается «качание»: одни смеются, другие цыкают. Переломный момент выявляется в неожиданной форме: посланцам Смольного приносят чай, хлеб, соль. «Сдвиг» оценен. Допрос продолжается. И наконец, окончен. Двое освобождены, один будет отправлен в семьдесят пятую комнату.
С трудом вся команда «сдвигается» в нужную сторону. Здесь чувствуется раскол, смута, невежество. «Анархисты» говорят что-то о Кропоткине, но толком не знают, кто он такой. Когда Бонч-Бруевич замечает, будто вскользь, что знаком с ним, это вызывает полную растерянность. Хорошо. Значит, можно начать разговор… Потом надо пройти по всему помещению Второго флотского… Приехав сюда около двенадцати, только к позднему рассвету они заканчивают эту операцию. Вполне мирно.
Уже утро. Демьян снова шагает по наизусть известным колдобинам смольнинского двора. Сейчас он зайдет к Володарскому в сорок девятую комнату, где он принимает уже не в качестве редактора, а комиссара. Разбирается с целой сворой авторов, изрыгающих на Советы клевету. Тут попадаются махровые экземпляры. Просто басенные «звери»! Впрочем, почему «звери»? Александр Блок сказал точнее про тот же «Вечерний час», «Петроградское эхо», «Вечерние огни»: «Всякая вечерняя газетная сволочь теперь взбесилась, ушаты помой выливают…»
А Володарский разбирается. Ну кто у него сегодня там?
Но Демьяна перехватывают еще в коридоре.
– Ты-то нам и нужен. Зайдем сюда. Посмотри – вот плакат – «Коммунар»! Срочно нужна подпись!
Подпись готова через пятнадцать минут. Плакат уходит в типографию. Еще встреча, разговор (а встретиться есть с кем: дядя Костя командует Петроградским военным округом, член Военно-революционного комитета), и уже пора в «Правду».
Потом встречи с балтийцами – на флоте. Другие митинги – где придется. Собирается и пестрая публика. Не всегда слышны одобрительные крики. Сколько враждебного рева! Но большевистские ораторы приезжают не за лаврами. Они ведут бои. И был только один случай, который запомнился Демьяну не как бой и не как дружеская встреча, а как… зрелище.








