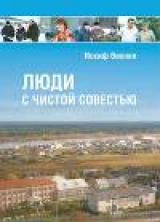
Текст книги "Люди с чистой совестью"
Автор книги: Иосиф Вихнин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
ВРЕМЯ ПОШЛО ВСПЯТЬ
В ОКТЯБРЕ 2002 года американский президент Джордж Буш подписал закон «О демократии в России». Очень содержательный документ. Он фактически подводит итог десятилетнего продвижения реформ в России. Вот некоторые из этих итогов:
«Благодаря осуществляемым под эгидой правительства США программам…, начиная с 1992 года, в России возникло 65 тысяч неправительственных организаций, тысячи независимых средств массовой информации и многочисленные политические партии».
А вот ещё одна цифра: американское правительство организовало визиты и поездки по Штатам примерно 40 тысяч граждан России.
Тут же в законе указано, что «Президент США уполномочен работать совместно с правительством Российской Федерации, Государственной Думой и представителями российской судебной системы с тем, чтобы помочь ввести в действие заново отредактированный Уголовный кодекс и другие правовые документы».
А далее идёт указание, что американское финансирование российских реформ будет продолжено «при сохранении за США соответствующих регулирующих и контролирующих функций».
В общем, не пожалели денег и сил. И отрегулировать помогли. И отредактировать. И через парламент провести. Сначала – Уголовный кодекс. А там и до других кодексов дошло. Шутка ли: тысяча газет, радиостанций и телевизионных каналов продолжают на американские деньги учить россиян, чтобы они правильно понимали демократию. О десятках тысяч неправительственных организаций и говорить не приходится.
Петру Столыпину такая поддержка даже присниться не могла.
А Лев Толстой? Ему разве могло присниться, что в жизнь новой России вернётся многое из того, чему он вынес свой нравственный приговор? Он был убеждён, что «всё это отжило и не может быть восстановлено». Оказалось, очень даже может быть восстановлено.
Толстой считал совершенно очевидным, что депутаты Государственной Думы – это «господа, которые слишком усердно заняты молотьбой пустой соломы, чтобы иметь досуг подумать о том, что действительно важно и нужно. Они слепые, а что хуже всего, – уверенные, что зрячие». Тут ни одного слова не убавить – как будто сказано о нынешнем, «карманном» российском парламенте, депутаты которого послушно приняли новый Лесной кодекс.
Лев Толстой считал, что цари со временем должны исчезнуть, как мамонты, которые могли жить только в допотопное время. И что невозможно управлять страной хуже, чем царское правительство. А в нынешней России умудрились как-то исподволь реанимировать самые одиозные атрибуты самодержавия. Снова на российском гербе утвердился двуглавый хищный орёл с короной. Опять появились департаменты, градоначальники, губернаторы, которые были для Льва Толстого символами тупости и бездушия громадного бюрократического аппарата. Очень тяжело приходилось в этом аппарате людям добросовестным и преданным отчеству. Широко известными в обществе стали слова знаменитого российского юриста Анатолия Кони, вынужденного признать, что само желание быть слугой страны, а не лакеем государя расценивается на высших этажах власти, как свидетельство неполноценности. И это – в лучшем случае. А в худшем – как проявление опасного бунтарства.
По иронии судьбы именно Анатолий Кони должен был стать министром юстиции в правительстве Петра Столыпина. Так в истории бывало не раз, – столкнувшись с большими трудностями, правители России готовы были допустить на верхние ступени власти людей исключительно честных и по-настоящему талантливых. Анатолий Кони решительно отказался от министерского портфеля. Чем вызвал недовольство и всевозможные толки.
Но, в сущности, его отказ можно считать предопределённым. Предопределённым в том числе и его давней дружбой с Толстым. Лев Толстой откровенно не скрывал своей неприязни к чиновникам судебной системы, которую считал неправедной и преступно жестокой. Но Анатолия Кони он уважал и ценил. А потому двери его дома всегда были открыты для судебного деятеля, которого в Зимнем дворце называли красным. Иначе говоря, чуть ли не революционером.
А «красный» Кони вспоминает в своих мемуарах, как, будучи обер-прокурором уголовного кассационного департамента Правительствующего сената, ехал впервые в Ясную Поляну, где жил Лев Толстой. Его и смущала и тревожила встреча с человеком, перед которым он «издавна привык преклоняться». Но преклоняться издали и общаться непосредственно – это совсем не одно и то же. Анатолий Кони боялся разойтись с Толстым во взглядах на российские реалии: «соглашаться безусловно и быть лишь почтительным слушателем мне не хотелось». Но получилось совсем иначе, едва дошло у них до первой большой беседы. Лев Толстой «начал задушевный разговор – и обдал меня сиянием своей душевной силы».
С тех пор обер-прокурор, а затем – сенатор и член Государственного совета Анатолий Кони считал необходимым для себя общаться с Толстым – пусть хотя бы время от времени. Он называл это дезинфекцией души.
И тем более не мог обойтись без такой дезинфекции в годы столыпинских реформ. Он был человеком европейски образованным и вслед за историками и философами французского Просвещения считал, что «миссия истории состоит в собирании плодов с векового опыта и в передаче достижений человечества из поколения в поколение». Но самодержавная Россия на свою беду брала у Запада заведомо плохие «плоды». Да и кто стал бы предлагать хорошие, если сильная Россия не нужна загранице?
После революции это понял даже принятый на Западе идеолог белого движения Иван Ильин, когда разрабатывал основы борьбы за «сильную Россию». По его формуле процветающая Россия всегда будет для Запада костью в горле – независимо от своего государственного устройства.
Неудивительно, что сегодня вся Россия опять говорит о кризисе управляемости. А бесчисленные попытки повысить эффективность властных структур помогают не больше, чем костыль, которым надеются исправить безнадёжную хромоту.
Но какие костыли спасут, если болезнь специально прививали, если Запад на свои деньги «лечил» Россию с заведомым расчётом? Такие «рецепты» для страны подсовывали и таким образом «лечили», чтобы она долго ещё не смогла уверенно встать на ноги.
Вот и американцы с особой настойчивостью внедряют на постсоветском пространстве свой образ жизни. Сто шестьдесят два года назад перенимать этот образ жизни отправился знаменитый английский писатель Чарльз Диккенс. В Соединённые Штаты он плыл в приподнятом настроении: американские свободы и демократию Диккенс собирался противопоставить лицемерию и ханжеству родной британской буржуазии. Американская действительность потрясла его. Лев Толстой был молодым человеком, когда появилась книга Диккенса «Из американских заметок». Возможно, Толстой читал этот отчёт Диккенса об американских «ценностях»:
«Разве пятьдесят газет – не развлечение? И не какие-нибудь пресные, водянистые развлечения, – вам преподносится крепкий, добротный материал: здесь не брезгуют ни клеветой, ни оскорблениями; срывают крыши с частных домов… сводничают и потворствуют развитию порочных вкусов во всех разновидностях и набивают наспех состряпанной ложью самую ненасытную из утроб; поступки каждого общественного деятеля объясняют самыми низкими и гнусными побуждениями… с криком и свистом, под гром рукоплесканий тысяч грязных рук выпускают на подмостки отъявленных мерзавцев и гнуснейших мошенников».
Читаешь и сразу видно, какую хорошую выучку прошли у американцев нынешние российские журналисты. А многие наши газеты и телеканалы даже превзошли своих учителей – настолько успешно способствуют оглуплению и нравственному одичанию россиян.
А вот что наблюдал Диккенс в палате представителей и сенате:
«Я увидел в них колёсики, двигающие самое искажённое подобие честной политической машины, какое когда-либо изготовляли наихудшие инструменты. Подлое мошенничество во время выборов; закулисный подкуп государственных чиновников; трусливые нападки на противников, когда щитами служат грязные газетки, а кинжалами – наёмные перья; постыдное пресмыкательство перед корыстными плутами… поощрение и подстрекательство к развитию всякой дурной склонности в общественном сознании и искусное подавление всех хороших влияний; все эти бесчестные интриги в самой гнусной и бесстыдной форме глядели из каждого уголка переполненного зала».
Чем эта картина отличается от нынешней российской «нормали»? Тут наши политики показали себя вполне достойными своих заокеанских учителей. С ничуть не меньшим прилежанием выполняли задания и по другим «предметам». Свели на нет достижения советской системы здравоохранения. С таким же успехом «реформировали» систему образования. А перед этим разобрались с наукой. При Сталине до начала Великой Отечественной войны в стране было 128 академиков. Сейчас их более 500, но эффект, – если он есть, – настолько мизерный, что его не видно.
Аналогичные результаты в отраслях экономики. Реформаторы послушно закрыли множество угольных шахт. Подрубили под корень российский речной флот. Почти уморили сельское хозяйство. Старательно добивают отечественное машиностроение. Наводнили страну заграничными автомобилями, бытовой техникой и продовольствием…
Словом, постарались убрать кость из горла.
Теперь Запад может спать спокойно.
А СЕЙЧАС решается судьба лесопромышленного комплекса. В пятерке главных стран-экспортёров основных видов лесопродукции России нет. Мы сохранили лидерство лишь в продаже круглых лесоматериалов. То есть продаем больше сырья. А другие страны богатеют, продавая высокотехнологичную продукцию из нашей же древесины. Покупает эту продукцию и Россия.
Соотношение тут такое: единица экспорта древесины приносит России несколько десятков долларов, а единица импорта из нашего же сырья приносит нашим зарубежным партнёрам в десять раз больше.
Эксперты высчитали, что сейчас у России остается всего несколько лет, чтобы либо поднять лесной комплекс, либо окончательно его потерять. С таким выводом легче всего соглашаешься в Гайнах.
В краеведческом музее я долго не мог отойти от стендов со старыми фотографиями. Вот идёт валка леса пермскими бензопилами «Дружба». А вот более старые снимки. На одном бригада молодых женщин-сучкорубов ловко орудует топорами у поваленных деревьев. А на другом снимке лесорубы вручную закатывают бревна в почти что легендарный сегодня лесовозный автомобиль ЗиС-5. А вот уже более близкое нам время – шестидесятые годы прошлого столетия: идёт погрузка леса специальными лебедками в автомашину КрАЗ…
Говорят, скоро на этих музейных стендах появятся фотографии суперсовременной канадской техники, которая работает сейчас на местных делянках. И кто-то из пытливых посетителей музея, может быть, поинтересуется цифрами. То-то будет для него открытие: работая на технике ушедшего столетия, лесорубы Гайнского края давали стране во много раз больше древесины, чем нынче на современной заграничной технике.
Словно время в России пошло вспять.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ЛЮДИ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
Честность – это истинный аристократизм нашего времени.
Жозеф Ренан.Жизнь Иисуса Христа
• Илья Репин, Лев Толстой и братья Ипатовы
• На чём Россия держится
ИЛЬЯ РЕПИН, ЛЕВ ТОЛСТОЙ И БРАТЬЯ ИПАТОВЫ
У НИХ нет крыльев за спиной. Они далеко не ангелы. Такое признание услышал я от одного из них. И это мне тоже нравится в этих людях: ими движет здравый житейский смысл. А что до ангельских крыльев, то с ними вряд ли втиснешься в кабину валочно-пакетирующей машины, в которой работает Александр Ипатов.
Видел я, как он управляется со своей машиной. Тот мартовский день выдался ветреным. И морозец щипал. Пока добрались до делянки, где работал Ипатов, я порядочно продрог. А потом засмотрелся, как он валит лес, и на время забыл о холоде. Да и погоняться пришлось за его гусеничным трактором – не хуже иного скорохода перемещается он по зимнему лесу. Разве что ритм «дыхания» у этого гигантского железного скорохода постоянно меняется: только что дизель ровно рокотал и вдруг взревёл на высоких оборотах. И снова спокойный рокот.
А вот машина подходит к высоченной ели. Ещё на ходу стал «прицеливаться» к дереву манипулятор с «клешнями» захватывающих устройств. И едва гусеницы остановились у ели, одна «клешня» моментально обхватила дерево у самого комля, другая – немного повыше. Громадное дерево заметно вздрогнуло – это манипулятор всей своей мощью тянет его вверх, чтобы обеспечить надежную работу пилы, которая сейчас стремительно перерезает ель. Считанные секунды, и вот спиленная ель уже повисает в воздухе, жестко схваченная манипулятором. Такое впечатление, будто машина вертикально держит не тридцатиметровое дерево, а всего лишь легкую спичку. Поворот стрелы – и машина двинулась со своей ношей к пачке спиленных деревьев.
Смотрю на часы: двадцать семь секунд хватило Александру Ипатову, чтобы спилить дерево и аккуратно положить его в пачку. Ни одного лишнего движения не сделала валочная машина. Словно они слились воедино: многотонная железная громада с множеством сложных узлов и механизмов, и человек, который, вроде бы, одним только мановением рук управляет этим хитросплетением агрегатов.
На нас он вроде бы и не смотрит. Но мастер леса Александр Мокрушин уверен, что оператор Ипатов постоянно держит нас в поле зрения: сама технология этой работы требует зорко видеть всё, что происходит вокруг валочной машины. И точно: Ипатов подает нам рукой знак – показывает, куда мы должны отойти. Понятно. Мы находимся достаточно далеко от работающей машины. Но Ипатов сейчас собирается свалить сухостойное дерево. Сильно высохший ствол может не выдержать собственного веса или мощных захватов манипулятора. Тогда обломки дерева полетят с высоты – могут и нас достать. Жаль, но приходится отойти дальше…
Вчера я так и не смог толком переговорить с Александром Ипатовым. Он вообще неохотно отрывается от работы. Помню, мы долго дожидались, когда у Ипатова появится пара-другая минут для перекура. Я, спасаясь от ветра и мороза, поднял воротник куртки. У мастера Мокрушина под тёплой суконной спецовкой – толстый шерстяной свитер, закрывающий шею до самого подбородка. А Ипатову хоть бы хны – спецовка распахнута на груди, вязаную шапку сдвинул почти что на затылок. Показываешь ему знаками – заглуши, мол, трактор – перекурить пора. А он только руками разводит – некогда, дескать.
В ЭТИ дни ему действительно было некогда перекурить лишний раз. И не только ему. Обычно зима – самое жаркое для лесозаготовителей время. Потому что весной на лесных дорогах начинается распутица. Вывозку древесины приходится надолго останавливать. А лесопильный цех и другие производственные участки Кыновского леспромхоза должны работать круглый год. Значит, выход один. Пока дороги скованы морозом и техника может пройти в лес, надо заготовить как можно больше древесины и всю вывезти на склады. Чтобы потом все цехи могли спокойно перерабатывать древесину до следующей зимы.
Вот они и стараются. По норме Александр Ипатов должен выдать за день сто пятьдесят восемь кубометров древесины. А он выдавал в эти дни и по триста, и по четыреста кубометров. Когда я был у него на делянке, Ипатов опять намного перекрывал свою норму. Почему бы ему по такому поводу не дать себе отдохнуть ненадолго? Вон в кабине у него термос с крепким чаем, а он с самого утра ни разу, кажется, не глотнул горячего.
– Нет, – улыбается его брат Вячеслав, – мы ему до самого обеда не дадим передохнуть.
Вячеслав Ипатов тоже работает на тракторе. Только у него не валочная машина, а трелёвочная – он доставляет срубленные деревья к сучкорезной машине, а потом перетаскивает хлысты в большой штабель, откуда их грузят на лесовозы. Сейчас на этой делянке работает четыре трелёвочных трактора. А валочных машин всего две. Это означает, что его младший брат Александр обеспечивает сегодня работу сразу двух трелёвочников – успевай только лес валить.
Что же получается? Младший брат чуть не вдвое перевыполняет сегодня дневную норму, а они ему не позволяют отдохнуть? Ипатов-старший смеётся:
– Это не мы. Это его совесть неволит.
Да, такой у него брат. Он на славу поработал, и никто ему слова не скажет, надумай Александр заглушить свою машину минут на десять-пятнадцать. Но он привык думать не только о себе. Он помнит, что от его сегодняшней работы зависит благополучие перерабатывающих цехов в летние месяцы.
Правда, сам он, видимо, уйдёт скоро в продолжительный отпуск – слишком часто выходил на смену по выходным дням и накопил немало отгулов. Возможно, другой на его месте не стал бы во время отпуска переживать за дела предприятия. А Ипатов будет. И если летом, не дай бог, начнутся перебои из-за нехватки древесины на складах, то его, пожалуй, совесть начнёт мучить. Так думает его старший брат Вячеслав. А ему виднее: он и сам такой же.
Вчера днём я наблюдал, как рабочие один за другим потянулись с делянки к вагончику передвижной столовой, где хозяйничает повар Надежда Доронина. Мастер Александр Мокрушин глянул на часы:
– Точно. Время обедать.
Надежда Доронина уже готовила чашки для горячего супа. А Вячеслав Ипатов всё не мог оторваться от своего трактора. Ходил вокруг. Что-то высматривал в одном узле. В другом. Начал протирать ветошью какие-то детали. Потом принёс большой «шприц» с литолом, принялся что-то смазывать…
Я решил поинтересоваться: он разве не собирается обедать? Собирается, но пока что задерживается. А почему задерживается? Что-то стряслось? Трактор неисправен? Ипатов-старший с удовольствием похлопал ладонью по дверце кабины:
– Исправен. Хорошо работает Алташик.
Так он называет свою машину, собранную на Алтайском заводе. А его брат Александр свою валочно-пакетирующую машину называет Маней. Машина – значит Маша, уменьшительное – Маня.
Здесь, в лесу рядом с механизаторами постоянно работают слесари-ремонтники. Не ждут, когда техника сломается – стараются упредить неисправность. Появилась у оператора свободная минутка – они принимаются за осмотр узлов. А случись поломка машины – они всей бригадой спешат на помощь. Александр Ипатов тут же с ними за инструменты берётся. Иной раз ремонтники обижаются, говорят ему:
– Иди, мы сами всё сделаем. Или нам не доверяешь?
Ипатов пожимает плечами: он им, конечно, доверяет. Но ему как-то спокойнее, когда он сам контролирует ремонт. Своими руками устранит неисправность. Сам прошприцует смазкой все узлы. Неудивительно, что его Маня до сих пор в хорошем состоянии. А я не сказал ещё: Ипатов работает на технике советского производства – эту самую машину ЛП-19 Александру доверили почти двадцать лет назад.
И Вячеслав Ипатов долго работал на своём тракторе. А где-то с год назад передал его сменщику, когда ему доверили новенький бесчокерный трелёвочник Алтайского завода. Так что его Алташик сильно выделяется среди других тракторов и автомобилей своим почти нарядным видом. Ведь за последние несколько лет Кыновской леспромхоз смог купить лишь несколько новых машин. А всего в леспромхозе сейчас около сотни автомобилей и тракторов, и, если судить по нормативам, то немалая часть этой техники давным-давно перешагнула пенсионный возраст. И всё же эти «пенсионеры» работают и дают за день по две нормы. Если не больше.
Я РАЗМЫШЛЯЛ над этим, наблюдая, как Вячеслав Ипатов ходит вокруг своего нового трактора. Пожалуй, эта картина заинтересовала бы великого русского художника Илью Репина. Ипатов холит свой новый трактор, будто это чистокровный скакун, за которого заплатили громадные деньги.
– Для нас это деньги действительно громадные, – сказала мне главный бухгалтер леспромхоза Елена Иванова. – Ведь в России сейчас дикий диспаритет цен.
Именно дикий. До начала нынешних реформ на один кубометр пиломатериалов леспромхоз мог купить примерно две с половиной тонны дизельного топлива. А сейчас, чтобы приобрести одну тонну горючего, надо напилить несколько кубометров досок, поскольку цены на энергоносители росли в двадцать с лишним раз быстрее, чем на лесопродукцию. А стоимость новой техники росла ещё стремительнее.
Не зря, значит, новый трактор дали одному из братьев Ипатовых: их работу и отношение к технике главный бухгалтер Иванова расценивает как настоящий героизм.
Но у них в леспромхозе этот героизм носит массовый характер. И я совсем не случайно припомнил художника Илью Репина. Он объяснял Льву Толстому, почему так пристально всматривается в людские лица. В душе русского человека Репин видел особый героизм – порой неброский внешне, иногда – неказистый, и чаще всего – глубоко скрытый под спудом личности. И Лев Толстой с ним согласился. Он тоже объяснял этот героизм глубокой страстью русской души. Пусть даже никто не оценит по-настоящему повседневного подвига русского человека, но это – величайшая сила жизни. Именно эта сила, считал Лев Толстой, спасает Россию, управляемую министрами, которые в нравственном отношении находятся гораздо ниже простого народа…
Я был в Кыну в те самые дни, когда в пермских коридорах власти постоянно говорили об экономическом кризисе. Это было вроде московского эха: первые лица государства по всем каналам рассказывали о том, как они умно и самоотверженно борются с глобальным кризисом. Очень часто публичные заявления из Москвы противоречили друг другу. Один вице-премьер федерального правительства обрадовал россиян своим новым прогнозом, по которому спад в реальном секторе экономики вот-вот пойдёт на убыль. Другой вице-премьер тут же предупредил, что россиянам надо потуже затянуть пояса, поскольку нынешние трудности – это лишь первая волна кризиса. А потом выступил министр финансов. Смысл его успокоений сводился к заявлению, что деньги в бюджете были и будут. Правда, в данный момент их нет, и пусть на них никто не рассчитывает…
Я ожидал, что лесозаготовители тоже подхватят эти разговоры и начнут на свой лад рассуждать, каким именно образом нужно выбираться из очередного провала российской экономики. Ничего подобного. Я не услышал от них ни одного слова о кризисе.
Помню, утром мы ехали в лес, и на узкой дороге надо было загодя уступить дорогу встречному грузовику. Наш водитель его узнал издали: этот автомобиль службы механика доставлял в лес запчасти для ремонта техники. А через несколько минут нам навстречу прошла тракторная тележка, приспособленная под кран-балку. Всезнающий водитель тут же рассказал, как решили для ускорения работы отремонтировать тракторный двигатель прямо в лесу. И одобрительно отозвался: молодцы ремонтники – быстро управились. Теперь темпы вывозки древесины не упадут, как он опасался.
А добрались до делянки, и водитель сразу обратил внимание на трактор Яна Шевырина – этот челюстной погрузчик был готов к работе. А ведь вчера к вечеру случилась хотя и небольшая, но поломка – он видел, как рядом с трактором Яна остановился автомобиль передвижной ремонтно-механической мастерской. И как потом Ян вместе со сварщиком занялись ремонтом. Наверняка Ян вчера после смены задержался у своего трактора. Поэтому и справились с ремонтом быстро – это была хорошая новость.
А вскоре мастер леса Александр Мокрушин поделился другой новостью: Ян Шевырин успел загрузить хлыстами лесовоз за каких-нибудь десять минут – поистине виртуозно работал.
Потом подоспела ещё одна хорошая новость: Эдуард Кишмерёшкин, работавший на своей валочно-пакетирующей машине неподалёку от Александра Ипатова, тоже намного перекрывает дневную норму. И темпы трелёвки сегодня тоже выше, чем вчера…
После обеда инженер производственного отдела Александр Новиков повёл меня на нижний склад Кыновского лесопункта. Линия разделки хлыстов работала бесперебойно. Лесопильный цех – тоже. Дошли до станков фрезерно-брусовальной линии – услышали веселый женский смех. Бригадир станочников Александр Лисин тоже услышал и заглянул на минуту – поинтересовался, по какому поводу веселье. Женщины не смутились:
– Работа идёт хорошо, вот и радуемся.
Вышли на железнодорожные пути – увидели вагоны с продукцией леспромхоза – добрый десяток их был уже готов к отправке. В отделе сбыта подтвердили: в течение месяца с подъездных путей предприятия уходит приблизительно двести восемьдесят – двести девяносто вагонов с различной продукцией. В Башкирию и Ханты-Мансийский автономный округ отгружают фанерный кряж. В Екатеринбург и Астрахань – пиломатериалы. Значительная часть пиломатериалов уходит на экспорт в Финляндию, Иран, Ливан, Венгрию. Договорные обязательства выполняются леспромхозом в полном объеме и точно в срок…
Поразительно. Можно подумать, что в Пермском крае не бушует тяжелейший экономический спад. Или посёлок Кын оказался каким-то образом в аномальной зоне, которую кризис обошёл стороной? Я, возможно, сделал бы такое предположение. Если бы не успел поговорить с генеральным директором леспромхоза Петром Штейниковым.
Рано утром он успел, как обычно, изучить сводку о выпуске продукции. Всё, кажется, было в порядке. Предельно напряжённый график заготовки и вывозки древесины также выполняли. Однако, называя цифры, директор хмурился.
Почему?








