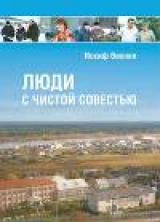
Текст книги "Люди с чистой совестью"
Автор книги: Иосиф Вихнин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
АБСУРД КАК ФАКТОР ЭКОНОМИКИ
ТАК, видимо, устроен человек – чем он талантливее, тем сильнее в нём чувство нравственного долга.
Вот и Мелехин, когда врачует лес или ухаживает за посадками кедра, вовсе не рассчитывает много заработать на этом. Тот же кедр растёт очень долго и служить должен уже совсем другому поколению россиян. Это специфика работы лесников: они заботятся о благе будущих поколений. Только за последние десять лет площадь зелёных насаждений в Верещагинском лесхозе выросла на полторы тысячи гектаров. Из них восемьдесят процентов составляют ценные хвойные породы…
Но ведь не хочу же я сказать, что для лесника Мелехина деньги не важны? Нет, они для него – вещь важная. Очень даже важная. Но тут надо правильно акценты расставить. Хороший лесник потому и дорожит своим делом и держится за него, что помнит о высокой значимости и благородстве своей профессии. И высаживает новые деревья не ради большого заработка. Как раз наоборот. Он готов сам зарабатывать для лесхоза деньги, чтобы иметь возможность заниматься своим благородным делом.
Выполняя в прошлом году работы государственного заказа, они прекрасно понимали, что правительство региона опять с ними не расплатится. И не дожидались, пока из казны дойдут до них обещанные деньги. В результате такое получилось соотношение: государство им заплатило за ведение лесного хозяйства один миллион рублей, а сами работники лесхоза заработали тридцать миллионов.
Показывал мне директор Мальцев производственную базу лесхоза в деревне Каменка. Особо впечатляет цех по переработке древесины. Когда-то здесь было совхозное овощехранилище. Лесхоз выкупил его у разорённого реформами совхоза. Что сумели – перестроили, поставили станки, наладили переработку древесины, получаемой от рубок ухода. Заработали на этом деньги – быстро провели реконструкцию цеха, наладили надежную вентиляцию, запустили многопрофильный станок для выпуска продукции высокого качества… Опять получили прибыль – построили новый арочный цех, установили первую технологическую линию для производства бревенчатых срубов. Начали добавлять к первой линии станки для выпуска пиломатериалов для этих срубов. Теперь осталось создать цех для сборки оконных блоков и дверей. И можно будет производить комплекты усадебных домов…
У директора Мальцева на этот счет своя арифметика: если кубометр полученной от рубок ухода древесины даст лесхозу хотя бы рубль дохода, то произведенные из этой же древесины пиломатериалы принесут дохода вдвое больше. А «пропустить» этот же кубометр через домостроение будет прибыльнее уже в три-четыре раза.
И региону прямая выгода: деревянный дом предпочтителен не только в экологическом отношении, но и по цене намного дешевле. Добавьте к этому новые рабочие места для жителей деревни, потерявших, было, надежду на будущее. Добавьте расширение налогооблагаемой базы…
Словом, Мальцев рассудил, что в пермском правительстве работникам лесхоза большое спасибо за эту инициативу скажут и охотно выделят дополнительные делянки. Ведь в лесах Пермского края сейчас ежегодно «созревает» приблизительно 20 миллионов кубометров древесины. И надо снимать с зеленой нивы этот урожай. А вырубили в прошлом году втрое меньше. Значит, миллионы кубометров древесины пропадают и превращаются в труху. Хотя должны работать на экономику и на бюджеты всех уровней. Хороший хозяин сам бы пришел в лесхоз и цену на дополнительную древесину скинул бы. Лишь бы не пропадало зеленое золото. Но в агентстве по природопользованию Пермского края думают иначе. Хотите дополнительные делянки? Вот вам приглашение на аукцион. А стартовую цену на древесину заломили такую, что Мальцев посчитал-посчитал и понял: не получится теперь купить новые линии для домостроения.
А подошло время распределять государственный заказ на ведение лесного хозяйства в нынешнем году, и в агентстве решили и тут планку резко поднять. Есть ведь в регионе предприниматели, которые любой ценой хотели бы получить доступ к лесным ресурсам. Так пусть они поборются с лесхозом за государственный заказ. Стали бороться. В итоге Верещагинский лесхоз получил госзаказ на… На каких, думаете, условиях? Теперь государство уже ничего не должно платить за ведение лесного хозяйства. Наоборот: лесхоз ещё обязан приплатить четыреста тысяч рублей за то, что будет ухаживать за государственными сельскими лесами.
Директор лесхоза Мальцев расценил подобные условия как полный абсурд. Но с ходу отказаться от этих условий не смог. Ведь отказ означал бы, что Мелехин и все остальные работники лесхоза останутся без дела. А с другой стороны рентабельность производства и до этого была в лесхозе мизерной. Так что новое абсурдное обременение они могут уже просто не потянуть. И Мальцев, в который уже раз, начинает заново строить прогнозы на будущее, а полной ясности до сих пор нет.
Зато в агентстве по природопользованию весьма довольны. Руководитель агентства Алексей Каменев поделился со страниц пермской прессы ещё одной своей новацией: в управлении лесными ресурсами надо смелее использовать опыт нефтедобывающих стран. Что делают в международной организации экспортеров нефти, если вдруг упала цена на чёрное золото? Правильно: ограничивают добычу нефти, чтобы поднять спрос. А иначе больших денег не заработать.
Вот и мне один из правительственных чиновников популярно объяснил, что нет сегодня другого способа выбраться из тяжелого кризиса. А, прощаясь, спросил:
– Ну что? Убедил я вас?
Да разве речь обо мне? Вы попробуйте лесникам доказать, что это великое благо для экономики, когда зеленое золото Прикамья либо отдают браконьерам, либо превращают в труху.
Вы попробуйте переубедить директора государственного лесничества Николая Мешкова, уверенного, что есть только один верный способ выйти из кризиса – это не мешать людям вроде Мелехина и Мальцева.
А работать они сами вас научат.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЧТО СКАЗАЛ БЫ ГРАФ ВИТТЕ НАШИМ МИНИСТРАМ
На свете есть множество людей, воображающих, что они наделены талантом править единственно по той причине, что они находятся у кормила власти.
Наполеон Бонапарт.Императорские максимы
• Зелёное золото и чёрный крест
• Двоечники его превосходительства
ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО И ЧЁРНЫЙ КРЕСТ
НАСТОЯЩАЯ слава долговечна. Сколько их уже было на нашей памяти – великих деятелей, которые не уставали рассказывать народу о своих грандиозных помыслах и делах. Но стоило такому начальнику лишиться высокого чина, как вся значимость персоны улетучивалась словно дым. Будто и не было человека.
А подлинная слава похожа на благородный сплав, который с годами не теряет своей высокой пробы. Разве что начинает с возрастом серебриться. И от этого ценится еще дороже – независимо от должности, которую человек занимал или занимает.
В прошлом году в райцентре Оса отмечали семидесятилетие Бориса Ренёва. В числе других пришли с поздравлениями и бывшие его сослуживцы по Осинскому леспромхозу объединения «Камлесосплав». Кто-то из них тут же припомнил, какой производственной громадой командовал некогда директор Ренёв: тысячу семьсот рабочих и служащих насчитывал леспромхоз.
Ничего себе, удивился один из молодых. Это же раз в двадцать больше персонала сельского государственного лесхоза, которым руководит сейчас Ренёв. То есть его «генеральский» чин стал намного меньше? А ореол известности? Неужто не потускнел? Представьте себе, не потускнел.
А вот некоторые другие начальники за последние годы в глазах местного населения сильно помельчали. Особенно представители власти. Ведь хотят они этого или нет, а люди сравнивают их с Ренёвым.
Взять, к примеру, старожилов посёлка Лесной. Как им не сравнивать свою былую жизнь с теперешней, если весь посёлок страшно обветшал за последние два десятилетия? Попробуй тут не вспомнить время, когда Лесной был одним из шести рабочих посёлков Осинского леспромхоза. Попробуй не вспомнить, с какой настойчивостью Ренёв развивал социальную сферу в каждом из них.
В том же Лесном постоянно вели капитальный ремонт жилья. И каждый год строили новые двухквартирные дома. По всем улицам проложили водопровод. Построили продовольственный и промтоварный магазины, пекарню, столовую, детский сад, дом культуры… Подключили все социальные объекты к новой поселковой котельной. Пристроили к школе спортивный зал. Запустили в эксплуатацию новую линию электропередач и систему уличного освещения…
Понятно, что, поздравляя Бориса Ренёва с семидесятилетием, бывшие его сослуживцы по леспромхозу вспоминали ту жизнь. Вспоминали разное. Поскольку люди собрались самые разные. Из разных мест. А впечатление было такое, будто они сговорились. Потому что одна фраза постоянно звучала у них рефреном:
– Тогда было интересно жить.
А теперь в Лесном никто не говорит, что тут интересно жить. Собственно, Лесной давно уже не живёт – разве что доживает. Влачит жалкое и унизительное существование, как и другие посёлки. Жилые дома выглядят развалюхами. Давно нет ни детсада, ни школы, ни столовой. Старый дом культуры стал захудалым клубом, и он тоже угасает на глазах. Да и какая может быть тут жизнь, если в ходе реформ закрыли леспромхоз, содержавший значительную часть социальной сферы Осинского района.
А ведь какая, казалось бы, малость – закрыли в районе лесопромышленное предприятие. Закрыли леспромхоз, который можно считать олицетворением советской экономики. Экономики совершенно неэффективной, как до сих пор ещё пытаются уверять реформаторы.
Вместо одного этого леспромхоза возникли десятки малых частных предприятий, как и обещали идеологи реформ. Частных предприятий теперь великое множество. А где же тогда экономика, если и в правительстве Пермского края, и в стенах администрации Осинского района постоянно слышишь, что в бюджете не хватает денег? Не хватает не то что на развитие социальной сферы, но даже на аварийное латание прорех.
Рассказывают, что на одном из заседаний российского правительства тогдашний премьер Виктор Зубков обронил сакраментальную фразу:
– Какая экономика, такая и жизнь…
Нынешняя экономика поставила большой чёрный крест на будущем Лесного. По поводу этого креста демографы давно бьют тревогу. Именно так назвали они нынешнее демографическое состояние России: «Русский крест». Об этом говорили в Москве и участники национального форума «Настоящее и будущее народонаселения России». Ситуация складывается катастрофическая: с началом реформ впервые в российской истории пересеклись на диаграмме эти две линии – линии рождаемости и смертности населения. Пересеклись в виде креста. И с тех пор линия рождаемости россиян неуклонно сползает вниз, а линия смертности идет вверх. И этот крест ежегодно сокращает население России на 900 тысяч человек. Не ушел от этой беды и Пермский край: по сути, ежегодно с карты Прикамья исчезает целый сельскохозяйственный район вроде Осинского.
ТЯЖЕЛЫЙ крест лесных посёлков директор сельского лесхоза Борис Ренёв воспринимает как личную трагедию. Так уж повелось на Руси: больше всего душа болит вовсе не у тех, кто виноват. Надо к этому добавить, что Ренёв ушёл из леспромхоза лет за десять до его закрытия. Потому, собственно, и ушёл, что думал о судьбе лесных посёлков. Многим это было тогда непонятно: директор Ренёв находился в зените славы, леспромхоз постоянно улучшал свои экономические показатели, хорошели посёлки, профессия лесозаготовителя оставалась престижной и уважаемой.
И было за что уважать осинских лесозаготовителей: объемы рубки древесины достигли в то время трехсот тысяч кубометров в год. Вот это и вызывало внутренний протест директора Ренёва: леспромхоз из года в год снимал с зеленой нивы намного больше древесины, чем успевало прирасти. Это означало, что при таких перерубах местная тайга со временем оскудеет. И придется перебазировать леспромхоз в другой район. А лет этак через двадцать пять-тридцать в осинском крае опять появятся приспевающие леса. Прикажете снова возвращать сюда леспромхоз? Чтобы начинать всё сначала? Заново отстраивать посёлки, прокладывать лесовозные дороги, создавать инфраструктуру. А главное – привозить сюда новых людей, обучать их профессиям, формировать коллектив: и опять для временной работы в лесу. Разве не выгоднее перевести лесозаготовительную отрасль в формат постоянно действующих лесокомбинатов с циклом работ, включающим и лесовоспроизводство, и рубку выращенного леса, и переработку древесины? Тогда не придётся время от времени обрекать людей на кочевую жизнь. Можно будет создавать посёлки-города с самым высоким уровнем современного комфорта. Чтобы вечно использовать на этой земле постоянно возобновляемые лесные ресурсы. Это не нефть, которой скоро не останется в природных кладовых…
В Прикамье так думали многие. Идею постоянно действующих лесопромышленных предприятий активно продвигал Евгений Курбаш, главный инженер Всесоюзного производственного объединения «Пермлеспром», куда входил и Осинский леспромхоз.
Тогдашний «Пермлеспром» был одним из самых крупных в стране объединений. В его составе работало четыре с половиной десятка леспромхозов и сплавных рейдов. И действовало проектно-конструкторское и технологическое бюро, которое по уровню разработок фактически не уступало известным в стране специализированным институтам. Входили в это объединение и крупные перерабатывающие предприятия, включая домостроительные комбинаты в Перми, в Добрянке, в Чусовом. Добавьте сюда два мощных строительных треста: «Пермлесстрой» и «Комипермлесстрой». Которые ежегодно вводили в лесных посёлках и городах десятки жилых домов, школ, детских садов, леспромхозовских поликлиник и других объектов социальной сферы. И повсеместно вели строительство дорог. Добавьте к этому мощное специализированное управление рабочего снабжения «Пермлесурс», с его широко разветвлённой сетью магазинов и столовых…
Всего на предприятиях «Пермлеспрома» трудилось около ста тысяч человек. А если считать с членами семей, то от работы лесных отраслей Прикамья зависело в целом примерно восемьсот тысяч человек.
В Пермской области в то время вырубали ежегодно около двадцати миллионов кубометров древесины. Из них на долю предприятий «Пермлеспрома» приходилось пятнадцать миллионов. А чтобы войти в расчетную лесосеку и сделать леспромхозы постоянно действующими предприятиями, им надо было рубить на два миллиона меньше. Главный инженер Всесоюзного объединения Евгений Курбаш считал это делом принципа.
И когда его решили назначить начальником объединения «Пермлеспром», он от повышения отказался. Его уговаривали руководители Пермской области. Его убеждал министр лесной промышленности СССР. В конце концов, Курбаша пригласил для беседы заместитель председателя Совета Министров СССР. Оказалось, заместитель председателя союзного правительства тоже был сторонником идеи неистощительного лесопользования. И пообещал Евгению Курбашу, что поможет реализовать эту идею в Прикамье.
Так Курбаш стал начальником «Пермлеспрома». А вскоре перешёл на другую работу министр лесной промышленности. Получил новое назначение и заместитель председателя правительства. А народное хозяйство страны требовало всё больше древесины. Требовали горняки. Требовали мебельщики. Производители бумаги. Строители…
Ведь в те времена в одном только городе Перми ежегодно сдавали в эксплуатацию шестьсот тысяч квадратных метров нового жилья. А в целом по области вводили миллионы квадратных метров жилой площади и год от года эти объёмы увеличивали. Так происходило по всей стране.
Понятно, что от лесозаготовителей всё настойчивее требовали дополнительной древесины. Можно было увеличить объемы лесозаготовок в Сибири, но возникли сложности с транспортировкой этой древесины в бассейн Волги и в центр страны. В этой ситуации Прикамью, можно сказать, не повезло: сплавные возможности реки Камы позволяли сравнительно легко обеспечить транспортировку дополнительной древесины в другие регионы. Это сыграло решающую роль. В правительстве страны решили идею постоянно действующих лесозаготовительных предприятий внедрить сначала в Карелии. А «Пермлеспрому» установили план лесозаготовок, превышающий расчетную лесосеку на один миллион кубометров.
Если поделить этот миллион на четыре десятка лесозаготовительных предприятий, то переруб не такой уж и значительный. К тому же решение, принятое правительством, имело достаточно весомые резоны – начальник Всесоюзного производственного объединения Евгений Курбаш знал это лучше других. Да и много ли вы найдете на государственной службе таких работников, которые способны на серьёзные возражения высокому начальству? Чтобы сохранить за собой должность, иной чиновник сегодня на что угодно пойдёт. Салтыков-Щедрин называл это умением поменять понятие «Отечество» на понятие «Ваше превосходительство».
Евгений Курбаш поменял другое: место службы. Всесоюзное объединение, предприятия которого работали в девяти крупных регионах Советского Союза, он поменял на управление сельскими лесами Прикамья. Он рассудил, что там можно быстрее создать модель оптимального лесопользования. Вскоре поменял место службы и Борис Ренёв, ставший директором Осинского сельского лесхоза. То есть три десятилетия он рубил лес, а теперь двадцать с лишним лет его выращивает.
ДВОЕЧНИКИ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
ТОЛКОВЫХ людей сейчас впору лелеять и на руках носить. Не это ли имел в виду тогдашний глава российского правительства Виктор Зубков, на всю страну заметивший вслух, что денег нынче больше, чем идей и больше, чем людей, способных на крупное дело?
Вот и губернатор Пермского края Олег Чиркунов, думаю, вполне мог бы сказать то же самое. Помнится, едва его назначили исполнять обязанности губернатора, как он заявил в интервью пермским журналистам, что сделает Прикамье лучшим регионом России. Но немного подумал и тут же дал другую формулировку: одним из лучших в России. Поправка понятная: не можем же мы идти впереди обеих российских столиц. Хорошо, пермяки согласны быть лучшими и после Москвы и Санкт-Петербурга. Другой вопрос, сколько времени для этого понадобится? Олег Чиркунов уверен был, что за три-четыре года с таким делом успешно справится.
А минувшей весной губернатор Чиркунов на своём интернет-блоге отметил, что вот уже пять лет он возглавляет Прикамье. И тут же сообщил пермякам, что время летит быстро. Очень интересное сообщение. За ним нетрудно угадать несказанное. Губернатору не три-четыре года, а даже пяти лет не хватило, чтобы вывести Пермский край в число лучших. Время, видать, виновато, что летит быстро?
Теперь о передовых позициях никакого разговора быть не может. Какой показатель государственной статистики ни возьми – Пермский край за последние годы намного отстал от своих соседей и по Уральскому, и по Приволжскому федеральным округам. Скажем, по итогам прошлого года у нас намного хуже с инвестициями в основной капитал. А индекс промышленного производства едва ли не самый плохой на Урале и в Приволжье. С производством сельскохозяйственной продукции – ещё хуже. По росту потребительских цен и уровню инфляции наш край и вовсе попал в число наиболее неблагополучных регионов России…
Поинтересуйтесь в администрации Пермского края, кто виноват в этом провале? И вам скажут, что вопрос риторический. Потому что губернатор отправил в отставку предыдущее правительство региона. Значит, виноваты министры.
А, возможно, сошлются на федеральное правительство – многие беды региона идут оттуда: за все годы реформ не было случая, чтобы правительство страны успешно решило стратегическую целевую задачу, им же самим и сформулированную. Никого не шокировал и очередной фундаментальный доклад, подготовленный учёными института социологии Российской академии наук. Авторы доклада, опираясь на новые опросы населения и оценки экспертов, пришли к выводу, что нынешняя российская бюрократия не только самая многочисленная и самая коррумпированная. Но ещё и самая неэффективная за всю историю России.
Но чему тут удивляться, если к такому же выводу пришли несколько лет назад и в министерстве по чрезвычайным ситуациям, когда ведомственный центр стратегических исследований составил для федерального Совета безопасности список самых главных угроз для современной России. И первой в этом списке значится вовсе не опасность природных катастроф. И не плохие дороги, как уверял некогда великий русский классик. А коррупция и некомпетентность властных структур.
И какой смысл кивать на федеральное правительство, если в стране давно циркулируют встречные потоки: губернаторов назначают министрами, а министров – губернаторами?..
В феврале нынешнего года президент Дмитрий Медведев решил заменить губернаторов целого ряда российских регионов. В прессе тотчас появились комментарии экспертов, близких к Кремлю. Запомнилась оценка одного из них – он представлял Академию народного хозяйства при правительстве России. Отправленных в отставку губернаторов он назвал явными троечниками. Едва его комментарий прозвучал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», как в студию начали звонить радиослушатели из разных регионов. Звонили, чтобы выставить «отметки» губернаторам своих регионов. И почти все требовали поставить им не стыдливую серенькую тройку, а жирный «неуд».
А через какое-то время аналогичный опрос решили провести журналисты радиостанции «Это Перми». Поводом стало то самое интернет-обращение пермского губернатора, сообщившего, что минуло пять лет, как он возглавил Прикамье. Аудитория отреагировала активно: звонки посыпались в студию один за другим. Жители разных районов Прикамья говорили в прямом эфире о бесчисленных провалах экономической политики и некомпетентности пермского правительства.
Прямо напасть какая-то. Неужели судьбы экономики некому доверить кроме явных троечников и двоечников? Неужто оскудела Россия талантливыми и честными людьми? А как же тогда управляется в своём лесхозе директор Ренёв? Кого из ведущих специалистов предприятия ни спросишь – все уже который год работают вместе с Ренёвым. А вдруг он тоже собирается возложить на них вину за трудности, которые переживает лесное хозяйство? И отправить своих «министров» в бесславную отставку?
– Ещё чего! – сердито нахмурился Ренёв. – Какая отставка? В лесхозе работают замечательные люди. Прекрасные специалисты…
Да. Ренёв готов за них горой встать. За своего заместителя Михаила Чугайнова, например. Несмотря на молодость Чугайнова, директор считает его отменным лесоводом. Многое в этом человеке по душе директору Ренёву. И его высшее образование лесовода, и стремление постоянно умножать свои знания. И его аккуратность, которая доходит у Чугайнова до педантизма. Было время – проверяющие замучили работников лесхоза своими контрольными набегами. Особенно один инспектор, который любую цифру в отчетах придирчиво проверял не только в конторе лесхоза, но и на делянке: чуть не отдельные ветки каждого дерева готов был при необходимости пересчитать в лесу.
Долго так продолжалось, пока этот инспектор не заявил публично, что теперь он спокоен, поскольку учёт в Осинском сельском лесхозе поставлен так же хорошо, как и непосредственная работа в лесу. А Чугайнов, рассказывают, только сдержанно заметил вслух, что он одно от другого никогда не отделяет. Чем ещё раз вызвал одобрение директора Ренёва.
Или главный экономист лесхоза Галина Светлакова. Рассказывая о ней, Ренёв счёл нужным особо подчеркнуть, что Галина Александровна – профессионал самого высокого уровня. Как и главный бухгалтер Валентина Ситникова. Или мастер леса Александр Пермяков, так хорошо изучивший свой участок леса, что способен, кажется, с закрытыми глазами найти нужную делянку. Или лесник Леонид Кобелев, надежнее которого тоже очень трудно найти…
Это от Ренёва постоянно слышишь: как начинает рассказывать о заслуженных работниках лесхоза, так обязательно выходит, что это люди изумительно надежные и толковые. Словно в Осинском районе процент одарённых талантами людей гораздо выше, нежели где-нибудь в Перми или Москве.
– Насчёт процента судить не берусь, – прокомментировал директор Осинского лесничества Александр Смердев. – А что Борис Игнатьевич Ренёв умеет собирать вокруг себя толковых людей – это факт. Посмотришь – совершенно разные люди. А работают все вместе, как отлично сыгранный оркестр под управлением умелого дирижёра…
Дирижёра? А почему бы и нет? Латинское слово «директор» и французское «дирижёр» имеют один общий корень и обозначают один и тот же глагол – руководить. Вот и Евгений Курбаш, когда воспитывал в «Пермлеспроме» своих подчинённых директоров, считал нелишним напоминать им, что руководитель – это товар штучный, к нему отношение должно быть особое и спрос самый высокий. И умение собрать эффективную команду – непременное требование к руководителю. В том, собственно, и заключается искусство управления, чтобы создать вокруг себя такие условия, при которых максимальное число людей могло бы проявить свои способности и таланты. И проявить таким образом, чтобы успешно решать единой командой самые сложные задачи.
Так было и в управлении «Пермсельлес», когда Курбаш напоминал директорам лесхозов, что все задачи по охране насаждений и лесовосстановлению должны быть обязательно выполнены, – независимо от того, будет ли своевременно открыто бюджетное финансирование или нет. И лесхозы эти задачи выполняли. А поскольку казна иной раз на протяжении всего года не финансировала сельские лесхозы, то они сами зарабатывали деньги на ведение хозяйства в государственных лесах. Благодаря чему не только сохранили для будущих поколений вверенные им богатства, но и значительно их приумножили – это официально зафиксировано в ходе многочисленных инспекций и проверок…
Вернувшись из Осы в Пермь, я решил перечитать мемуары Сергея Витте, которому пришлось возглавить российское правительство накануне первой русской революции. О чём размышлял на склоне своей жизни один из самых эффективных русских реформаторов? Размышлял о том, что экономическая, а значит, и политическая мощь любого государства заключается, главным образом, в трех факторах: природных богатствах, капитале – как материальном, так и интеллектуальном – и умении народа трудиться. Россия природными богатствами не только не обижена, но и наделена ими больше всех европейских государств, считал Витте. С капиталом, правда, похуже, ибо правители России особым умом не отличаются и постоянно провоцируют войны. Но Витте был убеждён, что нехватку капитала ещё можно поправить и активно привлекал в страну иностранные инвестиции. А вот с третьим фактором, сетовал Витте, – с этим фактором совсем беда.
«Труд русского народа крайне слабый и непроизводительный», – писал Витте. И объяснял это разными причинами. А одной из основных считал, что русскому человеку не дают нормально работать: «Для того, чтобы народ не голодал, чтобы его труд сделался производительным, нужно ему дать возможность трудиться, нужно его освободить от попечительных пут».
До чего же актуально звучит. Будто специально про сегодняшние лесхозы сказано. Лесными богатствами мы наделены с избытком, предмет труда – повсюду, куда ни глянешь. При этом лесники Прикамья хотят и умеют прекрасно работать. И особого капитала не требуют от правительства – сами казну постоянно кредитуют.
К таким людям во все времена власть должна быть особо внимательна. А во времена тяжелейшего экономического кризиса их впору на руках носить.
А ЕСЛИ с такими работниками да ещё при избытке лесных ресурсов экономика региона постоянно хромает на обе ноги, то почему бы, допустим, главе правительства не пойти самому к этим людям? Почему бы не собраться вместе с министрами где-нибудь на лесной делянке?
Потому что когда мэр миллионного города лезет в канализационный коллектор или на крышу общественного здания, чтобы проверить работу строителей, и рядом как бы случайно оказываются журналисты и телеоператоры, которые потом на всю губернию показывают чиновника, радеющего об экономике, – то это выглядит смешно.
Но когда руководитель агентства по природопользованию стал в ноябре прошлого года рассказывать на страницах газеты «Деловое Прикамье», что хлыст – это тонкомерная верхушка, которая остаётся при спиле дерева, то смеяться уже не хотелось. Расхочешь смеяться, когда руководитель агентства объясняет в этом газетном интервью, что управлять лесными ресурсами Прикамья надо с учётом опыта международной организации экспортёров нефти ОПЕК. Ведь в этой самой ОПЕК каким образом поступают? Они ограничивают добычу нефти, чтобы поднять спрос…
А побывай наши министры на лесной делянке, они, глядишь, убедились бы, что хлыст – это вовсе не тонкомерная верхушка дерева. И что перезревшая на корню древесина – это уже не зелёное золото. А всего лишь труха, заражающая болезнями другие деревья. И что тайгу Прикамья, где ежегодно пропадают на корню миллионы кубометров древесины, нельзя сравнивать с нефтяными скважинами. Прикамские леса сравнимы с громадным хлебным полем, которое превосходит территорию иного государства. Громадный урожай вырастили на этом поле. Но не убирают его, а оставляют пропадать. И пропадает с каждым годом всё больше.
Вот о чём могли бы поразмыслить глава правительства и его министры на делянке лесхоза. Вот о чём давно следовало бы им расспросить людей, которые хотят и умеют хорошо работать…
Поэтому у лесников появились хотя бы какие-то надежды, когда состоялась, наконец, встреча с главой правительства Валерием Сухих. Правда, этой встречи искал не он – с инициативой вышли ветераны лесопромышленного комплекса, а он в марте нынешнего года нашёл время для обстоятельного разговора с ними. И на том спасибо – у министров, наверное, появилось немало информации к размышлению. Во всяком случае, Борис Ренёв немало для этого постарался.
На этой встрече с главой правительства директор Ренёв представлял не только осинских лесников. Но и другие лесхозы государственных предприятий «Пермлес» и «Пермсельлес». А ещё – многочисленный директорский корпус. От имени которого особо хотел сказать министрам о нынешней реформе лесного хозяйства. Собственно, то, что сегодня пытаются сделать с государственными лесхозами, изначально нельзя назвать реформой. Потому что само предназначение реформы – улучшить работу хозяйственного механизма, повысить его эффективность. Но как можно рассчитывать на какие-то улучшения, если пермское правительство попросту разорвало живой организм лесхозов? Разорвало, чтобы выделить лесничества в самостоятельную привилегированную структуру. А ведь лесничества задуманы и созданы около двух веков назад. И, создавая их, знаменитый российский лесовод Александр Теплоухов считал лесничества неотъемлемой частью лесхозов. За эти минувшие столетия никто из многочисленных его исследователей не пытался пустить под откос идею Теплоухова: сама практика лесоводства убедительно доказала, что созданная им основа управления русскими лесами работоспособна, как человек, у которого две здоровых руки.








