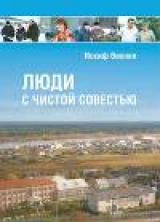
Текст книги "Люди с чистой совестью"
Автор книги: Иосиф Вихнин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
И эту единую живую структуру новейшие реформаторы умудрились разделить и обескровить. С таким же успехом можно попытаться создать из нормального человека двух одноруких существ. Нечто подобное напоминают сегодня новые лесничества, у которых «отсекли» государственную лесную охрану.
А дальше пошла новая нелепица. С одной стороны упразднили лесную охрану. А с другой стороны объявили об отмене аукционов на кратковременное лесопользование. То есть хочешь получить доступ к лесным ресурсам – бери лесные делянки в долговременную аренду. Но для этого тоже надо выиграть аукционные торги, а многим предприятиям это явно не по средствам. Между тем в Пермском крае сейчас только в собственности малых предприятий и частных лиц насчитывается несколько тысяч пилорам. Спрашивается: что делать их владельцам, если доступ к лесным ресурсам для них заведомо перекрыт? У них всего два выхода. Либо закрыть малое предприятие, что для региона всегда нежелательно, а во время экономического кризиса – тем более. Либо воровать для производства пиломатериалов лес, благо государственная служба охраны в Пермском крае ликвидирована.
Так что в любом случае государство на этом много потеряет. И не меньше, если не больше, будут потери от попыток немедленно передать все оставшиеся леса в долговременную аренду. Одно дело – северные районы Прикамья, с их громадными запасами хвойных пород. А как быть с лесами того же Осинского района? Здесь хвойное хозяйство составляет сегодня лишь четвертую часть расчетной лесосеки, а остальное – это берёза, осина и липа. К тому же – сильно «побитые» морозами. Куда прикажете девать эту древесину, если за годы скоропалительных реформ Прикамье лишилось почти всех предприятий по переработке такого сырья?
Поинтересуйтесь у директора Осинского государственного лесничества Александра Смердева, сколько раз приезжали в район потенциальные арендаторы. А желающих взять эти леса в аренду так и не нашлось. Они ведь охотятся за участками с преобладанием ценных пород. А брать на себя затраты по воспроизводству лесов они вообще не собирались. А когда им начинают доступно разъяснять, что смена пород – дело очень долгое и очень хлопотное, они моментально исчезают. Пусть, мол, государственные лесхозы и дальше занимаются этим делом.
Директор лесничества Смердев тоже хотел бы этого: чтобы Борис Ренёв и его коллеги продолжали воплощать в жизнь идею постоянного лесопользования. Да и некому больше доверить судьбу местных лесов. Которые не представляют сейчас большой выгоды для пронырливых предпринимателей, но поистине бесценны для региона. У этих лесов целый набор особых функций. От них напрямую зависит жизнь великого множества маленьких рек и ручьёв. Плодородие окрестных полей. Качество воды, которую пьют десятки тысяч людей. Судьба нерестилищ ценных пород рыбы. Санитарное благополучие десятков деревень и сёл…
Вот почему директор государственного лесничества Александр Смердев считает, что государственные лесхозы надо беречь сегодня как последнюю надежду уральского села.
Но в правительстве Пермского края, следуя советам Москвы, решили иначе: все лесхозы должны пройти процедуру акционирования.
Спрашивается: почему ни в Кирове, ни в Тюмени, ни в Вологде, ни в Архангельске, ни в Ижевске, – почему в лесных регионах не пошли по пути скоропалительного акционирования лесхозов? Почему ограничились разделением лесохозяйственных и управленческих функций и сохранили лесхозам статус государственных предприятий? Ответ один: в этих регионах не хотят окончательно потерять лесхозы.
А в Перми на этот счёт никаких сомнений. Заместитель председателя правительства Пермского края Елена Зырянова заявила, что Прикамье будет первым регионом, где лесхозы станут акционерными предприятиями. То есть не могут сегодня найти арендаторов, согласных честно выхаживать и растить осинские леса для будущих поколений. И в то же время верят, что найдут предпринимателей, готовых раскошелиться на пакет акций лесного хозяйства, которое долго ещё будет низкорентабельным. Чего тут больше? Элементарной неспособности предвидеть? Но если руководитель, как выражается Евгений Курбаш, не умеет правильно просчитать все последствия принятого решения, то ему надо искать другую работу – и чем раньше, тем лучше.
Или пермские министры просто торопятся показать высокому начальству своё рвение, ибо давно сделали для себя тот самый выбор в пользу понятия «Ваше превосходительство»?
Но такая мотивация чиновного люда развращает народ больше всех остальных пут.
Так считал Сергей Витте.
Попробуйте его опровергнуть.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ФОРМУЛА ЖИЗНИ И РЕВОЛЮЦИЯ В ГОЛОВАХ
– Каковы самые важные вещи в этой жизни? – с нетерпением спросил он.
– Самые важные вещи в жизни – это вовсе не вещи, – ответил Иаков.
– Хорошо. И что же тогда наиболее ценно?
– Не «что», а «кто», – поправил его Иаков.
– Вы хотите сказать, что люди – самые важные вещи в жизни?
– Нет, – ответил Иаков. – Самое важное – не обращаться с людьми, как с вещами.
Ноа бен Шиа.Лестница Иакова
• Для умножения народа российского…
• Великаны, грузы и революция
• Наследники Теплоуховых
• Как Гермес победил Гиппократа
ДЛЯ УМНОЖЕНИЯ НАРОДА РОССИЙСКОГО…
ДО ЧЕГО ЖЕ прекрасны эти места. Посмотришь с высокого берега на красавицу Обву, и кажется, что ничего более очаровательного в уральской природе быть уже не может. А потом поднимаешься на другой холм, с которого открывается излучина Камы. И видишь, что нет пределов у этой красоты.
А ещё здесь хочется думать, что люди, которым выпало на этой земле жить и работать, должны быть непременно удачливы и душевно красивы. И работу свою они должны любить. Не зря же старая еврейская мудрость гласит, что у людей умных и удачливых есть в жизни только работа и любовь. Ибо если мы удачливы, то работу свою любим. А если обладаем ещё и мудростью, то понимаем, что любовь – это тоже работа.
Поэтому меня не удивил председатель колхоза Игорь Прусаков. Он рассказывал мне о колхозниках. А у него своя формула: настоящий колхозник – это человек, который любит землю и верит, что работать на ней – дело святое. И что благословенны должны быть труженики, которые растят для людей хлеб или производят молоко.
Так он говорил. А рядом сидел Михаил Рычагов, и по его глазам я видел, что он тоже так думает. Но почему? Ведь Рычагов вовсе не колхозник. Он – директор Ильинского сельского лесхоза. И, стало быть, не хлеб выращивает, а деревья. Или это тоже святое? Тут я и услышал от них, что лес и хлеб – словно родные братья.
Вот и в соседнем селе Слудка лес тоже ставили рядом с хлебом. Об этом напоминает лозунг на стене старого дома. Только взойдёшь на крыльцо, и взгляд сразу упирается в знаменитую формулу советских времён: «Лес нужен стране, как хлеб, как уголь, как металл»…
А нынче этот лозунг смотрится в старинном селе безнадёжным архаизмом, пережитком времени. Ведь давно закрыли в Слудке сплавное предприятие, контора которого размещалась в этом самом доме. Не стало причалов для речных судов. Да и к чему они, если давно сданы в металлолом три десятка катеров и буксиров здешней флотилии сплавщиков? И не стало цехов и участков ремонтной базы флота, где отец Михаила Рычагова работал сварщиком.
Работником, как водится у них в роду, он был отменным. На ремонтную базу флота пришел с Чусовского металлургического завода, где сваривал металлоконструкции для строительства железнодорожных и автомобильных мостов. На заводе он вырос до сварщика самого высокого класса и получил право метить выполненную работу своим личным клеймом качества. С этим удостоверением мастерства он и вернулся в родной район.
Вот и Михаила Рычагова, когда он закончил Уральскую лесотехническую академию, тоже настойчиво приглашали на работу в город. Но он вернулся в Слудку и был назначен начальником лесосплавного участка, на котором отец работал сварщиком, а мать – экономистом.
Такие были приметы времени, когда лес ставили рядом с хлебом, а работа на лесопромышленном предприятии считалась почётной для специалистов самой высокой квалификации. То было время, когда жизнь в деревне кипела и бурлила.
А когда экономику стали скоропалительно переводить на рыночные рельсы и лесосплавное предприятие закрыли, Михаил Рычагов стал директором государственного сельского лесхоза.
С тех пор Слудка сильно изменилась. Теперь тут тихо и малолюдно. Шёл я по тротуару, утопающему в зелени, и не мог понять, отчего вдруг дрозды подняли неистовую трескотню и принялись настырно пикировать на меня. Оказалось, прямо над тротуаром устроено у них гнездо, так что, протяни я руку, и вполне мог бы достать птенцов.
Вот до чего безлюдной стала улица рядом с пустующим зданием бывшей сплавной конторы. Впрочем, что контора. По соседству пустует большое кирпичное здание школы. Настолько мало детворы теперь в Слудке, что предпочитают возить учеников в соседнюю деревню Каменка, нежели содержать собственную школу.
А в Каменке своя несуразица: под школу пришлось приспособить здание, где размещалось правление местного колхоза. Говорят, хорошо было поставлено производство в колхозе, и на стенах его конторы тоже красовались яркие лозунги о том, как нужен стране хлеб, и какое это почётное дело – достойно работать на земле. А нынче деревенских детишек учат в этих стенах совсем другому – мне об этом сказали сами школьники. Помнится, я полюбопытствовал у них, о чём в тот день шла речь на уроке. Представьте себе, о великом русском поэте Александре Пушкине. Точнее, о его Болдинском периоде творчества. Тут ребята и высказали расхожее мнение:
– Другая жизнь была. Другие проблемы.
Эх, милые мои. Знали бы вы, насколько актуально для сегодняшней России пушкинское Болдино. И для Ильинского района – тоже. Три осени провёл Пушкин в своём нижегородском имении. Именно с этого периода крестьянская тема стала центральной в его творчестве. В Болдино он ехал всего лишь, чтобы поправить свои денежные дела, а покидал деревню с убеждением, что без хорошо развитого земледелия у России нет будущего. Именно здесь Александр Пушкин по-настоящему осознал, что крестьянская страна без земледелия – это всё равно, что человек без головы. И что от умножения хлеба, как выражались близкие Пушкину просвещённые современники, последует и умножение народа российского.
А сейчас Россия куда больше нуждается в умножении народа: численность населения сокращается в последнее время стремительнее, чем в годы гражданской войны, когда люди гибли на полях сражений, умирали от голода и болезней.
Деревни и сёла Прикамья вымирают сегодня на глазах.
В Агропромышленном Союзе Пермского края меня познакомили со статистикой и выкладками экспертов. За время так называемых постсоветских реформ Прикамье потеряло примерно пятьсот предприятий, производивших сельскохозяйственную продукцию. Сбор зерновых упал в три с лишним раза, а их низкие хлебопекарные качества исключили муку и крупы местного производства из меню пермяков. И если в советское время Пермская область фактически вышла на продовольственную самодостаточность, а Птицепром уже уверенно работал на экспорт, то сегодня местный рынок заполнен сомнительными импортными продуктами и сырьём низкого качества. Из года в год продолжается падение производства и сокращение посевных площадей. Вот и в прошлом году, когда погода явно благоприятствовала полевым работам, посевные площади уменьшились ещё на двадцать две тысячи гектаров. А всего в Пермском крае не возделываются сейчас около шестисот тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
Недавно в пермском правительстве разработали новую целевую программу развития агропромышленного комплекса на 2009–2012 годы. Эксперты, изучившие эти планы, пришли к однозначному выводу: реализация программы приведёт к банкротству и ликвидации примерно половины оставшихся на селе предприятий. А это обрекает на вымирание около пятисот деревень и сёл.
Такое развитие задумали в правительстве. Какое же может быть умножение народа российского, если некому будет выращивать хлеб на этих полях?
Вот тебе и святое дело.
ВЕЛИКАНЫ, ГРУЗЫ И РЕВОЛЮЦИЯ
ТЕПЕРЬ я должен сказать о революции. Без этой революции нам никак не обойтись. Это не моя идея. Она высказана министром сельского хозяйства Пермского края. В Ильинском я узнал об этом в одном из местных учреждений. Было время обеденного перерыва, и двое работников курили на крыльце, обсуждая ситуацию в сельском хозяйстве.
В этом не было ничего странного: для сельских жителей тема самая что ни на есть близкая. Но они произносили какие-то мудрёные слова. Оказалось, они обсуждают интервью министра сельского хозяйства. Пришлось попросить у них цветной глянцевый журнал, где напечатано это интервью.
Любопытные рекомендации даёт министр. Надо организовать бизнес-процессы в мясной и молочной отрасли. Использовать франшизу по кролиководству. А привлекать в сельскую глубинку профессионалов следует с помощью аутсорсинга. А ещё необходимо активно продвигать пермские бренды.
– Сильные рекомендации, – сказал один из собеседников.
Это он что? Иронизирует? Может, не верит в пермские бренды? Нет, в это он как раз верит. Ведь в журнале даже фотографии этих брендов помещены. Вот, пожалуйста. Пермская картошка. Пермское молоко. Пермские овощи. Недавно появился ещё один бренд: пермский страус.
Верно, я слышал о таком. И что из этого?
– Брендов хватает, – хмыкнул он. – А как с молоком? С мясом или овощами? Вы сами-то какое молоко в магазине покупаете? Пермское?
Тут он меня загнал в угол. Я иногда хожу в магазин – в тот самый, которым раньше управляла нынешний министр сельского хозяйства. Молока там больше от близких и дальних соседей, нежели нашего, пермского. Расфасовки с яркой этикеткой «Пермская картошка» я тоже не покупаю. Потому что по качеству этот «брендовый» картофель нисколько не лучше обычного, а цена его втрое выше. Мясо страуса мне без надобности, я предпочитаю обычную курицу, которая к тому же раз в шесть дешевле. Колбасу лучше не брать вообще, нормального мяса в ней, скорее всего, нет. Чеснок приходится покупать китайский. Лук – узбекский…
Но какого лешего этот хитрец меня допрашивает? Сам прекрасно знает: сельскохозяйственной продукции в Прикамье производят сегодня в несколько раз меньше, чем двадцать лет назад. На что он, собственно, своими вопросами намекает?
– Я не намекаю. Тут сказано открытым текстом, – кивнул он на журнал.
Действительно: крупный жирный заголовок интервью решительно сообщает, что нам нужна революция в головах.
Что я мог этому сельскому жителю ответить? Спорить с мнением министра, что реформы должны продвигать профессионалы? Смешно. Школьники, которые учатся в селе Каменка в здании бывшей колхозной конторы, – даже они мне рассказывали, что без профессиональных навыков самую смирную корову подоить трудно. Что тогда говорить об управлении сельским хозяйством? Или я должен отвергать революцию как инструмент развития общества? Но это было бы глупо. Ведь революция – это когда ломают и отбрасывают безнадёжно отжившее, если оно мешает строить более совершенное.
Другое дело, когда требуют произвести революцию в головах. Тут задумаешься. От каких, скажите мне, знаний и убеждений должен отказаться, к примеру, председатель колхоза Игорь Прусаков? Растить хлеб – дело для него семейное. У него дед был председателем колхоза. Отец – директором совхоза на целинных землях. А колхоз имени Ленина в селе Сретенское Игорь Прусаков возглавил двенадцать лет назад, когда это хозяйство было уже доведено реформами почти до полного банкротства.
Тогда нового председателя тоже пытались учить. Один из местных начальников стал ему настойчиво советовать, чтобы он побыстрее входил со своим колхозом в рыночную экономику. А для этого рекомендовал немедленно разделить хозяйство на три отдельных предприятия. Прусаков категорически отказался дробить колхоз. Ему стали приводить в пример других руководителей, которые это послушно сделали и настолько спешили проявить свою приверженность рыночным реформам, что готовы были бежать впереди паровоза.
Но пока эти учителя пытались Прусакова вразумить, выяснилось, что уже некого ставить ему в пример: было в Ильинском районе четырнадцать совхозов и колхозов, и одиннадцать из них новые реформаторы уральской деревни умудрились похоронить. А колхоз имени Ленина живёт и работает.
Впрочем, в России так бывало уже не раз, ещё Лев Толстой об этом говорил: кто умеет, – тот делает, а кто не умеет – тот учит. Чему же вы теперь собираетесь учить Прусакова?
Может, вам претит его убеждение, что растить хлеб или производить молоко – это дело святое? Хотите, чтобы он отбросил это убеждение, как безнадёжно устаревшее?
Или кому-то сильно не терпится убрать имя Ленина с вывески предприятия? Недавно Прусаков предложил проголосовать этот вопрос на правлении колхоза. Они и проголосовали. Единогласно решили имя Ленина сохранить.
Вообще Игорь Прусаков не из тех людей, кто предпочитает затеряться в толпе, нежели отстаивать свою правоту в одиночку. Но остаться со своими убеждениями в одиночестве ему точно не грозит.
ПРИШЛА к нему как-то доярка Антонина Мялицына. Он думал, она с просьбой какой. А глянул ей в лицо и увидел, что горестно человеку. Но что случилось? Кто обидел?
Да в том-то и дело, что открыто никто не обидел. И слов плохих никто доярке Мялицыной не сказал. Просто зашла она по дороге в сельский магазин. А там кто-то из местных учителей оглянулся на доярку и поморщился. Она ведь прямо с работы сюда зашла, и, видать, запах фермы ещё не выветрился по дороге.
Такая проза деревенской жизни. Наверное, немало их нынче, – учителей, которые спокойно едят хлеб и не могут обойтись без молока. Но при этом брезгливо морщатся, увидев рядом тракториста или доярку. Им кажется, что громадная разница существует между образованным учителем и «некультурным» колхозником. А на самом деле разница точно такая, как между великаном и грузом.
Причём тут великан? И причём тут груз? Это я о библейской притче, авторство которой приписывают мудрому царю Соломону. Речь там идёт о маленьком человечке, который из-за своего низкого роста не видел далеко дорогу. А когда добрый человек посадил его себе на плечи, он много увидел и почувствовал себя великаном. Возможно, он и впрямь мог бы стать великаном. Если бы только помнил, кто именно помог ему увидеть мир с такой высоты. Но он об этом не думал. А потому остался всего лишь грузом на чужих плечах.
Много нынче груза на крестьянских плечах. При всём желании не сможет председатель колхоза Прусаков совестить каждого встречного, если тот свысока смотрит на колхозника. Тем более что пренебрежение к людям, которые кормят страну, – это пренебрежение идет сверху. Посмотришь иной раз, как министр или губернатор поучает руководителей сельхозпредприятий, и можно подумать, этот чиновник много лет работал на земле.
Пожалуй, это было бы неплохо, если бы он «от земли» вырос. Так нет ведь. Закончил философский факультет. Работал директором магазина. Теперь учит селян, как коров доить. Но колхозники нуждаются вовсе не в таком внимании власти.
У той же Антонины Мялицыной руки золотые, и человек она душевный. Как и дояр Виктор Субботин, к примеру. Мужчина-дояр всегда был изрядной редкостью на селе. А Субботин и вовсе личность уникальная. Кода занят делом, любит лирические песни напевать. Уже по одной этой особенности Прусаков издали угадывает его присутствие на ферме. А ещё угадывает по особому психологическому климату, который устанавливается вокруг Субботина. Не раз замечал это председатель Прусаков: люди будто добрее становятся рядом с дояром Субботиным. Охотнее улыбаются, стараются не спорить, грубое слово придерживают.
А сколько мог бы рассказать Прусаков о двух Владимирах – Пономарёве и Пескове. Эти механизаторы друг на друга совершенно непохожи. Пономарёв – постарше, Пескову – всего тридцать шесть. Пономарёв – молчун, Песков – разговорчивый. Но и тот, и другой – работники думающие. Им едва успеешь конкретное задание дать, глянь – они уже знают, как лучше подступиться к этой работе и плюсы и минусы каждого варианта тебе тут же преподносят. Оказывается, они уже предвидели эту работу. Потому что привыкли вперёд заглядывать в интересах хозяйства.
Такие люди – самое большое богатство России. Никаких денег не пожалел бы председатель колхоза Прусаков, чтобы сделать их жизнь лучше. Не так много, как хотелось бы, но есть в колхозе новые трактора. Хорошая техника. Современное доильное оборудование. Но Прусакову намного больше надо. Он кроме всего прочего мечтает на каждой ферме прекрасные бытовые комплексы построить – с комфортными душевыми и саунами. А денег не то что на сауны – на достойную зарплату колхозникам не хватает.
Министр по этому поводу уверенно поучает. Дескать, хороший ветеринар в нынешнюю неустроенную деревню не поедет за пять тысяч рублей. Поэтому есть только один разумный выход: аутсорсинг. Пусть, мол, один и тот же ветеринар работает на выезде в разных хозяйствах. Ему это будет интересно…
ВЕРНО: кому-то такое интересно. А доярке Мялицыной – ничуть. Она за этим аутсорсингом видит неуклюжую попытку министра узаконить нынешнюю неустроенность деревни. Узаконить заведомо низкую зарплату тех, кто работает на земле. А кто в этом виноват, господа хорошие, что сегодня толковые и честные работники получают за свой благородный труд меньше, нежели пронырливый лавочник средней руки?
Знаете, как поработали в прошлом году колхозники? Объём реализации сельскохозяйственной продукции составил на одного работника чуть не двести тысяч рублей. Попросил я знакомого экономиста дать свою оценку такой выработке. Он принял во внимание климатические условия Ильинского района. Сделал поправку на технологию колхозного производства. И вышло у него, что в этом хозяйстве работать должно не менее ста двадцати человек. Сильно он удивился, когда узнал, что в колхозе всего полсотни работников. А в стаде у них восемьсот коров. И площадь зерновых посевов вместе с однолетними травами составляет восемьсот сорок гектаров.
И всякий раз, когда начинается страда и надо выводить машины на поля, оказывается, что нефтебароны припасли крестьянам очередной «подарок»: опять подорожало горючее для техники.
– А должно быть наоборот, – напоминает председатель колхоза Игорь Прусаков. – Ведь подъём сельского хозяйства правительство давно уже объявило приоритетным проектом. Значит, надо снижать цены на энергоносители.
Надо, конечно. Но слишком многое сейчас в России перевёрнуто с ног на голову. Как только эксперты начинают говорить о плохих видах на урожай хлеба, так иные экономисты захлёбываются оптимизмом. Дескать, прекрасно будет, если российское село даст зерна хотя бы на десять миллионов тонн меньше, чем в предыдущие годы. Меньше соберут зерновых – резко вырастут цены на них. Тогда выгоднее станет большому бизнесу вкладывать сюда свои деньги. А тогда жди инвестиционного всплеска в аграрном секторе. А там, глядишь, и минеральные удобрения смогли бы покупать крестьяне.
Такова логика рыночной экономики. По этой торгашеской логике, чем больше зерна соберут хлеборобы, тем больше упадут закупочные цены на их продукцию… То есть чем лучше – тем хуже. И наоборот….
А попробуй взять кредит в банке. Проценты банкиры установили такие, что вместо обещанной правительством финансовой поддержки получишь удавку для колхоза. К тому же банки требуют сегодня двойной залог. Просишь, предположим, кредит в пять миллионов. А банк требует от тебя такой залог, как если бы ты брал десятимиллионный кредит. А какой можно взять залог с хозяйства?
Не закладывать же Прусакову колхозные фермы. Их у него семь, и все требуют ремонта. Вот вам, кстати, новая беда, которую правительство взвалило нынче на крестьян: колхозников всегда спасал родной лес, а нынче напилить доски – сплошная проблема. Ещё в советское время участки лесного фонда были закреплены в бессрочном и безвозмездном пользовании за совхозами и колхозами. Принятый в 1997 году Лесной кодекс хоть и оговорками, но в целом сохранял такое положение, поскольку оно прямо работало на удешевление сельскохозяйственной продукции. А по новому законодательству производители сельскохозяйственной продукции получают доступ к лесным ресурсам уже исключительно на платной основе. Да ещё необходимо для этого аукцион выиграть.
В результате получили колхозники массу новых неприятностей. Надо активно ремонтировать фермы и жилые дома, благо сохранили в колхозе свой строительный участок и собственный лесопильный цех. Но не хватает денег на лесоматериалы.
– Где тут здравый смысл? – спрашивает председатель колхоза Прусаков. – Где смысл, если с одной стороны развитие села объявили национальным приоритетом, а с другой – оставили производителей сельскохозяйственной продукции без лесных ресурсов? Хоть один разумный довод в пользу такого решения можете мне привести?
Нет, даже пытаться не буду. В Ильинском районе подобные попытки выглядят более чем странно. Ведь здесь жил и работал знаменитый лесовод Александр Теплоухов. Здесь он сформулировал принципы управления русскими лесами. И создал систему разумного лесопользования, без чего считал невозможным развитие сельского хозяйства и приумножение народа российского.








