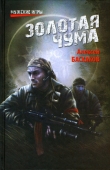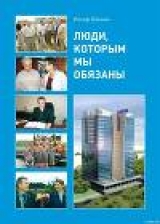
Текст книги "Люди, которым мы обязаны"
Автор книги: Иосиф Вихнин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Глава пятая
МОНОЛИТ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ «САТУРН»
Уинстон Черчилль и Владимир Алябышев
ГОВОРЯТ, это высший поступок – поставить другого впереди себя. Это я про Владимира Алябышева. И про строительство домов в микрорайоне Садовый.
С удивительной быстротой выросли тут четыре десятиэтажных здания: каких-нибудь полтора месяца и очередная «коробка» принимала вполне законченный вид. Строители компании «Сатурн-Р» и прежде работали многим на зависть. Но в этот раз один из пермских строителей, задетый за живое, решил сам разобраться, почему его парни не могут работать с таким же ускорением.
А потом с карандашом в руках стал доказывать мне, что он мог бы показать темпы не хуже. Но ему с башенными кранами упорно не везет. Дайте ему такое управление механизации, как у Алябышева, и он любого научит работать.
Я поэтому и отправился к Алябышеву, чтобы выяснить, насколько зависит от него успешная работа строителей «Сатурна». Неразговорчивый Алябышев пожал плечами: меньше всего ему хотелось объяснять успех строителей своими заслугами. Ему самому нравится, как они красиво работают, если бы так не умели, то и его техника мало бы им помогла. Но ведь помогла? Да, помогла. Вся техника работала эффективно и никаких перебоев ни разу не было. Поэтому он согласен признать, что ускорение строительства в Садовом от этого тоже зависело. Процентов, примерно, на сорок.
Так он думает. А другие считают иначе. Однажды директор известной строительной компании прислал в «Сатурн» письмо: благодарил Алябышева за безотказную работу башенного крана. Алябышев был несколько удивлен. Ведь поначалу они с тем директором не очень друг друга понимали. Прежде, чем доставить на стройку заказанный кран, Алябышев приехал осмотреть площадку. И остался недоволен: подъезды сделаны неаккуратно, территория не прибрана. Это, может быть, и мелочь, но она о многом Алябышеву говорит. Он же сюда не металлолом собирается доставлять. А современную высокоэффективную технику. Которая управляется с помощью компьютера. Такая техника и обращения к себе требует бережного и умного. А если на стройке не умеют организовать должный порядок, то он сильно сомневается, что им именно такая техника нужна…
Выходит, правильно они поняли Алябышева, если, успешно завершив строительство, директор не забыл отправить в «Сатурн» благодарность за бесперебойную работу техники.
А недавно тот самый директор опять обратился в «Сатурн» по поводу башенного крана. Алябышев объяснил, что в данный момент помочь ничем не может: полтора десятка башенных кранов работает сейчас на чужих стройках, остальные заняты на объектах «Сатурна». Но он точно знает, что свободный кран есть сейчас в другой фирме – там тоже предоставляют технику в аренду и обеспечивают обслуживание.
– Фигушки! – обиделся директор. Он уже с другими фирмами работал и теперь будет иметь дело только с управлением механизации «Сатурна». Так что он подождет, пока у Алябышева освободится кран.
– Долго ждать придется, – напомнил Алябышев. – Чуть не два месяца.
Так и было: почти два месяца ждали Алябышева в большой строительной фирме. А что им оставалось делать, если ответственная стройка требовала стопроцентной надежности техники? И если справедлива формула, по которой время – деньги, то работу Алябышева они оценили дороже денег.
Но для этого надо быть незаменимым.
У КАЖДОЙ эпохи свои дефициты. Сегодня всем не хватает надежности. Даже компьютеры не спасают. Даже если это очень надежные компьютеры. Даже если их ставят на башенный кран, чтобы повысить надежность техники.
Наслышан я, как сердито чертыхался на стройке молодой прораб, когда из-за поломки компьютера у него застопорили кран. Не успел, однако, молодой человек «остыть», как на стройку доставили новый блок для компьютера. Прораб был изумлён:
– Это что? Запасной блок? С завода-изготовителя?
– Нет, – успокоили его, – сделано в «Сатурне». Это лучше заводского.
Я решил, что это шутка. И ошибся…
Говорят, это началось с публичных заявлений одного пермского руководителя. Он не уставал обещать с телеэкрана, что приобретет для своей фирмы сто новых башенных кранов и обеспечит любую стройку не только этой техникой, но и первоклассным её обслуживанием. И спокойно провалил все обещания, чем подвел многих заказчиков, включая и компанию «Сатурн».
Именно тогда учредитель «Сатурна» Александр Репин и директор по строительству Николай Кирюхин решили создать собственное управление механизации. Но не будешь же содержать целую службу из-за нескольких машин. Задумали поэтому организовать сервисный центр. И когда число башенных кранов достигло у них десяти, а на заводе-изготовителе лишний раз убедились, что нет партнера надежнее «Сатурна», – тогда новое управление механизации получило официальный статус дилера и разрешение на обслуживание и ремонт техники. После чего они наладили у себя в управлении жесткую систему обязательного технического обслуживания: неважно, что кран вполне исправен, пришло время – специальная бригада выполнит полный комплекс профилактических работ, проверит все «слабые места», которые механики изучили не хуже изготовителей машины.
Очень скоро они взялись и за компьютеры, которые выпускает один-единственный на всю страну завод, не успевающий, естественно, вовремя устранять все неполадки, возникающие в разных регионах.
Прошли специалисты «Сатурна» специальное обучение – сначала на заводе-изготовителе, а потом – в московском институте, где разработана эта модель компьютеров. И получили на радость пермским строителям статус сервисного центра по обслуживанию и ремонту компьютеров.
А кроме участка башенных кранов создали в управлении механизации еще два – один для экскаваторов, бульдозеров и трейлеров-низкорамников, которых в Перми тоже раз-два и обчелся; а другой участок для специального строительного оборудования – бетононасосов, компрессоров и мощных автомобильных кранов на базе вездехода «Урал». На этом участке появилась недавно уникальная машина для вдавливания свай в грунт. Это вам не сваебойная установка, от работы которой сотрясаются не только соседние со стройкой здания, а вся земля, кажется, начинает ходуном ходить. Применение таких «монстров» ушедшего века строжайше противопоказано для районов старой застройки. Но время от времени они появляются на городских стройках – значит, кому-то из строительных предприятий в очередной раз разрешили это «в порядке исключения». А в «Сатурне» никаких исключений для себя не хотят, а потому позаботились о технике нового поколения. Причем придирчиво изучали самые разные образцы – от украинских до китайских машин. К примеру, решительно отказались от установки, уже «обкатанной» в Прикамье. Почему? Она монтируется на базе старых грузоподъемных кранов.
– Это позавчерашний день техники, – лаконично заметил по этому поводу директор управления механизации Владимир Алябышев.
В конце концов, они нашли другую машину, долго наблюдали, как она работает – отправились ради этого в Сургут. Где и организовали обучение и стажировку своих специалистов. Так появилась в Перми установка, каких на всю Россию пока лишь несколько образцов.
Если верить биографам, Черчилль любил уверять, что он неприхотлив и потому легко довольствуется самым лучшим. В «Сатурне» тоже привыкли довольствоваться только самым лучшим. Это я знаю от директора по строительству Николая Кирюхина. Но он это понятие трактует шире. Для него самое лучшее – это ещё и самое надежное.
А с Кирюхиным не поспоришь – он лучший строитель Перми. Так сказал мне Александр Репин.
Откуда берутся незаменимые
ОДИН пермский чиновник от градостроительства снисходительно объяснил мне, почему в облике отдельных зданий и в контурах улиц он никогда не пытается уловить творческий почерк конкретных людей. Для него градостроительство – это удел больших корпораций, а не отдельных личностей. И какой смысл кого-то выпячивать, если в таких корпорациях отдельная личность начисто растворяется?
Спорить не стану, кто-то, может, и растворяется. Но у меня перед глазами другой пример, когда крупная корпорация несет на себе вполне определенные черты людей, которые тут работают. Мне об этом напомнили строители из бригады Андрея Пищулева. Они только что закончили в тот день выкладывать керамической плиткой полы на одном из этажей двадцатипятиэтажного дома по улице Окулова, 18. Закончили и сразу же закрыли плитку листами картона. А я, добравшись до их этажа, не разобрался и стал, как вежливый гость, вытирать об этот картон свою обувь.
– Полегче! – заворчал кто-то из рабочих. – Рисунок на плитке пострадать может…
Это показалось мне удивительным: плитка была с рисунком. Но ведь это не жилое помещение? С какой стати выкладывать его красивой плиткой? Да ещё так переживать за рисунок? Тут и объявился бригадир Пищулев:
– Служебные помещения, между прочим, мы тоже для людей строим. А всё, что предназначено для людей, требует трепетного отношения…
Мне показалось, я уже слышал где-то эти слова. Потом вспомнил: ну, конечно, так обычно говорит Николай Кирюхин, директор компании «Сатурн» по строительству. Это, можно сказать, формула Кирюхина: всё, что строишь для людей, надо строить трепетно.
Понятно теперь, почему в «Сатурне» есть незаменимые. Здесь на человека смотрят не как на абстрактную рабочую силу. И видят не какие-то штатные единицы, не толпу, в которой все на одно лицо. Нет. Здесь различают людей, присматриваются к их способностям и талантам. Потому что абсолютно бездарных людей, наверное, не бывает. И в том, собственно, и состоит искусство управления, чтобы создать на производстве такие условия, при которых максимальное число людей могло бы проявить свои способности и таланты. И за эти таланты здесь их уважают и ценят. Не стесняются называть жемчужинами.
Про жемчужины я услышал от главного архитектора «Сатурна» Игоря Лугового. Он руководит специализированным подразделением «Арт-проект», где собраны архитекторы и проектировщики, и убежден, что умением творить эти люди выделяются в своей профессиональной среде, как настоящая жемчужина среди обычной бижутерии.
А еще в «Арт-проекте» невольно обращаешь внимание, как часто и как охотно эти люди готовы оценить чужую работу выше своей собственной – в этом они ничуть не уступают Владимиру Алябышеву. К примеру, рассказывал мне Игорь Луговой, насколько важно архитектору создать для своего здания запоминающийся образ. Или, как выразился Луговой, образ суперзапоминающийся. И тут же добавил, что это задача архитектуры. А есть ещё сверхзадача. Это когда суперзапоминающийся образ создается суперпростыми средствами.
Но почему обязательно простыми? Или он исходит из аксиомы, что всё гениальное очень просто? Не без этого. Но главный аргумент в пользу простых средств у него другой: сложные архитектурные формы труднее будет воплотить строителям и монтажникам. А потом такое здание будет гораздо сложнее эксплуатировать.
Или начинает складываться у Лугового интересное решение какого-то узла. А он вдруг откладывает карандаш и отправляется к главному конструктору Светлане Кочетовой, чтобы выяснить, можно ли увеличить выступ консоли при такой нагрузке? А Кочетова глянет и ответит уверенно: «Можно». Или, если сомневается, скажет:
– Надо прикинуть.
И примется со своими конструкторами делать предварительный расчет, чтобы точно сказать, какой выступ консоли в этом узле будет предельным.
А ведь во многих других фирмах архитекторы и проектировщики работают совершенно иначе. Закончит архитектор своё задание и только тогда передаёт работу в другие отделы: конструкторам, специалистам по вентиляции, по электротехническим и другим системам. И если не один, то другой обнаружит, что данное решение архитектора не проходит. Из-за чего работу снова возвращают в архитектурный отдел. В итоге потерян месяц, если не больше.
А проектировщики «Сатурна» всегда помнят о строителях, которых нельзя задерживать. Случается, к примеру, монтажники сочтут, что архитекторы и проектировщики слишком намудрили с каким-то узлом и это замедляет стройку. И, если они правы, Луговой с проектировщиками начинают искать оптимальное решение, и тут всем находится дело: главному специалисту по электрооборудованию Олегу Костромину, главному специалисту по системам отопления и вентиляции Маргарите Шанько, главному специалисту по водоснабжению Надежде Напольских, главному инженеру проекта Людмиле Дроновой. И главному конструктору Светлане Кочетовой – тоже. Кстати сказать, с недавних пор в группе конструкторов Кочетовой прибавилось сразу четверо работников.
Представляю, как был озадачен директор вполне, казалось бы, успешной строительной компании, когда сразу четыре конструктора решили вдруг перейти в «Сатурн». А с другой стороны давно не новость, что «Сатурн» часто удивляет миллионную Пермь. Для многих эта корпорация удивительна не меньше, чем загадочная планета Сатурн со своими знаменитыми кольцами. Не зря же астрономы причисляют эти кольца Сатурна к самым интересным и удивительным образованиям Солнечной системы. И по-разному пытаются объяснить, почему небесные тела, составляющие эти кольца, – почему они, попав в орбиту Сатурна, обрели такой яркий ореол, какого не бывает у других планет.
Но я сейчас не о небесных телах – о людях, построивших дом у Камского моста.
Ворота Прикамья по формуле «Сатурна»
ПОМНЮ, архитектор Людмила Мельникова рассказывала, как они работали над проектом этого дома. Очень интересно рассказывала и вдруг замешкалась, подыскивая слова. Возникла вполне понятная пауза. Потому что Мельникова хотела сказать об уникальном решении фасадов. Но она сама была главным архитектором этого проекта, и, естественно, не пожелала теперь давать высокую оценку своей собственной работе. Тут в наш разговор и вмешался кто-то из проходивших мимо архитекторов:
– Не скромничай, Людмила Валентиновна. Дом не просто замечательный. Такого дома в Перми еще не было. И, наверное, долго не будет…
И он тоже начал рассказывать о талантливых решениях, воплощенных в этом, чужом для него, проекте. И о том, какая любопытная ситуация стала складываться вокруг этого дома ещё на стадии строительства.
Впрочем, этому я и сам был свидетель: на этажах еще работали отделочники и другие специалисты, а в городе уже вовсю говорили об этом доме как о знаковом для Перми. Знаковом не только по архитектурной выразительности. Но и по технологическим новшествам, которые применили здесь строители «Сатурна», – а в Перми сегодня не найти другого многоэтажного жилого здания с таким обилием конструктивных достижений. И подобные достижения реализованы в этом доме комплексно. Или, как говорят конструкторы, массировано.
А в «Сатурне» с самого начала так и было задумано. Ведь дом построен на том месте, которое в генеральном плане Перми обозначено как «Ворота Прикамья». Под этими воротами генплан подразумевает «общественный городской центр в сочетании с современными жилыми комплексами и выразительными силуэтами, размещенными в ключевом месте при въезде с Камского моста в левобережную часть Перми».
Так должно быть, но пока что о выразительном многофункциональном архитектурном ансамбле говорить рано: тут должна вырасти целая группа высотных зданий. И всего лишь одна единственная площадка отведена здесь «Сатурну». Так что архитекторы и строители «Сатурна» свою часть, можно сказать, сделали. А три соседних квартала отданы другому застройщику, причем никто сегодня не может сказать, когда он реализует свои планы. И впечатление такое, словно в «Сатурне» эту ситуацию предвидели. Не потому ли этот высотный дом издали напоминает как бы две поставленные впритык элегантные башни? Тут тебе и символ смыкания Европы с Азией, и напоминание о двух берегах Камы, соединенных здесь мостом.
Но, похоже, было изначально ещё одно соображение: архитекторы не хотели, чтобы самое высокое на берегу Камы здание напоминало одинокий столб. Выходит, они опасались, что полновесные «Ворота» появятся здесь не скоро?
К тому же «Сатурн» своим домом у Камского моста настолько высоко поднял планку, что другому застройщику теперь трудно будет работать на таком уровне.
Рассказывали мне, как рождался в «Сатурне» образ этого дома, призванного стать своего рода визитной карточкой Перми. Они и этажность здания определили именно с этой точки зрения: если рассматривать панораму города с камского берега, то виден большей частью равномерный «слой» с отдельными «всплесками» двадцатиэтажных зданий. И они не по одному разу побывали на этом месте: и учредитель «Сатурна» Александр Репин, и директор по строительству Николай Кирюхин, и архитекторы Игорь Луговой и Людмила Мельникова. Смотрели, думали, набрасывали разные эскизные варианты…
Так рождалась идея элегантных сдвоенных восьмидесятиметровых «башен».
А главный архитектор «Сатурна» Игорь Луговой еще ассоциирует эти башни с двумя ладонями, придвинутыми друг к другу в теплом восточном приветствии. Многие пермяки уже успели проверить: откуда ни смотри на эти элегантные башни, – с камского ли берега, с городской ли эспланады, или из посёлка Верхняя Курья, – они неизменно создают эффект эмоциональной окраски. И этот эффект усиливается, благодаря едва заметному уступу, которым две части дома то ли разъединяются, то ли, наоборот, друг с другом сходятся, как берега Камы. Работают на этот эмоциональный эффект и сплошные стеклянные фасады со сложной поверхностью. Причем это вовсе необычные стеклянные фасады – их составляет остекление лоджий, прозрачное изнутри и отражающее солнечный свет снаружи.
Добавляет «тепла» и цветовая отделка фасадов композитными материалами – этот выбранный архитекторами оттенок носит название «шампань»: красивый, светло-серебристый, с намеком на золотистый отлив. Причем фасады двух первых этажей отделаны еще и гранитом теплого бежево-розоватого оттенка.
Словом, со всех сторон смотрится эта своеобразная визитная карточка Перми очень красиво. И только профессионалы знают, как непросто было «поставить» этот дом на высоком берегу таким образом, чтобы фасады его смотрели на Каму. Казалось, сами нормы – архитектурные, санитарно-технические, противопожарные – обрекали авторов проекта на весьма невыгодное решение: нормы требовали, чтобы в сторону реки были обращены лестничные клетки жилых секций.
– Мы очень долго над этим бились, – вспоминает главный архитектор проекта Людмила Мельникова, – и все-таки нашли оптимальное решение.
Еще бы. Они так умудрились разместить лестничные клетки между двумя башнями, что три фасада жилых секций из четырех смотрят на Каму.
Такому решению могут позавидовать многие пермские архитекторы.
Соответственно задуманы и конструктивные особенности остекления квартир и лоджий, чтобы в самом центре города избавить жильцов от неизбежного шума и суеты. Добавьте к этому «французский» формат окон, которые идут от самого пола. Добавьте свободную планировку жилых помещений; в иных квартирах обзор панорамы составляет 270 градусов. Добавьте полностью механизированную систему вентиляции дома, – до сих пор подобные высокоэффективные системы применялись только в административно-общественных зданиях. Добавьте так называемые теплые полы, в которых «спрятана» система отопления, позволяющая регулировать микроклимат в квартире. Добавьте двухуровневую подземную автостоянку с количеством машиномест, превышающим число квартир в доме…
Словом, никто из других компаний Перми не может пока что похвастать такой новостройкой.
Оно и понятно. Ведь у этого дома совершенно особая основа. И дело не только в том, что здание у Камского моста опирается на громадную монолитную плиту, а более прочного основания для высотных домов наука пока что не придумала. Но плита, толщина которой составляет почти метр, – это требование технологии монолитного домостроения, которую проектировщики и строители «Сатурна» внедрили в Перми. А речь ещё о другом основании, о монолите абсолютно другого рода, отличающем все новостройки «Сатурна». Этот особый монолит можно выразить той самой формулой: всё, что строишь для родного города, надо строить трепетно.
А по-другому они не работают.
Глава шестая
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ
Трест, отлаженный, как швейцарские часы
ОН смотрел на меня внимательно и спокойно. Словно за окнами прорабского вагончика не грохотала громадная стройка. Словно разговор наш не прерывали то и дело нетерпеливые звонки телефона.
А тут еще в прорабскую ввалился кто-то из бригадиров и зашумел с порога насчет сварщика, который хоть кровь из носу, но должен закончить на втором фундаменте арматурную сетку. И насчет экскаватора, который надо обязательно перебросить. И немедленно решить с машиной под арматуру, иначе…
– Правильно, – спокойно сказал прораб Шишкин. – Начинай заливать бетон.
Бригадир кивнул и не стал уточнять насчет машины. Они понимали друг друга с полуслова. Впрочем, об экскаваторе и машине я уже слышал и видел: прораб Сергей Шишкин при мне решил эти вопросы по телефону. Решил с упреждением, не дожидаясь, пока заявится бригадир.
И теперь прораб был уверен, что рабочий ритм, заданный с утра его участку, обеспечен вплоть до обеденного перерыва. Допустим. А после перерыва? А к этому времени он собирается внести кое-какие коррективы в сегодняшнюю схему. С таким расчетом, чтобы еще и на завтра хороший задел обеспечить.
Словом, всё у этого молодого прораба четвертого строительно-монтажного управления было продумано, просчитано и расписано будто по часам. А рядом работали бригады управления механизации. За ними – бетонщики второго строительного управления. И успех каждого звена на этом тесном технологическом «пятачке» зависел во многом от работы соседей. И, естественно, у мастера второго стройуправления Игоря Мингалева бетонирование фундаментов тоже двигалось размеренно, будто по часам.
Собственно, это Мингалев первый заговорил о часах. Рассказывал мне, насколько слаженно работают инженерные службы треста. И сказал, что они действуют как часы. А потом подумал и добавил:
– Хорошие швейцарские часы.
Тем интереснее было взглянуть на стройку его глазами. Ведь в седьмом тресте он один из самых молодых инженеров. Это прорабу Шишкину в тот момент было «уже» близко к тридцати. А мастеру Мингалеву – только двадцать четыре года. При этом нетрудно было заметить, что оба они своей подчеркнуто спокойной, я бы сказал, интеллигентной, уверенностью, оба вольно или невольно подражают генеральному директору треста Борису Орлову. Правда, Игорь Мингалев сразу признался, что пока только постигает высокое искусство управления. Или, как он выразился, проходит тут школу жизни.
Об этой школе он не раз слышал еще во время учебы на строительном факультете государственного технического университета. Там преподаватели частенько напоминают студентам, насколько это для инженера-строителя предпочтительно: пройти после знаменитого пермского политеха не менее знаменитую школу седьмого треста. Такого инженера охотно примут на высокую должность в любой фирме.
Но о другой фирме пока говорить рано: Мингалеву в этой школе интересно. На днях они у себя на участке поставили рекорд: приняли и залили за день двести тринадцать кубометров бетона. Иные из его однокашников по строительному факультету за целый год столько не делают в своих фирмах.
И, по правде сказать, Игорю порой самому не верится, что он настолько уверенно выдерживает такие темпы работ. Да еще на столь сложном объекте, как установка изомеризации «Пермнефтеоргсинтеза». По соседству с его бригадой работали тогда бетонщики другой строительной фирмы – достаточно известной, между прочим. Заливали точно такие же фундаменты. И безнадежно отстали от строителей седьмого треста.
Теперь Мингалев посматривал на этих соседей с некоторой снисходительностью. Как и его молодые коллеги в белых защитных касках.
Это неписаный закон стройки – рядовые рабочие трудятся в оранжевых или красных касках. А руководители – в белых. На стройках седьмого треста это бросается сегодня в глаза: обилие молодых людей в белых касках.
В других строительных организациях часто жалуются: плохо, дескать, идёт на стройку нынешняя молодежь. Стремительное старение кадров становится одной из самых острых проблем России. А седьмой трест эта проблема будто стороной обходит, раз молодежь со студенческой скамьи мечтает пройти эту школу.
И Мингалев в ней – из лучших учеников.
– Один из самых прилежных, – поправил он меня.
Но прилежность – далеко не единственная его черта. Он честолюбив и не скрывает этого. Если выбрал дело по душе, то надо быть в нём первым, а не плестись где-нибудь в середине. Поэтому мастер второго стройуправления Мингалев решил без отрыва от производства поступить на экономический факультет университета. Плюс к этому взялся за изучение психологии.
А что? Если хочешь дорасти до строительного «генерала», то должен научиться эффективно управлять таким производством. А производство – это, прежде всего, люди. И тут мало знать тонкости технологии и экономики. Тут еще надо понимать движения человеческой души.
Этому тоже учит школа седьмого треста.
СЕДЬМОЙ трест – один из самых прославленных в Прикамье.
Три его работника были в разное время удостоены высшей в стране награды – звания Героя Социалистического Труда. Двое из них рабочие: бригадир Алексей Кознев и маляр Наталья Политова. Третьим Героем стал известный строитель Геннадий Филимонов, руководивший трестом два десятилетия – до начала восьмидесятых.
Многие до сих пор помнят, как бригадиры гремевших тогда на всю страну ударных строек Прикамья называли Филимонова батей. На фронте такое прозвище обычно давали комбату, которого солдаты не только уважали, но и любили. И за которого готовы были броситься в огонь и воду.
А нынешний генеральный директор треста Борис Орлов, говорят, собирался одно время стать танкистом. Но потом выбрал профессию строителя, – как отец. А трест возглавил десять лет назад – в самый тяжелый период, когда вся строительная отрасль переживала сильнейший кризис. Да еще вдобавок ко всем бедам опасная болезнь сердца подкосила тогдашнего генерального директора треста Семена Вайсмана. О фанатичной преданности Вайсмана своему коллективу ходили в тресте легенды. Именно Вайсман в пору повального растаскивания строительного комплекса не дал разрушить седьмой трест, расколоть его на множество карликовых предприятий. Вайсман сумел сохранить предприятие как единый живой организм. Но этот организм был тогда в состоянии, близком к инфаркту.
И когда больной Вайсман убеждал начальника четвертого строительно-монтажного управления Бориса Орлова возглавить трест, то отлично сознавал, какую тяжелую ношу на него перекладывает.
Наверное, именно так бывало на войне, когда тяжело раненный комбат передавал командование в смертельно трудную для себя и своих людей минуту. Куда легче в такой момент спрятаться в окопе, нежели вызывать огонь на себя, принимая командование и ответственность за сотни людей.
Принимая трест, Борис Орлов получил «в наследство» длиннющий список кредиторской задолженности. Одних долгов за электроэнергию набралось одиннадцать миллиардов рублей. А надо было думать о развитии производственной базы. И обновлять оборудование и технику, без чего строительный трест выжить не может.
И Орлов добился своего. Всего за несколько лет обновил технологический автотранспорт. В числе других объектов собственной базы треста запустили цех по производству оконных и дверных блоков. Построили бетонорастворный узел. Провели реконструкцию столярного цеха. Запустили в работу лесопильную линию, чтобы полностью закрыть потребности строек в пиломатериалах…
И в самое трудное время, когда приходилось выкраивать каждый рубль, чтобы вложить его в развитие производства, Борису Орлову не приходило в голову сбросить с трестовского корабля санаторий-профилакторий «Сосновый бор». Кому-то это казалось труднообъяснимой блажью генерального директора.
Ведь Орлов как раз выстраивал тогда в тресте математическую модель управления финансами, ресурсами и производством. Алгоритмом такой модели является постоянный экономический анализ, и с формальной точки зрения иного финансиста собственный санаторий треста – это гораздо хуже, чем непрофильное производство. Потому что непрофильное производство может приносить немалый деньги, а «Сосновый бор» – ничего кроме расходов. Значит, избавляться от санатория необходимо в первую очередь.
Многие именно так и пытались выжить в кризисные для строительной отрасли годы. В итоге Пермский край потерял за последнее десятилетие три десятка профилакториев. Давно ликвидировали свои здравницы Пермское проектно-строительное объединение, домостроительный комбинат, шестой строительно-монтажный трест, завод ЖБК-3…
А Борис Орлов при любом раскладе видит смысл лишь в такой модели управления, в центре которой неизменно находится человек. Поэтому здравница седьмого треста продолжает работать. Строители даже взялись возводить в своем санатории новый корпус, где будет спортивно-оздоровительный центр с сауной, бассейном и тренажерным залом.