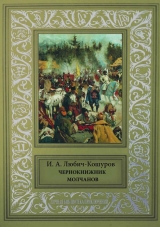
Текст книги "Чернокнижник Молчанов [Исторические повести и сказания.]"
Автор книги: Иосаф Любич-Кошуров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
ГЛАВА XIX.
По вечерам Молчанов входил в устланную коврами и богато обставленную комнату в занимаемому им доме и отвешивал самый церемонный поклон, сидевшей в этой комнате красивой, худощавой девушке с льняными волосами и голубыми глазами.
На девушке было голубое бархатное платье польской аристократки.
Лицо у неё было маленькое, почти детское, с румянцем на щеках, таким нежным, что казался каким-то умирающим, как последний отблеск зари весной в яблоневом, только что покрывающемся цветами саду.
Молчанов называл ее то «матушка-царица», то «ваше пресветлое величество».
И когда он говорил это, заря на её белом худощавом лице понемногу начинала рдеть ярче, становилась не вечерней, не умирающей зарей, а смеющейся утренней и вспыхивала улыбкой по розовым губам.
И она протягивала Молчанову руку, – нежно, с синими жилками и тонкими пальцами, – для поцелуя.
И он поцеловал эту руку, став на одно колено.
А сам думал в это время, что, должно быть, большой был затейник этот польский пан, соблазнивший Азейкину дочь и, должно быть, от тоски по какой-нибудь оставленной на родине панни, обучивший хорошенькую московку всяким таким штукам.
Он никогда не запирал плотно двери, когда бывал здесь, в этой комнате, обставленной так роскошно…
Он знал, что все равно за ним будет сладить его подруга, та прекрасная и вместе жуткая, как огонь нездешнего мира, со взглядом еще более безумным, чем взгляд этого ангела с льняными волосами.
Они жили все вчетвером: Азейка, его дочь, Молчанов и его еврейка.
Молчанову иногда, казалось, что у него все мутится в голове, когда он входит к Азейкиной дочери.
Будто и впрямь там ожидал его ангел, хотя он и понимал, что эта девушка, похожая на зарю то вечернюю, то утреннюю, – только кукла. Обыкновенная заводная кукла, отличавшаяся от обыкновенной куклы лишь тем, что была живая.
Кто-то ее завел на этот особый лад, и она стала на этот особый лад, совсем ей несвойственный, жить, говорить, двигать руками, качать головой, сиять глазами, улыбаться и плакать.
Но на него веяло от этой живой картины чем-то грустносияющим, чем-то, что хотелось подольше задержать в себе.
И хотя он старался отогнать это очарование, оно, грустносмеющееся светило ему даже тогда, когда он уходил отсюда, в блеске голубых глазах и в лице, озаренном потухающим светом вечерней зари.
После визитов к Азейкиной дочери он всегда был задумчив.
Заглядывая в его глаза, его еврейка спрашивала его:
– Ну, что?
– Все идет как следует.
– Все?
– Да, все…
– Как же ты ее теперь называешь?
– Мариной.
– А она откликается?
– Начинает откликаться… Главное, взять ея душу в руки.
И еще мрачнее у него становились глаза.
Она вздрагивала.
– Как взять душу?
– Ну, влезть в душу… Ну, как это я тебе расскажу?.. Повеличай тебя этак изо дня в день да этак с годик царицей… Ну, а она что?.. У ней… Куда ее дунь – туда и полетит.
Вместо того, чтобы вернуть Азейкину дочь к сознанию, Молчанов, наоборот, старался затемнить сознание и помрачить его новой идеей чем та, которая Азейкиной дочерью владела.
Здесь не место распространяться долго о той секте, к которой он принадлежал… Он верил, что, призывая нечистую силу, можно «вливать» свои мысли в душу человека, если только человек не станет сопротивляться.
Азейкина дочь не сопротивлялась.
Когда он устремлял в её глаза свой взгляд, она не могла отвести глаза в сторону.
И не мигала.
И потом не могла уже произвести никакого движения.
И сидела как очарованная, с полуоткрытым ртом, с почти остановившимся дыханием.
Сковывал ее какой-то полустолбняк, какое-то полузабытье.
И он, смотря ей в её почти безжизненные глаза, начинал говорить.
Он рассказывал ей, как она вместе с мужем бежала из Москвы, как их приютили добрые люди в Польше.
И называл ее «матушка-царица».
Она потом, на другой день, рассказывала ему, что все это она видела во сне. А он возражал, что во сне она видела, что она королевна, тогда как на самом деле она царица.
Крепко тонкими своими пальцами стискивала она тогда голову и смотрела мучительным, страдающим взглядом прямо перед собой. И спрашивала этим взглядом (это от него не могло укрыться), кто же она: королева или царица.
ГЛАВА XX.
Молчанов, хотя и бывал у царика на больших обедах и, хотя, по-видимому, пользовался его милостью, всё-таки не мог не заметить, что царик держится с ним настороже.
Этого не было бы, может быть, если бы он привел с собою не сто запорожцев, а сто стрельцов.
Царик даже раз как-то намекнул ему на это.
Казаки в Московской земле, про которую они говорили, что взяли ее на саблю, не поляки, а именно они северские люди, да запорожцы иначе не назывались, как ворами, душегубцами, дорожными заставниками.
И хотя царик не отказывал им, когда они просились к нему на службу, он понимал, что с ними и он становится в Московской земле не царем, а атаманом очень большой разбойничьей шайки.
Оттого он и был всегда так сдержан с Молчановым. Он сознавал все больше и больше, что тот говорил ему правду. Но уже нельзя было запереть ворота Калуги для казаков…
В Калуге их набралось порядочная сила, и случился бы бунт, если бы он прогнал от стен Калуги какую-нибудь из казацких шаек, ищущих у него службы, пристанища и покровительства.
Молчанов все это хорошо понимал и старался завести побольше знакомств между наполнившими Калугу казаками.
Заговаривал он и с простыми рядовыми казаками, и с их «ротмистрами» и «полковниками», как величали себя их главари, люди, по большей части ничем, кроме военных доблестей, от простых казаков не отличавшиеся.
Среди них было много разумных людей, разбиравшихся хорошо в том, что на их глазах происходило.
Они все держались начеку и чего-то ждали.
И нельзя было сказать, что может произойти сегодня или завтра.
Но уже пахло кровью, дышало близкой междоусобицей.
Когда «ротмистры» и «полковники» ложились спать, они по старой привычке подсыпали на хлопотницы пистолетов свежей пороховой мякоти. Но делали это более внимательно, чем делали обыкновенно. Откуда-то пришел в Калугу слух, будто живущая у «царика» полька совсем не Марина, дочь Мнишек, а швея одного богатого польского пана.
Про царика и без того знали, что он не сын московского царя, а неведомый проходимец.
А настоящий Дмитрий царевич и настоящая Марина скрываются где-то в лесах поблизости.
Этот слух смутил казаков.
Они готовы были изо всех сил поддерживать своего царика, выставляя его настоящим, прирожденным государем, и другого такого царика им было не нужно.
Но вместе с тем в этом слухе о том, что Марина – не Марина, а польская швея, было что-то новое, чем нельзя было не заинтересоваться и что казалось весьма правдоподобным. Разве, правда, не могла Марина выбрать себе в подставные мужья кого-нибудь получше?
Но, оказывалось, ей было не для чего прибегать к такому обману. Её муж остался при ней. По слуху, неведомо кем пущенному в Калуге, Маринина мужа из Москвы умчали «еле жива» какие-то близкие ему московские дворяне и отходили его, укрыв в лесах на русско-польской границе.
И будто туда же привезли и Марину и с ней сделался припадок, когда она увидела истинного своего супруга израненного и окровавленного.
И долгое время от жалости к мужу она была не в своем уме, а теперь поправляется.
Нашелся даже один казак, который рассказывал, будто раз ночью, когда он куда-то шел, подъехали сани, из саней выскочили двое, тоже казаков, схватили его, закутали чем-то голову так, что он ничего не мог видеть, и повезли.
И долго возили, – может быть, час, может быть, два, а может, и больше.
И потом остановились около какого-то жилья, что можно было определить по собачьему лаю, раздававшемуся, должно быть, из подворотни.
Тут вывели его из саней и куда-то повели сначала, должно быть, по двору, а потом по порожкам.
И, наконец, раскутали ему голову и объявили, что ничего ему дурного не сделают, а привезли его для того в лес, чтобы он увидел настоящую Марину.
И потом ввели к ней, к Марине.
– И ты видел? – спрашивали у него.
– Видел. – отвечал он. – Сперва я было подумал, что это меня схватили черти и я подох, и это уже она там, на том свете… Будто это не она, а её душа в голубом бархате. И тоже не я стою напротив, а моя душа… Да вы что глядите? Об этом нельзя рассказывать, как следует, потому что сразу видно, кто царица, а кто… Сидит – как росинка. И вот, ей Богу, никто не толкал, – сам стал на колени.
И рассказывал дальше казак, что запорожцы, которые его схватили, говорили этой настоящей Марине «матушка-царица», и она каждому дала поцеловать руку.
Этот слух о настоящей Марине, скрывающейся недалеко от Калуги, достиг в конце концов и до ушей самого царика. Царик разгневался, потребовал, чтобы к нему привели казака, которого возили к якобы настоящей Марине.
Но казака не нашли.
Потом то же самое, что случилось с этим казаком, случилось и с близким родственником Уруса.
Его тоже ночью схватили молчановские запорожцы, возили чуть не полночи по городу и затем доставили на двор к Молчанову.
По городу возили его, разумеется, с крепко-на-крепко закутанной головой, чтобы он ничего не видел и не слышал.
И он также рассказал на другой день Урусу, что видел девушку или женщину, богато одетую, с русыми волосами, которая называла себя Мариной, дочерью Мнишка.
Потом про это же самое Урусов родственник рассказал и самому царику. А тот, недолго думая, велел его заковать в колодки и посадить в подвал на цепь.
Там он, этот Урусов родственник, и умер очень скоро неизвестно от чего.
Даже к самому Урусу царик стал относиться совсем иначе, чем до сих пор относился. Но это с него понемногу сошло, и он снова приблизил к себе Уруса.
Но иногда ему становилось жутко наедине с Урусом.
Урус, должно быть, не верил, что его родственник умер своей смертью, и когда эта мысль приходила ему в голову, он не мог ее спрятать от царика: она горела в его глазах совсем волчьей злобой, как красный уголь. И царику в эту минуту было не по себе, и он думал, что и с Урусом нужно сделать то же самое, что он сделал с его родственником.
ГЛАВА XXI.
Ночью на цариков двор прибежала женщина в одном только платке, накинутом на плечи, и в теплых валеных сапогах.
Она стала кричать дворянам и татарам, сторожившим двор, что ей необходимо видеть царицу.
Ее хотели допросить, но она выпрямилась и заявила твердо, что у неё есть дело только до царицы, и никому другому она не скажет того, с чем пришла.
Она била себя кулаком в грудь и кричала хрипло и исступленно, чтобы ее проводили к царице сейчас же, так как время не терпит и может случиться большое несчастье.
Марину разбудили.
Женщина упала перед ней на колени.
– Говори! – сказала Марина.
Она стала выкрикивать так же исступлено, как перед охранявшими двор татарами и дворянами:
– Не подходите ко мне близко: я проклятая!.. Я знаете с кем живу? С Молчановым. Он меня увез от отца… Он колдун…
Она почти задыхалась.
– Он сейчас мне сам признался.
Она перевела дух, провела по мокрому потному лбу ладонью и слабо замахала рукой, согнув руку в локте, прижав ее к боку и шевеля только кистью.
Тихо она сказала:
– Подождите, я сейчас.
И продолжала теперь уже более спокойно:
– Он заколдовал одну девку так, что она верит, что она – вы.
Тут она протянула руку вперед и указала на Марину.
– Он говорит, что вы самозванка, а она дочь ясновельможного пана Мнишка. И это казаков возил к ней он и ее им показывал.
Марина закусила губу.
– Почему же ты этого не сказала раньше?
– О, раньше… – произнесла она, и что-то радостное и вместе скорбное блестело в её глазах.
И радость сейчас же потонула в скорби.
– Раньше я не могла, – сказала она.
– Почему?
Она быстро встала с колен.
– Но сегодня, – крикнула она, – я у ней выпытала все! Она ведь безумная… Она все сказала!
И она сжала руки в кулаки, и глаза у неё загорелись злобой.
– Собака! – произнесла она.
И вдруг у неё выступили слезы и голос стал тихий.
Она проговорила:
– Теперь уж ничего нет.
И прислонилась к притолке, хватаясь за притолку сзади обеими руками, чтобы не упасть.
Марина подступила к ней и сказала:
– Он тебе изменил?
Она кивнула головой и с глухим стоном поднесла ко лбу руку.
– Ничего, ничего нет, – прошептала она опять чуть слышно.
– А это давно?
Она отрицательно закачала головой из стороны в сторону и молчала. Ей не давали говорить слёзы, смочившие все её лицо.
Переждав минуту, она сказала:
– Её уж нет…
– Кого?
– Этой девки.
Опять полились у неё слезы.
– Её совсем нет, – сказала она.
– Значит, ты… Как совсем нет?
– Ага, ого, – заговорила она, кивая головой, – я ее зарезала…
Марина злобно сказала:
– И поделом.
И приказала, чтобы подали воды.
– Выпей, – сказала она женщине, сама, подавая ей ковш.
Она стала пить воду, взяв ковш в обе руки, жадно глотая воду и всхлипывая.
В соседних комнатах послышался шум, стук тяжелых сапог; хлопали двери.
Вошел татарин, бледный и испуганный.
Он остановился на пороге и блуждал глазами по комнате, ища Марину.
Она стала перед ним и приложила руку к сердцу.
Глядя на него, она тоже побледнела.
– Ну, что еще? – сказала она.
В глазах у татарина был ужас. Он не мог заговорить сразу. Потом справился с собой и сказал:
– Убили…
И еще шире разлилось выражение ужаса в его лице.
Марина топнула ногой и крикнула:
– Кого? Говори!
– Царя! – ответил татарин.
Он еле держался на ногах.
И вдруг он упал на колени, будто ноги у него подкосились сами собой.
– Не губи! – произнес он.
Обеими руками он схватился за голову, закрыв лоб и глаза. И весь он вздрагивал, приподняв плечи и вобрав в них голову.
– Кто? – крикнула она хрипло.
Он ответил, не отнимая рук от глаз и не поднимая головы:
– Урус.
Царик в этот день поехал с Урусом на охоту.
Там Урус и застрелил его как-будто бы нечаянно из пистолета.
Урус показывал ему свой новый пистолет, а царик, в это время уже достаточно напившийся, стал уверять, что он и со своим братом сделал бы то же самое, что сделал с Урусом родственником, если бы он вздумал распространять крамольные слухи.
Тут и грянул этот выстрел, сразивший царика насмерть.
***

Светила опять луна, как в ту ночь…
Марина, простоволосая, в одном белье, выбежала с факелом на улицу и стала кричать…
В Калуге во всех церквях гудел набат.
Светила опять луна, как в ту ночь, когда молчановские казаки искали квартиру для своего пана.
Отовсюду выбегали вооруженные люди.
Сначала пронесся слух, что убита царица.
Но Марина, простоволосая, в одном белье, выбежала с факелом на улицу и начала кричать, что убили её мужа, и просила мести. Так как убийцей мужа она называла Уруса, то казаки бросились на татар. Все они почти были перебиты, и в ту же ночь Марина ускакала из Калуги верхом на лошади, в сопровождении всего нескольких казаков.
Дрались с татарами и молчановские запорожцы. Но Молчанова не было между ними. Он тоже, вместе с другими московскими дворянами, принимал участие в охоте, устроенной цариком в этот роковой для него день… Как только он узнал, что царик убит, он вскочил на коня и погнал его в Калугу.
Он предвидел, что должно произойти в городе, как только там станет известно, что царик убит.
И убит татарином.
В Калугу он въехал почти в одно время с ловчими и поскакал по пустым улицам к себе чтобы вооружиться и собрать своих запорожцев.
На крыльце его встретил Азейка.
Он дожидался, пока Молчанов слез с лошади, и только тогда сказал:
– Стерва твоя-то ее убила.
Молчанов вздрогнул и спросил глухо:
– Кого?
– Дочку-то, – ответил он.
Молчанов вошел в дом. Он не долго там оставался.
Когда он вышел оттуда, он нагнулся к уху Азейки (Азейка сидел на ступеньках крыльца) и прошептал:
– Прощай, Азейка!..
Азейке показалось, будто он хотел его поцеловать, но
почему-то этого не сделал.
Потом Молчанов вскочил на коня и крикнул в воротах: «А этой собаке я отомщу же!» И во всю прыть поскакал к городским воротам.
Он уехал из Калуги, и никто не знал куда он уехал.
Живая статуя
(Из украинских сказаний.)

Казак Кочерга ехал к пану Вильчинскому.
Раньше Кочерга служил у другого пана, очень богатого и знатного, но несколько дней тому назад этот пан призвал его к себе и сказал:
Слушай, Кочерга! Я знаю, что все вы у меня тут лежебоки, и вам нечего делать: сейчас, например, ты что делал?
– Ничего. – ответил Кочерга.
– То-то, – сказал пан и потом продолжал:
– Леность есть мать всех пороков, и поэтому я подыскал для тебя подходящее занятие у моего друга, пана Вильчинского.
Тут он на минуту умолк, а затем, бросив на Кочергу быстрый взгляд, спросил совершенно неожиданно:
– Кочерга, ты не боишься ведьм?
– Насчет ведьм, это, видите, – сказал Кочерга, сделав шаг вперёд и погладив давно небритый покрытый седыми колючками подбородок, а потом так и оставив руку на подбородке. Его маленькие серые глазки прищурились, и на лице появилось такое выражение, как будто он собирался объяснить пану что-то такое, в чем пан ничего не смыслил (хоть он и пан), а он, Кочерга, все очень хорошо понимал, хоть и простой казак.
Казалось даже, что на этот раз Кочерга очень доволен, что он казак, а не пан, и пан не понимает, а он понимает, и рад, что ему представился случай выказать перед паном свои познания.
Про обычную почтительность при разговоре с паном он, кажется, даже позабыл в эту минуту, и, продолжая поглаживать свой подбородок большим и указательным пальцами, заговорил, чуть-чуть краснея и заикаясь:
– Это, видите… О, это такая штука!.. Есть ведьмы разные: есть черные, и не потому они чёрные, чтобы были черными, а так называются. Скажем, например, магия: черная и белая… Понимаете?..
При этом он вздернул брови, при чем кожа на лбу у него собралась в длинные морщины, от одного виска до другого. Он умолк и секунду смотрел на пана вопросительно, плотно сжав тонкие бесцветные губы.
– Потом, – продолжал он, и сейчас же морщины на лбу у него разгладились, и седые брови, мигнув, опять нависли над глазами, – потом, например, скажем так… Брови Кочерги еще больше надвинулись над глазами, над переносицей резко обозначились треугольником две короткие морщинки, лицо сразу стало мрачно, и даже самый голос изменился. – Есть самые ужасные ведьмы, – произнес он глухо, – у которых на спине – черный ремень.
Он минуту помолчал, опять уставившись пану прямо в глаза, и потом добавил все так же мрачно:
– Во всю спину…
Согнувшись чуть-чуть на бок, он занес руку назад и коротким движением провел у себя оттопыренным большим пальцем вдоль спины.
– Во всю спину, – повторил он, снова взглянув на пана.
Он пристально глядел на пана. Он искал в его лице хоть тень недоверия или изумления, хоть что-нибудь.
Ни лицо у пана было точно деревянное; как всегда, бледное, немного с желтизной, с большим гладким лбом, с мутными глазами, полуприкрытыми немного припухшими веками без ресниц, и с бледными губами.
Он даже не глядел на Кочергу.
Кочерга отошел к притолоке и, прислонившись к ней, сказал, сдвинув брови, отвернув лицо в сторону и глядя вниз:
– Конечно, есть, которые и не верят…
И он усмехнулся немного презрительно, все так же в сторону и все так же смотря вниз.
– А ты веришь? – спросил пан.
В ответ на это Кочерга промолчал. Только лицо его стало еще мрачней – точно на него набежала туча.
Кочерга был стар и упрям, и потому, что он был стар и упрям, пан прощал ему многие вольности, какие не простил бы другим своим слугам.
Теперь пан видел, что Кочерга обиделся на него, но не придал этому значения: Кочерга постоянно ворчал; к этому все привыкли, а пан привык раньше всех, потому что в молодости, когда пану приходилось бывать в походах, Кочерга, в качестве слуги, постоянно находился при его особе.
Он и тогда был уже не молод и такой же ворчун.
– Ну, вот что, Кочерга, – сказал пан, – мы это оставим: ведьмы да ведьмы…Я знаю, что ты ничего не боишься…
– Чего же их бояться?.. отозвался Кочерга. – Татарин, например, он может бояться, потому что он нехристь, а я, слава Тебе, Господи, знаю семь молитв…
Он сделал ударение на слове „семь", очевидно, придавая этому числу особый смысл, и значительно взглянул на пана.
Пан кивнул головой.
– Знаю, знаю, – проговорил он, – ты мне рассказывал…
– И три заклинания, – добавил Кочерга.
Пан опять кивнул головой.
Поэтому-то, – сказал он, – я и хочу послать тебя к Вильчинскому…
Кочерга выпрямил стан и, сразу придав лицу сосредоточенное выражение и сдвинув брови, сказал, кашлянув в руку, уже совсем другим тоном:
– Слушаю пана.
Видно было, что он, еще не зная, что поручить ему пан, уже решил, что пан поручит ему что-то серьёзное, что можно поручить только ему, а больше никому…
И он сейчас же подумал, что пан только прикидывается, что не верит в ведьм…
Когда он подумал об этом, у него сразу пропало минутное недоброжелательное чувство к пану – словно что-то отлегло от сердца.
И он почтительно стоял у притолоки, уже не прислоняясь к ней спиной, и внимательно глядел пану в глаза.
– У Вильчинского, – начал пан, – есть старый замок. Теперь в нем никто не живет… (При этих словах Кочерга значительно вздернул брови и поджал губы, а его маленькие глазки так и впились в папа). Замок совсем развалился, но, видишь ли, в нем сохранилась одна зала с колоннами и статуями… Вильчинский хотел было перевезти статуи к себе, да это очень трудно; так ему нужно сторожа в замок, а в сторожа никто не идет…
– Понимаю, понимаю, – скороговоркой произнес Кочерга. Собственно, это было не совсем почтительно, – перебивать пана, но эти слова вырвались у Кочерги точно сами собой, точно помимо его воли.
Впрочем, он сейчас же крякнул и умолк.
– Люди говорят, – продолжал пан, – что в замке есть привидения, что эти статуи оживают и ходят, и поэтому никто не хочет идти в сторожа…
– Так я и думал, – опять, точно невольно, вырвалось у Кочерги, и он опять крякнул, как будто этим кряканьем раскаивался, что перебил пана, или произносил осуждение своей поспешности.
– Но, конечно, – сказал пан, – по всему вероятию, это враки, а если в замке что-нибудь и не так, так это там, может быть, прячутся воры…
– Воры, воры, – повторил за ним Кочерга и усмехнулся углом рта тонкой улыбкой. – Хе! знаем мы, какие это воры!.. Эх, пане, пане!..
Он почесал висок и покрутил головой.
– Но ведь ты не боишься воров? – спросил его пан.
Кочерга насупил брови.
– Ничего я не боюсь, – ответил он.
– Конечно, чего же бояться, – сказал пан, – я дам тебе три пистолета и мушкет…
Он вопросительно взглянул на Кочергу.
Кочерга стоял молча и насупившись.
– И ты, пожалуйста, не думай читать свои заклинания, – продолжал пан, – а в случае чего, прямо бей из пистолета, – а уж потом читай заклинания.
– Хорошо, – глухо сказал Кочерга.
– Так прямо и стреляй, – повторил пан, не спуская с него глаз, – потому что, – добавил он, немного помолчав, – кто ж его знает?..
Пан встал с кресла.
– Так, значит, сегодня же ты и отправишься; оружие я пришлю тебе через дворецкого.
– Пистолеты? – спросил Кочерга.
– Три пистолета о двенадцати картечах и мушкет – сказал пан и, повернувшись, направился было во внутренние комнаты, но Кочерга остановил его:
– Пане!
Пан обернулся.
– Только вы скажите старой пани, – произнес Кочерга очень серьёзно, – чтобы распорядились выдать мне кварту святой воды…
– Зачем?
– Окропить картечи и пули, – ответил Кочерга так же серьёзно и строго взглянул в лицо пану, точно предостерегая его, чтобы пан не стал противоречить.
Пан и на самом деле не стал противоречить.









