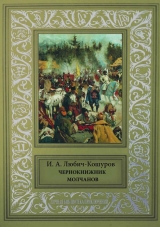
Текст книги "Чернокнижник Молчанов [Исторические повести и сказания.]"
Автор книги: Иосаф Любич-Кошуров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Глава XII.
В расстегнутом кафтане, в шапке, сдвинутой на затылок, боярин кричал Салтыкову с улицы вверх через белую каменную стену:
– Я на тебя найду управу! Ты еще погоди!
Салтыковский дом был построен как крепость, обнесен кирпичной стеной и у стены всюду были «подступы» со двора.
Салтыков смотрел на боярина, стоя на подступах, поглаживал бороду и насмешливо улыбался.
Он был виден с улицы в полпояса. На нем была высокая шапка и крытая малиновым бархатом шуба, накинутая на плечи.
Шуба была распахнута. Салтыков словно напоказ выставил из-под полы шубы руку в дорогих перстнях, которую он положил на рукоятку сабли, тоже горевшую драгоценными камнями.
Поглаживая другой рукой, тоже в перстнях и кольцах, бороду, он сказал:
– Поди сперва протрезвись….
И засмеялся благодушно и вместе насмешливо, и вместе презрительно, – как смеются довольные своей судьбой люди, уверенные в своем превосходстве над другими людьми.
– Ванюшка! – закричал боярин и заметался на месте.
– Не укусишь, – сказал Салтыков и опять засмеялся все так же: и насмешливо, и благодушно, и презрительно.
Боярин кинулся в толпу, запрудившую почти всю улицу против салтыковского дома. Было воскресенье. Обедня только-что кончилась, и народ, возвращавшийся из церквей из всех переулков, бежал сюда на шум.
В толпе блестели алебарды. Несколько стрельцов в праздничных кафтанах с этими секирами прибежали сюда прежде всех, почти в одно время, как остановились тут две тройки и из саней повыскакали вооруженные люди и стали. ломиться в ворота, и стучать в них кулаками и рукоятями сабель.
С криком и свистом гнали эти люди лошадей мимо уже снятых рогаток и кричали встречным стрельцам, чтобы шли за ними, помогать громить салтыковский двор.
И стрельцы, подобрав полы кафтанов и держа алебарды кто на плече, кто подмышкой, бежали за ними, не для того, конечно, чтобы помогать им, а, чтобы водворить порядок.
Но порядок было мудрено восстановить. И особенно это стало трудно, когда оборался народ.
Салтыкова не любили в Москве.
Протискиваясь в толпу, боярин кричал:
– Где мои? Гей! Ванюшка, Игнат Григорьев!
И вращал из стороны в сторону совсем обезумевшими от гнева и совсем почти немигающими глазами.
– Здеся мы! – раздавалось там и тут в толпе. – Православные, пропустите.
Боярич в гневе нечего не видел и не слышал, чувствовал только, что кругом него толпа. Но для него у этой толпы не было ни лиц, ни слов, ни криков.
Вдруг что-то красное метнулось ему в глаза и, сосредоточив внимание на этом красном, он сообразил, что это стрелец.
– Вот это так! – крикнул он стрельцу. – А где еще?..
Много вас собралось? Да что же ты стоишь как пень?
И охватил обеими руками застывшую у стрельца подмышкой алебарду. Стрелец тоже прихватил алебарду другой рукой.
Но боярин был силен.
– Ратуйте! – закричал стрелец н выпустил из рук алебарду.
Кругом была толпа. Стрельца сейчас же оттеснили от боярича.
Кто-то ему сказал:
– Чего горло дерешь? Слыхал, они у него троих людей зарезали, собаки.
Никто еще не понимал, зачем бояричу занадобилась алебарда, когда из кармана у него торчала ручка пистолета. Многие так и ожидали, что выпалит из этого пистолета в Салтыкова.
Но боярич подбежал к саням, прислонил к ним алебарду длинным как оглобля древком в снег, а топором на отводу и ударил по древку сверху ногой.
Древко надломилось.
Тогда он и совсем переломил его на колене; охватив затем алебарду за обломок древка, он бросился с этим оружием, так ловко и быстро, превращенным в топор, обратно.
Салтыков закричал со стены:
– Стрельцы, что-ж вы смотрите!
И быстро нагнулся.
Боярич имел в виду сбить алебардой замок на воротах и для того именно и укоротил древко, чтобы было удобнее: ворота были под низкой аркой и с алебардой как она была раньше, здесь негде было повернуться, не хватало места для размаха.
С этим именно намерением он и бросился через толпу, опять ничего не видя и не слыша.
Но Салтыкова он не мог не видеть.
И когда он его увидал и услышал его голос, он крикнул:
– А, Иуда!
И швырнул в него алебардой с такой силой, что перелетев через голову (Салтыков едва успел нагнуться), она, сверкая, пронеслась далеко в глубину двора.
– Бей его! – кричал боярич.
И опять заметался, ища чего-то около себя на снегу. Но около ничего не было.
Он опять закричал:
– Ванюшка!
Но его дворяне, во всем ему следуя, обезоруживали стрельцов, стараясь завладеть их алебардами. Дворянам помогал кое-кто из толпы, так как всем стало известно, что один из салтыковских «ближних людей», да еще не кто-нибудь, а чернокнижник и ведун, зарезал нынешней ночью троих «вьюношей».
В толпе были и старики в шубах, подпоясанных ради праздника белыми полотенцами, с праздничными расписными посошками в руках.
И старики грозили своими посошками Салтыкову и смотрели алчно, протискиваясь вперед, чтобы видеть, как будут бить этого вельможу, представлявшегося им сейчас в роде тех «злых вельмож», о которых говорится в житиях и которые, служа диаволу, всячески казнили и мучили отроков и вьюношей…
Ибо Салтыкова в народе считали тайным католиком, согласившимся с польским королем извести православную веру.
Шум, крики и галденье стояли над толпой. И вся толпа понемногу приняла угрожающий вид.

– Ой, пане, пане! И вы не знаете, что сделалось!
Стрельцам кричали:
– Ироды! Сказано вам: давай! Мы в ответе!
Рядом причитали старики о трех вьюношах и тоже усовещали стрельцов…
Однако стрельцы и не сопротивлялись особенно. Из ножен у них повытаскали сабли и посорвали мушкетные патроны с широких перевязей.
Толпа хлынула ближе к дому и, как волна пеной, блеснула обнаженными саблями и алебардами.
Салтыков ушел со стены, а вместо него на стене появились его «ближние люди», все до одного вооруженные мушкетами.
У запалов мушкетов горели фитили.
Но и дворяне высекали огонь при помощи кремня и огнива на виду у защитников салтыковского двора, присев на корточки и держа пистолеты на коленях.
Древний старичок, протиснувшись в первый ряд, опираясь на посошок, стыдил салтыковских людей, называл их богоотступниками.
Глава XIII.
Дело могло кончится кровью.
Но стоявшие на стенах салтыковские люди стали вдруг кричать в толпу:
– Глядите! Филин бежит.
Старичок, стыдивший их богоотступничеством, видя, что все они повернулись в одну сторону, сначала смешался, а потом приложил руку к уху и сказал:
– Ась?
– Про Филина кричать, – сказал кто-то около него и еще кто-то крикнул наверх салтыковским людям:
– Ей– Богу?
– Что там? – сказал и боярич, обращаясь, однако не к салтыковским людям, а к своим.
Но ему ответил один из салтыковских:
– Филин тут!
И так как он не понимал, про какого это филина начался вдруг разговор между осажденными и его людьми, то ему разом стали объяснять и со стены, и около:
– Филин, жидовик…
– Который масляные часы делает…
– Еще у него дочь гадает.
– Старик такой в очках.
Филин был в длинной шубе совсем ему не по росту, и оттого волочившейся по снегу…
Шуба была распахнута, потому что он бежал, размахивая руками… И что всего чуднее – на его ногах были только полосатые чулки и домашние туфли, в которых на улицу он выходил только летом.
И шапки на нем тоже не было, а была одна черная ермолка.
Он бежал посреди улицы, а не около стен, как всегда, и то поднимал руки над головою, то бил себя кулаками в грудь.
Когда он добежал до толпы, то остановился только на одну минуту и сейчас же бросился в толпу, крича:
– Ой, пустите же меня до вашего пана, у которого этот бродяга заколол трех молодых людей.
Услышав, что он кричит, так как в толпе стало вдруг тихо, и один только этот вопль и дребезжал теперь полный слез в морозном воздухе; боярич стал расталкивать толпу и закричал тоже так, что все его слышали.
– Не тронь его! Давай его сюда!
И сейчас же расступилась толпа, и он увидел прежде всего белую рубаху с расстегнутым воротом и волосатую грудь, которую царапали судорожно сведенные красные от мороза пальцы с желтыми грязными ногтями.
Рубаха была не только расстегнута, но и разодрана…
Потом Филин схватился за голову, за свои седые длинные пейсы, и когда сейчас же он протянул к бояричу руки, у него под ногтями осталось несколько этих седых волос вырванных из пейсов.
Он упал на колени и хотел обнять ноги боярича, но тот отступил.
Тогда Филин опять простер к нему руки, и его голос снова забился в безграничной скорби, задребезжал, застонал и заплакал:
– Ой, пане, пане! И вы не знаете, что сделалось! И вы не знаете, кто он. Он великий волшебник… И он убил ваших людей, и увез мою дочь… Ой, пане, я знаю, куда они убежали… Они убежали в Тушино… Вот куда они убежали… Ой, пане, спасите мою дочь!
– Стой, ты! – крикнул боярич, так как Филин бросился опять к его ногам и ловил их своими красными пальцами, которые от холода уже начинали синеть.
Боярин опять отступил. Тогда он пополз за ним по снегу и за ним волочилась его шуба. Туфли свалились с его ног. Сквозь старые прорванные чулки желтели ступни ног.
Боярич закричал:
– Держите его под руки!
Филина подняли.
– В Тушино, говоришь!
– Ой, в Тушино.
– А давно?
Уж отзвонили колокола.
Кто-то подкатил палочкой к его ногам туфли.
И кто-то, сказав угрюмо: «Чего гнушаешься? Тоже человек», – взял туфли в руки, вытряхнул из них снег и поставил так, чтобы Филину удобно было всунуть в них ноги.
Он и сделал это, всунул ноги в туфли.
Боярич сказал, раздумывая:
– Догоним ли?
И спросил у Филина:
– На чем поехали?
– В санях…
– Знаю, что не на телеге… Лошадей сколько?
– Одна.
– Одна?
– Одна.
– Догоним! – крикнул боярич. – Давай лошадей! Пустите!
И направился к саням.
***
В Москве в то время в Кремле уже стояло польское войско, и Москва уже присягнула на верность Владиславу-королевичу. Распоряжался всем в Москве гетман польский Жалевский да боярин Салтыков, много потрудившийся для избрания на московский трон сына польского короля.
Когда боярич выбрался из Москвы на большую дорогу, его настиг отряд польской конницы и заставили вернуться.
Молчанов так и сгинул с тех пор. В Москве его уже больше не видели. Но рассказывали, что он действительно приютился у тушинского царька.
Тушинские волки

ГЛАВА I.
К постоялому двору в селе Тушине подъехали в санях женщина, закутанная в шаль и шубу, и мужчина в простом синем домотканого сукна зипуне.
Содержатель постоялого двора Иван Азейкин стоял на крыльце, засунув руки в карман засаленной на груди и застегнутой только на два верхних крючка, потому что нижние крючки были оторваны, поддевке. Поддевка была короткая, едва доходила до колен. На ногах Ивана Азейкина были сафьянные сапоги, сильно поношенные; только вблизи можно было рассмотреть, что сапоги раньше были красного цвета – они совершенно слиняли. Кроме того, вероятно, от неуменья ходить в таких сапогах, они были стоптаны, и носки отставали чуть не на вершок от пальцев, загибаясь кверху.
Он был без шапки. Он вышел на крыльцо, должно быть, чтобы покормить кур и покараулить, чтобы их не отогнала собака от выставленной им чашки. Куры клевали из чашки сбоку крыльца, и тут же сидела эта собака, черная, с белой грудью и лапами, насторожив острый уши и глядя прямо в чашку.
Не вынимая рук из карманов поддевки, Иван Азейкин крикнул:
– Проезжай во двор, чего остановился? – и зашевелил пальцами в карманах, отвернувшись в сторону, и сказав что-то не совсем внятное, но, по всему видно, выругавшись про-себя, – когда вместо того, чтобы провести лошадь во двор, мужчина в зипуне, уже вылезший из саней, подал руку женщине и помог ей тоже сойти.
Затем они стали взбираться по ступенькам крыльца, которых всего было четыре. Мужчина поддерживал женщину под локоть.
Тут Иван Азейкин, принявшийся было махать на собаку полами поддевки, все держа руки в карманах и, действуя ими оттуда, изнутри быстро повернулся.
Мужчина и женщина задержались на минуту на второй ступеньке, и мужчина отвернул белыми руками высокий воротник зипуна.
Когда Иван Азейкин острым быстрым взглядом посмотрел в лицо мужчине, то качнулся назад, и видно было, как он растопырил пальцы в карманах: они очень отчетливо обозначились там, оттопырив карманы.
– Матерь Божия, – сказал Иван Азейкин так, как будто у него вдруг не хватило голоса, и, вынув из карманов руки, сложил их на груди и склонил голову набок.
Он удивился только на одну секунду, и сейчас же у него заискрились и заблестели глаза и все лицо кругом обошла улыбка, и на щеках от этой улыбки образовались впадины. Но и это продолжалось недолго. Тоже не больше секунды смотрел он на мужчину сузившимися и улыбающимися глазами, с головой, склоненной к плечу, и руками, сложенными на груди. В следующий момент он воскликнул негромко, вытаращив глаза, которые вдруг стали круглые, как пуговицы:
– Может, что вышло?.. Ась?
И взглянул искоса на женщину.
– То и вышло, – сказал мужчина, – что приехал к тебе. Вина надо согреть. Есть у тебя кто-нибудь?
Он говорил это на-ходу, в бок Азейкину и, пройдя мимо него, взялся за скобку двери. Азейкин сам отворил дверь.
– Кому теперь быть, – сказал он, пропустив мужчину и женщину вперед, – ездят, да ведь это что. Нет, ваша милость, никого нету.
И, войдя вслед за приезжими в просторные сени, запер дверь и защелкнул щеколду.
Сделал он это очень быстро и, забежав вперед, распахнул перед приезжими внутреннюю дверь, ведущую из сеней в жилое помещение.
До Тушинского «царика» Иван Азейкин был самый обыкновенный мужик, только что держал постоялый двор. Ходил он тогда в рубахе ниже колен, которую подпоясывал веревочкой не в талии, а много выше талии, почти под грудью, и в портках из холста, вытканного дома и дома же выкрашенного. Летом не носил никакой обуви, а зимой обувался в лапти с кожаными подметками, обернув ноги теплыми онучами.
Был он мал ростом, и не было в нем никакой степенности. Но не было и никакой вертлявости, и никакого проворства.
Всем он говорил «ты» – и боярам, и дворянам, и приказным. И когда его спрашивали о чем-либо, не торопился отвечать скреб пальцами в затылке, чесал спину.
И потом уже отвечал… И если отвечать приходилось приказному или дворянину, то смотрел всегда вниз и в сторону, держа шапку в обеих руках.
В волосах на голове и в бороде у него всегда была либо солома, либо обитые цепом колосья и руки были с корявыми от мозолей пальцами… Крашеные его портки, едва доходившие до щиколоток, всегда были где-нибудь заплатаны, и только в праздник одевал он новую, белую или тоже из крашеной холстины рубаху и подпоясывал ее новым шерстяным поясом и обувался в новые белые лапти, «нехоженые».
Но при «царике» в Тушино понаехало много разного народа и с польской стороны, и из Северской земли.
Иван Азейкин и раньше потихоньку курил у себя в овине вино на продажу, а при «царике» вино можно стало курить открыто. Запрета никому не было.
Первые стали к Азейкину ходить «северские» люди, в таких широких красных штанах, что он долго дивился не столько на штаны, хотя и на штаны было чудно смотреть, сколько на самих северских людей. Были они хотя не московские, а свои же. Они, правда, иногда сидели в горнице в шапках, но иконы почитали и умели креститься православным крестом.
Он сперва спрашивал у них очень осторожно, чтобы не обидеть, какого они «роду-племени», так как все-таки трудно их было по их разным ухваткам признать за своих.
Но они ему божились и крестились на икону, чтобы не сомневался.
Потом он узнал, что они самые крайние в Северской земле, самые прирубежные. А там уж дальше, за ними пойдут степи. Однако, и ближние северские люди, которые тоже ходили к нему в большом числе, не хуже этих прирубежных и говорили так, что не сразу поймешь: будто по-московски, а как-будто и не по-московски, и одевались куцо, сейчас видно, что не для мирного жития: и не дорожные грабители, а как-будто и не без этого.
И тоже бороды брили… Но иконы почитали и по-православному умели креститься.
Пошли от них у Ивана Азейкина деньги. Раз запряг он лошадь съездил в Москву и привез оттуда меду в бочках и хорошего бутылочного немецкого вина.
Тут уж стали к нему ходить повыше чином: сотенные начальники, польские и северские люди, ротмистры и иного военного звания господа и паны. Ходили и московские дворяне, и бояре, прибившиеся к царику и державшие его руку.
Будь у царика только одни московские, Иван Азейкин не перевернулся бы в такого человека, каким стал потом.
Отчего ему было бы тогда перевернуться?
Как он перевернулся, он этого сам не заметил.
Служил – служил польским панам и северских людей начальникам и мало-по-малу «перелинял».
Вышел из него не то трактирщик, не то харчевник, не то корчмарь.
К нему и теперь еще ездили по старой памяти кое-кто из больших московских людей, сперва было прибившиеся к царику, а потом от него отставшие.
Теперь Иван Азейкин и мед умел сам варить, и умел кушанья готовить так, что ни одна баба так не сготовит.
За тем к нему и ездили из Москвы: попить да поесть– погулять на свободе.
ГЛАВА II.
Иван Азейкин подал приезжим половину копченого гуся, хлеб, оловянную чашку с солеными огурцами, вино в зеленой бутылке и медь в глиняном кувшине, мерой ковша в полтора.
Разогрел он и вино, но не на огне, а так, как это научили его делать «северских людей начальники»: зажег вино в оловянной кружке от лучины, которую в свою очередь зажег от горячих углей в печи.
Лучины у него были особенные, с серными головами. Делать такия лучины научил его слуга одного польского пана.
Сера на лучине воспламенялась очень легко и скоро прогорала, и тогда начинала уже гореть лучина.
Все время, пока он суетился, лазил на чердак за гусем (там у него кроме гусей висели и свиные окорока), лазил потом в погреб за вином, – все это время за перегородкой из половинчатых бревен, поставленных стоймя, слышались тихие звуки какого-то струнного инструмента.
Звуки будто капали сквозь перегородку, недостаточно толстую и плотную, чтобы их заглушить и недостаточно тонкую, чтобы слышать их отчетливо.
Когда приезжие раздевались, женщина сказала мужчине шепотом, указав глазами на перегородку.

– Там есть кто-нибудь?
– Там кто-то есть.
Азейкина в это время не было: он ушел за вином.
Мужчина подошел к перегородке. На нем был польский бунтуш. У пояса висела длинная и тонкая шпага. Таких шпаг поляки не носили. И в лице мужчины тоже не было ничего, что бы делало его похожим на польского рубаку, вроде тех, которые бражничали здесь в свое время. Но правая его щека была подвязана платком, как повязывают щеку, когда болят зубы. На платке с одной стороны было небольшое пятно просочившейся через повязку и еще не засохшей как следует крови.
Он сказал, постучав в перегородку:
– Там есть кто-нибудь?
За перегородкой стало тихо. Ожидая ответа, женщина, уже сиявшая шубу и разматывавшая платок на голове, престала его разматывать и прислушалась, стоя с поднятыми руками и держа платок за края у плеч.
Молодой женский голос, сказал за перегородкой:
– Никому не нужно знать, кто я.
Мужчина и женщина переглянулись. За перегородкой ее было больше слышно никакого шороха и никакого звука. Подождав минуту, мужчина спросил опять, став к перегородке боком, наклонив голову и почти приложив к перегородке ухо:
– А кто там еще?
– Я одна…
– А кто играет?
– Я.
Голос через перегородку проходил совершенно ясно. Снова тихо зазвучали струны.
Мужчина застучал в перегородку.
– Кто ты?
– Будто не знаешь?
Легкими шагами к мужчине подошла его спутница. Она была очень красива, с черными волосами, заплетенными в две толстые косы. В косе были вплетены красные ленты. Костюм был польский, из дорого красного атласа. Сверх платья была одета короткая шубка в талию, с меховой опушкой.
Она подошла к мужчине заглянула ему в лицо. С мороза у неё горели щеки и блестели глаза, я в глазах сквозь этот, словно принесенный с полей, которыми она ехала, и заимствованный у зимнего неба блеск мелькнуло что-то пугливое, насторожилось там, в их глубине. В ответ на этот взгляд мужчина пожал плечами.
– Нет, не знаю, – сказал он твердо.
– Будто?… – раздалось за перегородкой.
В голосе невидимки теперь блеснул смех, как белые зубы сквозь улыбку. Девушка или женщина, бывшая за перегородкой, произнесла это слово громче, чем говорила раньше, и сейчас же её голос, в котором, когда она говорила, смех только загорелся – перешел в смех долгий и звонкий, рассыпавшийся серебром, за перегородкой, и в помещении для приезжих.
И этот смех, звеневший как серебро, опять тут же, едва успел прозвучать, свернулся в слова:
– А ты спроси… Знаешь, у кого спросить?
– У кого?
– У Касимовского хана…
Мужчина я женщина опять переглянулись, и в лице мужчины была теперь досада, зачем она на него так смотрит.
Он сейчас же отвернулся.
– У кого? У хана?
– Или у Ваньки…
– У какого Ваньки? – спросил мужчина, подумав сейчас же, не про Азейкина ли она говорить. Но того звали обыкновенно не Ванькой и не Иваном, а Азейкой.
И он сказал:
– У какого Ваньки?
– А у Сапеги!
– У Яна Сапеги?
– Он тебе скажет…
– Слушай, – сказал мужчина строго, – я здесь с женой, ты лучше спрячь покамест язык…
И, немного помолчав, сказал уже совсем другим тоном:
– Я не вижу, с кем говорю. Если я обидел, я прошу извинения. Сейчас такое время, что не знаешь, с кем встретишься.
– Ага! – сказал голос за перегородкой. – То-то.
– Но с кем я говорю?
После небольшого молчания голос сказал:
– А сказать?
– Прошу очень…
– Приложи ухо… Приложил?
– Я слушаю.
И мужчина сделал то, что от него требовали. Он ждал с лицом; на которое легло сосредоточенное выражение. Но любопытства, такого острого любопытства, которое дышало в лице его спутницы, в нем не было.
Прислушиваясь, он что-то раздумывал и что-то соображал, приставив палец к губам и сдвинув брови.
Ему вдруг почудился будто шелест шелка за перегородкой, и он поднял брови и, отняв палец от губ, произнес:
– А…
Что-то там заскрипело, – табурет или кровать, или скамейка.
И среди этих звуков голос, ставший вдруг тихим, сказал:
– Я – королевна.
Он ожидал опять смеха, и ему даже захотелось услышать этот смех, в котором было что-то надорванное или разбитое, но надорванное какою-то бурной радостью.
Женщина, потихоньку тоже подошедшая ближе к загородке, смотрела на него с лицом совсем неподвижным, полуоткрыв губы. Она приложила руку к сердцу, и у неё мелькнула мысль, хотя она сейчас же и сознала нелепость этой мысли: «Это Марина».
Марина – жена тушинского царика, вдовая жена первого самозванца, бывшая русская царица, дочь польского магната Мнишка.
Но Марина вместе со своим новым мужем, тушинским цариком, давно уже бежала из Тушина в Калугу.
Она вспомнила это сейчас же.
За перегородкой было тихо. Потом опять там что-то скрипнуло.
– А что? – сказал голос.
– Вы приезжая? – спросил мужчина. Он стал говорить вы, потому что до него снова вместе со скрипом донесся шелест шелка. Этот шелест прополз по перегородке и затаился совсем близко, почти с ним рядом.
Он опустил глаза и чуть-чуть прикрыл их: в нем пронеслось желание представить себе эту особу, и это казалось ему легко, если закрыть глаза. Он был из такого сорта людей, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не отказывают себе в этом маленьком наслаждении…
И вдруг он увидел небольшую трещину в перегородке.
Он приник к ней глазом.
Но он рассмотрел только тонкую талию в чем-то голубом и ниже что-то голубое и волнующееся. Эта девушка или женщина, несомненно, стояла на коленях на лавке или кровати.








