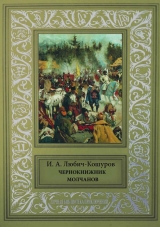
Текст книги "Чернокнижник Молчанов [Исторические повести и сказания.]"
Автор книги: Иосаф Любич-Кошуров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Пан – волчья душа
(Из украинских сказаний).

В кабинет к пану Висковичу вошел его эконом и сказал: —Милостивый пан, сейчас я проходил мимо той, знаете, башни, где у нас сидят казаки, чтоб им лихо было, схизматикам[2]2
Схизматики – этим именем католики называют православных.
[Закрыть]), и в нынешний Велик-день, как и было лихо и в прошлом году…
При этом эконом шевельнул бровями и крякнул.
– Чтоб им лихо было, – повторил он. – Да.
И опять крякнул.
Голос у эконома был глухой, невнятный. Когда он говорил, его круглые, пухлые щеки отдувались, словно, кроме слов, срывавшихся беспорядочно с языка, у него было за щеками еще что-то, что путалось между словами, перекатываясь от щеки к щеке.

– Вы знаете, милостивый пан, Апанаса-сторожа?
На минуту он умолк, бросив на пана короткий взгляд исподлобья, потом поднёс руку к губам, кашлянул в ладонь и опять так же исподлобья поглядел на пана.
– Конечно, знаете. Он уж сторожит этих схизматов скоро будет год. Так он говорит:,посадите меня, пан эконом, лучше на цепи, как пса, только не оставляйте на нынешнюю ночь около башни “.
Пан поднял голову и остановил на нем глаза.
Он ничего не сказал эконому, потому что эконом должен был в некоторых случаях понимать пана без слов – по одному его взгляду.
И, расставив длинные руки с широкими длинными ладонями, эконом вздернул потом плечи и ответил на этот безмолвный вопрос, выгибая брови почти дугой над округлившимися, выпятившимися немного из орбит, недоумевающими глазами:
Говорит: „боюсь“, говорит, папоротник, который растет около стены по рву, стонал в прошлом году в ночь на Великую пятницу так громко и так страшно, что он, будто бы, чуть не умер со страха.
– Очевидно, он дурак, – сказал пан.
– Я сам так думал, ваша милость, но, однако, осмелюсь доложить…
И тут эконом занес одну руку за спину, приложив ее к спине тыльною частью, и, растопырив пальцы, согнул немного спину, а другую руку поднял в уровень со лбом и приставил ко лбу указательный палец.
– О, это тоже, как понять… Я также слышал, будто именно папоротник стонет в ночь на Великую пятницу… Мне говорил об этом один монах, когда я был в городе на базаре…
Он выпрямил спину и значительно мигнул глазами. Руку он продолжал держать за спиною, нервно шевеля пальцами.
– Тогда, значит, и ты дурак – проговорил пан и нахмурился. – Ты даже глупей Апанаса, потому что Апанас – сторож, а ты – эконом, и ты думаешь так же, как сторож.
И вдруг его лицо побагровело. Что-то зажглось в глубине его глаз, точно огненные точки. Прямо в глаза эконому он вперил свой взгляд… И эконому казалось, будто в глазах у пана темная ночь, и из глубины этой ночи блестят ему в лицо два волчьих глаза…
Он задрожал.
Пан задышал часто, с хриплым сопеньем, кусая кончиком зуба с левой стороны рта нижнюю губу.
Эконом чувствовал, как ноги у него подкашиваются сами собой. Одну минуту он был близок к тому, чтобы упасть на колени перед паном, и уже согнул колени…
Но в голове у него все словно вдруг спуталось, смешалось. На мгновение он перестал сознавать, где он, что с ним, кто сидит перед ним.
Дикий ужас охватил его. Он закрыл лицо руками и зашептал:
– О, Матерь Божия!
Он никогда не видал пана таким гневным.
И ему сейчас, правда, показалось, будто это пан и будто не пан. Будто кто-то другой глянул на него изнутри пана…
– Пошел вон! – крикнул пан, – и приготовься сегодняшнею ночью идти со мной слушать, как стонет этот ваш папоротник! Я тебе покажу, как потакать трусости и глупости!
* * *

Эконом шел за паном вдоль замкового рва, приложив свою шапку к груди и украдкой крестясь под шапкой.
Изредка он взглядывал на пана, и тогда по его телу пробегали холод и дрожь.
И он опять начинал креститься.
В руке у пана была сабля. Она тускло блестела в темноте.
„Господи, – думал эконом, – зачем он вытащил ее из ножен?..“ Ножны были у него в руках: пан передал их ему, отстегнув от пояса, чтобы они не путались между ногами.
„Зачем, зачем он ее вынул? “
Пан остановился.
– Где папоротник?
Он глядел на эконома через плечо. Эконом видел только угол его глаза, но ему опять почудилось, что глубоко в глазах у пана в ту минуту, когда он обратился к нему с этим вопросом, словно блеснули чьи-то другие глаза…
Блеснули и потухли.
„Ой, Матерь Божия, это его душа смотрит! “
Эконом даже пошатнулся при этой мысли, будто его кто ударил в темноте в грудь.
– Тут недалеко теперь, – ответил он и подумал опять:
„Ой, волчья у него душа… “
Ему хорошо было известно, что многие люди за грехи своих родителей являются в мир с волчьей душой.
Он вспомнил, как пан мучил своих хлопов[3]3
Хлоп – крестьянин.
[Закрыть]), кто бы они ни были – католики или православные, как он за более крупные проступки вколачивал им гвозди в темя…
В башне у пана томились уже несколько лет пятнадцать казаков. Конечно, они были враги и схизматики, но видно, что у пана волчья душа, если он в Светлый праздник приказывал для разговенья бросать им в окно дохлую кошку…
„Ой, грешник, великий пан грешник!..“
Пан сделал еще насколько шагов и остановился.
– Где?
И вдруг он повернулся к эконому: он увидел папоротник…
– Этот?
– Этот, ваша милость.
– Ну, будем ждать…
Взгляд эконома опять упал на саблю. Пан держал ее насколько наклонно, острием к нему. Спинка сабли слабо переливалась вдоль синеватого отблеска…
– Если ничего не будет, – сказал он, – я пропорю твое брюхо…
И он повел саблей так, как будто сверлил ею воздух между собой и экономом… Синеватый отблеск теперь пропрянул по сабле от конца к рукояти широкой полосой.
Эконом невольно закрыл глаза.
– Если ничего не будет! – воскликнул он. – О, почему я знаю! Может быть, ничего и не будет.
Он все стоял с закрытыми глазами. Он хотел открыть их, но еще больше смежил веки.
Он прошептал только:
– Не гневайтесь, пане!.. Ведь это мне говорил монах, а я почему знаю, какой он монах. Может быть, он даже и не монах, а только говорит, что монах. Разве я знаю?..
Вдруг он вздрогнул, широко открыл глаза и схватился обеими руками за грудь.
– Что это? – произнес он. – Слышите?..
Пан быстро повернулся и подошел к самому краю рва… Он тоже услышал тихий, сдавленный стон, раздавшийся, как казалось, со дна рва…
Стон повторился.
– Кто там? – крикнул пан.
– Это – папоротник, – зашептал эконом. – Ой, пане, пане!..
Снова раздался стон, теперь уже более громкий. И теперь он уже не умолк, а, как ветер, пробежал со дна рва вверх по откосу, по кустам папоротника и покатился дальше по откосу вдоль стены.

Пан отступил назад.
Он видел, как шевелились кусты папоротника, шурша перистыми листьями… Но не было ветра… Кусты папоротника, казалось, шевелились сами собой… Они трепетали от корней до макушки, и, чудилось, вместе с ними дрожат незримые в их чаще струны. Кто-то, точно незримый, перебирает струны, и струны плачут и стонут.
– Это колдовство! – крикнул пан.
Он все отступал назад, дальше от края рва, потому что ему казалось, будто стон и плач уж переполнили весь ров и, как морской прибой, плещут за край рва и подкатываются ему под ноги…
Он бросил саблю и, высоко подымая ноги, будто шел по свежей озими и выбирал место, где его нога не затоптала бы нежных ростков, направился прочь от рва…
Но каждый шаг вызывал новый стон. Будто всякая травка, всякая былинка, когда он наступал на нее ногою, стонала от боли.
– Пане! – крикнул ему эконом. – Пане, куда вы? Там волчьи ямы…
Но он шел, пятясь задом, высоко подымая ноги, простирая руки вперед и отталкивая от себя воздух. Словно он шел по глубокой воде. И ему точно казалось, что вокруг него море стона и плача… У него захватило дыхание. Стон и плач переплетались между собой, охватывая его всего, застилая слух и зрение… Точно пламя бушевало вокруг него, и на лицо ему – в уши, в нос, в рот – дышало жаром.
Точно этот плач и стон срывался с огненных языков.
Он упал.
Когда подбежал к нему эконом, он крепко стиснул ему руку и произнес, задыхаясь:
– Скорей отвори башню! Пусть казаки уйдут на волю… Может быть, мне будет легче… Я весь горю…
Издалека пронесся благовест…
Тягучий долгий звук, словно нехотя и с болью оторвавшийся от могучей груди, долетел до пана и разлился у него в душе наполняя всю душу.
И затрепетал, зарыдал в душе…
И вместе с ним зажглась в душе у пана молитва, – старая, детская, давно забытая. Казалось, звук колокола впитал в себя и стон, и плач и унес их с собою далеко-далеко…
И пану сразу стало легче…
Море стона и плача выкинуло пана на берег и ушло назад– туда, откуда пришло оно, и уж больше не мучило пана…
– Скорей, скорей… – говорил он эконому, – возьми ключи… выпусти их на волю.
Эконом помог ему встать и отвел в замок.
В тот же день пан снял оковы с казаков и выпустил их на волю.

Разбойник Омелько
(Украинская легенда.)

Пан Грач собрался ехать к пасхальной заутрене.
Когда он занес уже ногу в стремя, на крыльцо выбежала его экономка, старуха Ганна.
– Ой, пане, – крикнула она, – погодите-ка, нате вам пистолет!.. Знаете, около замка неспокойно!
Пан Грач вскочил в седло и перегнулся на бок, чтобы подобрать повод. Лошадь под ним нетерпеливо перебирала передними ногами, подгибала голову почти к самой груди.
– Пошла до дому, – сказал пан Грач; – если в случае чего, так я управлюсь и с саблей. А с пистолетами неприлично являться в церковь в такой день.
И пан Грач хлестнул коня нагайкой, поднял его на дыбы и, повернув на задних ногах к воротам, кольнул лошадь шпорой и легкой рысью выехал со двора.
Ганна взобралась опять на верхнюю ступеньку крыльца и,
поднимая голову, чтобы лучше было видно пана, кричала.
– Ой гляди, молодчик, ой уж не к добру разгарцовался!..
Когда пан Грач добрался до старого замка, уже совсем стемнело.
Пан Грач сам знал очень хорошо, что около старого замка неспокойно. Часто там случались грабежи и разбои. Замок давно уже пришел в ветхость, и в нем никто не жил. Но иногда ночью видели огонь в полуразрушенной каплице [4]4
Каплица – католическая часовня.
[Закрыть]), примыкавшей к главному зданию…
Он вынул саблю и поехал шагом, внимательно оглядывая дорогу.
Смутно сквозь ночной сумрак различал он колеи на дороге и следы лошадиных копыт, белевшие от набравшейся в них и замерзшей воды.
Кругом было тихо. Только в овраге, по берегу которого шла дорога, под снегом журчала вода.
Вдруг конь вздрогнул… Ему почудилось, что впереди его фыркнула лошадь…
Пан Грач остановил лошадь, поднялся немного на стременах и заглянул через голову лошади.
Перед ним смутно обрисовалась темная фигура всадника.
– Бей! – раздалось в темноте в тот же момент.
С боку пана, около оврага, совсем близко вспыхнул маленький огонек.
Пан почувствовал, как лошадь вздрогнула под ним всем телом и зашаталась. Он быстро соскочил с седла, и сейчас же лошадь, точно ждала этого, рухнула, убитая наповал.
Кто-то схватил пана за обе руки около локтя сзади. Он хотел сопротивляться, но пальцы, сжимавшие его руки, казалось, врезались ему в тело.

И, почувствовав вдруг прилив негодования, он воскликнул:
– Трусы! Вы нападаете сзади, врасплох!.. Бейте, коли так!..
Но его не убили.
Ему скрутили руки веревкой и повели…
Один разбойник шел с ним рядом, другой ехал впереди.
Пан слышал, как фыркала его лошадь, встряхивая гривой, как хрустел тонкий лед под копытами.
Его привели в темную келью. Тут было совсем темно, и пану показалось, что за ним вошло несколько человек… Вся келейка наполнилась шумом шагов, звяканьем шпор, лязганьем сабель…
– Зажги огонь! – крикнул разбойник.
О кремень застучало огниво… Посыпались огненные брызги, освещая то пальцы с зажатым в них то край рукава.
Потом затлел трут. Пан видел склоненное над трутом усатое лицо и слышал, как разбойник дул на трут, а когда вспыхнул огонь, пан увидел у стены большое мраморное распятие и около – двух разбойников.
– Омелько! – воскликнул он.
Краска бросилась ему в лицо, маленькие, круглые глаза засверкали. Он повел плечами, потянул правую руку, стараясь высвободить ее; но руки его были связаны крепко.
Когда-то Омелько ходил с паном Грачом и другими панами в славном войске запорожском в Польшу, в Крым. Потом Омелько отстал от товарищей, передался полякам, но не ужился и с поляками и сделался разбойником.
Пан Грач знал, что на душе у него столько убийств, что вряд ли и сам Омелько помнил их все.
Омелько молча вынул пистолет из-за пояса, молча взвел курок.
– Я не отпущу тебя, – сказал он, – пока ты не дашь писульки, чтобы твоя экономка выдала мне сто золотых, и пока мой хлопец не привезет их сюда…
И, целясь пану прямо в лоб, он крикнул хлопцу: —Развяжи ему руки!.. Пусть пишет!..
* * *
Пан Грач должен был написать записку.
Что же ему оставалось делать? Правда первое его желание, когда ему развязали руки, было броситься на Омелько, но он вспомнил про великий завтрашний праздник, про торжественное служение в церкви, про других панов, несомненно, уже поджидающих около церкви его приезда, их разговенье… И он сказал поспешно:
– Хорошо, давай, я напишу записку…
Омелькин хлопец уехал, и пан Грач остался с Омелько с глазу на глаз. Он оглянул каплицу и заметил в углу около распятия висевшую на стене саблю и пару пистолетов.
Омелько заметил этот взгляд.
– Только шевельнись, – угрюмо проворчал он, – и живой не встанешь.
Пан Грач нахмурился.
– Молчи лучше, – проговорил он, – теперь Страстная суббота. Говорят, – и при этом пан Грач повел глазами на распятие, – говорят, Он…
И вдруг он остановился.
– Гляди, Омелько, – воскликнул пан. – Он как живой!..
Сальная свечка сильно нагорела; свет был неровный… По распятию скользили тени… Изможденное страданьем мраморное лицо казалось серым… Только в двух местах – на губах к на щеках под глазами – на гладко отполированной поверхности мрамора тускло отсвечивало пламя свечи… Словно румянец просвечивал сквозь мрамор.
Отблеск света трепетал едва уловимым трепетом разливался шире, потухал на мгновенье, вспыхивая опять, слабый, болезненный… Мраморное, неподвижное страданье оживало, дышало настоящей мучительной болью; уста словно шевелились.
– Это – так, – сказал Омелько несколько другим голосом чем за минуту перед, тем, и нахмурился.
В келье стало тихо-тихо.
– Омелько!
– Ну?
– Эй, Омелько!.. Сколько ты душ загубил, сколько христианской крови пролил! Кат [5]5
Кат – палач.
[Закрыть]) ты своего Бога.
Глаза Омелько стали темны, как ночь, и потом в них зажглось что-то в самой их глубине…
– Господь будь мне заступник!.. – крикнул вдруг пан Грач совсем неожиданно для себя и для Омельки. Его будто что толкнуло. Он бросился на Омельку.
Омелько выстрелил. Оглушенный выстрелом, пан Грач остановился… Он не ощущал никакой боли. Омелько промахнулся. Пан Грач ловко сбил его с ног, выбежал из каплицы и, вскочив на Омелькина коня, ускакал…
Когда Омелько пришел в себя и поднялся с пола, прямо перед собой он увидел распятие.
Омелько привык видеть одну рану на этом мраморном теле. Теперь их было две. Одна – маленькая на боку, другая– широкая, темная на груди. Омелькина пуля, расплющившись об изваяние, выбила в том месте, как удар молота, несколько кусков, а конечности рёбер образовались прямо на краю раны…
И вдруг у него у самого словно зажгло на этом месте.
Он отошел к стене, прислонился к ней и опять взглянул на распятие.
О, какая рана!..
Он закрыл лицо руками, затаил дух… Глубоко в груди, в самом сердце, он почувствовал опять жгучую боль. Точно жидкий огонь разлился у него под кожей.
„Господи! Да что же это? “
Снова раздвинув ладонь, он бросил взгляд на распятие и быстро сейчас же сдвинул ладони… Теперь он уж не мог видеть раны, но все равно, – рана точно осталась внутри его ладоней… Он закрыл глаза, но и с закрытыми глазами продолжал видеть рану.
Когда через полчаса вернулся растерянный, испуганный Омелькин хлопец, Омелько все еще стоял против распятия, и при слабом свете огарка было видно, что он старается как можно крепче сомкнуть глаза, хотя они и так были закрыты ладонями.
Хлопец Омельки забыл про свой недавно перенесенный испуг, и подскочил к Омельке: он думал, что пан Грач, вырываясь от разбойника, ранил, очевидно, ему глаза. Но крови не видно было.
– Омелько, ты ранен?
– Нет! – послышался глухой ответ.
Хлопец успокоился. Вернулась боязнь, что Омелько будет его ругать за то, что он позволил себе на обратном пути вернуть взятые деньги пану Грачу. Но Омелько стоял, не шевелясь. Очевидно, он не думал о деньгах.
– Что с тобой Омелько?
В ответ тот только застонал. Потом после долгого молчания заговорил. Он продолжал стоять на старом месте и все закрывал глаза рукою и говорил:

– Слушай, что мы с тобой: делали!? А? Что мы с тобой делали?! Только теперь я понял все. Он, – и он приналег на это слово, – открыл мне это. Сколько народа ограбили мы с тобой; да ограбили-то еще это ничего: живы будут, опять наживут. А сколько перебили!
Когда я ходил в славном войске запорожском в Польшу, в Крым, то сколько народу перегубил? Но это меня еще не так мучает; ведь мы тогда боролись за свободу, за правое дело; на воине без убийства нельзя. А вот когда я ушел уже от поляков, когда сделался разбойником! Тут ты пристал ко мне, да и другие. Сколько невинных загубил я!
И, как бы перед явившимся у него перед глазами видением, Омелько, не отнимая рук от лица. начал пятиться назад, сел на обрубок, словно ноги не держали его, и медленно опустил голову.
Хлопец стоял перед ним в почтительной позе, как перед начальником. Он видел, что Омелько чем-то взволнован, но не понимал, чем. Сначала он думал, что Омелько огорчила неудача с паном Грачом, что он тужит об ускользнувших деньгах, но ведь Омелько не таков, да и говорит он что-то несуразное. И хлопец молчал.
– Ведь нам с тобой ничего не стоило, ворваться в одинокий шляхетский дом, перерезать всю семью, не щадя ни стариков, ни ребят. Меня ничуть не трогали ни просьбы стариков, ни плач детей. Сколько усадеб сожгли мы с тобой! А то, притаившись в кустах, как вот сейчас с паном Грачом, поджидаем какого-нибудь арендатора, везущего деньги помещику. Выскочишь, бывало, одним выстрелом уложишь его на месте отберёшь деньги и рад! И всего за какую-нибудь сотню-другую карбованцев погибала человеческая душа! Будьте прокляты вы, несчастные черепки!
Омелько вскочил, сделал энергичное движение рукой, как будто кого-то, очевидно, деньги, валил в преисподнюю, но тут в глаза ему опять метнулось распятие, с широкой темной раной на груди, с острыми краями, словно это выступали ребра, и Омелько быстро опять закрыл глаза руками и застонал.
– Что с тобой, Омелько?! Будет тебе! – говорил хлопец. Его слабый мозг никак не мог переварить всего виденного.
– Нет, конец! Слушай, малый! Поступай, как хочешь, а с меня довольно! Все собранное нами добро – ты знаешь, где оно хранится – возьми себе!.. Нет, нет, и не отказывайся. Мне ничего не надо из нажитого неправдой, убийством. Ведь каждая рана, которую я наносил людям, я наносил Ему, Распятому. От каждого моего выстрела страдал Он. Видишь, что наделал мой последний выстрел? Больше я не могу. Не ходи за мной и забудь про Омельку. О, Господи! Что же это такое?! Что я наделал?! – завопил он.
Не отрывая рук от лица, он выбежал из каплицы и бросился, как безумный, в поле. А около него выплывали из воздуха кровавые круги и плыли вслед за ним, точно весь воздух наполнился кровью…
Иногда он останавливался, закрывал глаза, и тогда опять перед ним вырисовывалась страшная рана…
Издали долетел до него удар колокола.
Как подкошенный, упал Омелько на колени и стал молиться…
И скрылся навсегда разбойник Омелько из замка. Окрестное население вздохнуло спокойно. Около старого замка стало тихо…
В одном далеком и заброшенном монастыре кой-кто видел Омелька среди братии; но был ли то он или только похожий на него человек, – осталось для многих тайной…

Биография
Любич-Кошуров, Иоасаф Арианович
Иоасаф Арианович Любич-Кошуров
(1872, Фатеж – 1937, Москва) – русский писатель, очеркист.
Родился в 1872 году в городе Фатеж (Курская губерния) в бедной еврейской семье. Окончил начальное училище. В Москве поселился в начале 1890-х годов. В течение нескольких лет был журналистом-«мелочишником», помещая в юмористических журналах «Развлечение» и Будильник, рассказы и сценки, придумывая темы для карикатур. С 1895 года постоянный сотрудник Будильник (рассказы в форме монолога простодушного обывателя). Жил на окраине или в дачных местностях, часто меняя квартиры, имел проблемы с полицией из-за беспаспортности; бедствовал, временами добывая пропитание охотой в подмосковных лесах, вёл полунищенский-полубогемный образ жизни.
В конце 1890-х годов Любич-Кошуров оставил развлекательную юмористику и выступил, как беллетрист. В 1901 году в журнале «Муравей» он поместил цикл рассказов о «неудачниках», затем появляются сборники «Очерки Бронной» (1901) и «Картинки современной жизни» (1902), в которых проявились талант наблюдателя, чувство художественной детали. Герои рассказов и очерков Любича-Кошурова: газетчики-поденщики, типографские рабочие, безработные артисты, уличные скрипачи, клоуны. С сочувствием изображая «труждающихся и обремененных», Любич-Кошуров возмущен не столько социальным неравенством, сколько окаменением сердец: идея всеобщего братства и действительной любви к ближнему – основная в творчестве писателя.
В 1904-05 годах Любич-Кошуров написал свыше 30 рассказов о Русско-японской войне (сборник «В Порт-Артуре» и др.), которую изображал в гуманистической традиции. Положительные герои – простые солдаты, сохраняющие живую душу в тяжелый испытаниях (рассказы «Георгиевский крест», «В землянке», «Сказки о жизни» и др.). Особой популярностью пользовался рассказ «Серый герой», выдержавший несколько изданий, причем автор всё время заострял мысль о типичности своего героя: «Самый обыкновенный, рядовой человек – сначала рядовой мужик, а потом рядовой солдат, каких у нас сотни и тысячи». Ряд рассказов посвящены событиям 1905 года: «Живая скрипка», (1906), «Роман сумасшедшего», «Иуда», «Анафема» (все три – 1908).
В начале 1900-х годов Любич-Кошуров выступил и как детский писатель, сотрудничавший в журналах «Детское чтение», «Детский мир», «Путеводный огонёк» и др. Большая часть его произведений для детей – повести и рассказы о «бедных людях», в основной своей части несущие религиозно-нравственную идею. В основе сюжета обычно нравственное потрясение и пробуждение в душе героя раскаяния и сострадательной любви. Написал также несколько приключенческих повестей (Например «В манчжурских степях и дебрях», 1905) и много сказок о животных, содержащих также полезные зоологические сведения, («Ворона и её знакомые», «Дядя Вак») и волшебных сказок (сборники «Зеленые святки», «Волшебная книга», «Золотая погремушка») – занимательных, эксцентричных, остроумных, проникнутых любовью ко всему живому и добродушным юмором.
Любичу-Кошурову принадлежат исторические повести для детей «Пожар Москвы в 1812 году» (1912) и «Тушинские волки» (1913), переиздававшиеся и в наше время. При этом писатель изложил собственную версию возникновения московского пожара, получившую отрицательную оценку критики. После 1917 года почти не печатался.
Библиография
Чернокнижник Молчанов в Москве в 1613 году: [Ист. повесть для детей] / И. Любич-Кошуров; С ил. худож. Петра Афанасьева. – Москва: Заря, 1913.
Тушинские волки: Ист. роман / И. Любич-Кошуров; С ил. худож. П. Афанасьева. – Москва: Заря, 1913. – 116 с.
Рассказы / И. Любич-Кошуров. – Москва: ред. журн. "Юная Россия", 1910. – 72 с.; 21. – (Библиотека для семьи и школы).
Живая статуя: (Из укр. сказаний) / И.А. Любич-Кошуров. – Москва: А.С. Панафидина, 1903.
"Черный пан": (Из укр. преданий) / И.А. Любич-Кошуров. – 2-е изд. – Москва: Д.П. Ефимов, 1913.
Под Светлую ночь: 1,2. Пан – волчья душа. Разбойник Омелько: Два рассказа [для детей] / И.А. Любич-Кошуров; С рис. П.Е. Литвиненко. – Москва: И.П. Гайгаров









