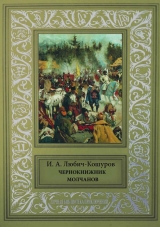
Текст книги "Чернокнижник Молчанов [Исторические повести и сказания.]"
Автор книги: Иосаф Любич-Кошуров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
ГЛАВА XI.
К городским воротам Калуги с поля подъехали два запорожца.
Они хотели было въехать под арку, но в воротах стояли вооруженные люди. Под аркой было темно, и трудно было определить, что это за войско.
Неясно различались там бородатые и бритые лица, блестели тускло железные доски лат и стволы мушкетов.
Наступал уже вечер.
Большая красная луна поднялась над городом, и её край блестел вверху под аркой.
Из-под арки выступил человек в московском казакине, обшитом по подолу серебряным позументом, и подпоясанный наборным серебряным поясом.
К поясу была пристегнута кривая широкая сабля, с тоже кривым, в виде буквы S медным эфесом.
– Откуда? – сказал этот человек, спрятав руки за спину и намного надменно глядя на запорожцев. У него была рыжая борода клином и почти незаметные редкие усы.
По-русски он говорил не совсем чисто, с каким-то совсем не русским пришепетыванием. Роста он был невысокого. Он смотрел на запорожцев, запрокинув назад голову. Запорожцам сверху была видна только одна эта его остроконечная борода и широкия ноздри над бородой.
– Из-под Москвы, – ответил ему один запорожец…
От морд лошадей, на которых сидели запорожцы, клубился белый пар, ресницы на их глазах были белы от инея. Судя по тому, как глубоко втягивали они бока, запорожцы были дальние люди и проехали, вероятно, не один десяток верст.
– Сами-по-себе? – сказал маленький человек, бывший скорее всего начальником городской стражи, наряженной к этим воротам. – Сами-по-себе или от кого?
– От одного пана, – ответил запорожец. – От одного большего пана. У него нас сто человек.
– Да, нас сто человек, – сказал и другой запорожец, – и это верно, что наш пан – очень большой пан.
– И хочет вместе с нами, – заговорил первый запорожец, – служить его царскому пресветлому величеству. И вы нас пропустите, потому что покамест он едет, нам нужно найти ему дом. А твоя милость будет, должно быть, хорунжий и это твои люди?
– Пусть я буду хорунжий и пусть это мои люди, – ответил маленький человек, задирая еще больше голову, чтобы получше рассмотреть лица запорожцев, – а верно ли, что вы не врете?
– Зачем нам врать?
– А кто тебя знает, зачем. Я – не ты. Если бы я был ты, то я знал бы зачем. А вот пусть подъедет ваш пан, тогда мы его пустим.
– А если нам пан велел подыскать ему дом в городе, пока он едет? Ты думаешь, он тебе спасибо скажет, если ему придется ночевать в возке?
– А то, может, – вставил и свое слово другой запорожец, – тебе спасибо за это скажет его пресветлое величество?
– Пусть они побожатся! – крикнул кто-то в толпе, стоявшей под воротной аркой.
Тогда запорожцы сняли шапки, и один из них сказал:
– Ну, давай божиться.
И, поглядев друг на друга, они подняли глаза к небу и заговорили разом оба:
– Божимся и клянемся, что у нашего пана нас сто человек.
Маленький человек, когда запорожцы стали смотреть на небо, и сам поднял глаза вверх, как-будто мог там что-нибудь увидеть. Он это сделал быстро и сейчас перевел глаза опять на запорожцев, и лицо у него стало недовольное.
Ему казалось почему-то, что запорожцы не придают никакого значения своей божбе и потому именно не придают ей значения, что имеют дело с ним, с татарином.
Он был татарин…
Войско тушинского царика, запершегося в Калуге после того, как он был выгнан из Тушина, почти на две трети состояло из татар. Все городские ворота охранялись татарами, либо приставшими к царику московскими людьми и казаками под начальством татар.
Начальник стражи у тех ворот, где происходила описываемая сцена, назывался Урус.
Он был не простой татарин, а близкий царику человек, его царедворец… Но время было тревожное, и по ночам стражу у городских ворот держали часто цариковы близкие люди. Они опасались и за царика, и за себя.
Урус смотрел на запорожцев, как они, задрав головы, говорили каждый свое, что кому приходило в голову. Сначала один было из них повторял слова товарища, говорил слово-в-слово то, что тот говорил.
Но потом крякнул и, возвысив голос, стал божиться самостоятельно.
Урусу приходилось теперь сразу слушать и того, и другого.
И когда он улавливал смысл слов одного, слова другого пропадали для него, совсем без толку пролетали мимо и замирали в воздухе, где-то позади него, не оставив никакого следа.
Долго-таки они божились, стараясь перекричать друг друга. И это было мучительно для Уруса и хотелось заткнуть уши, потому что что-то там начиналось в ушах, какая-то боль.

– Пусть я буду хорунжий…
И эта боль отдавалась в голове, в мозгу, силящемся напрасно понять то, чего понять было никак нельзя.
– Будет! – крикнул Урус.
– Как твоя милость хочет, – сказали запорожцы.
Они одели шапки и, подобрав поводья, тронули лошадей вперед.
– Нельзя! – крикнул Урус, высвободил руки из-за спины и одну сунул за пазуху, а другою взялся за рукоятку сабли.
Он стал отступать перед запорожцами под арку ворот и что-то тащил из-за пазухи, оглядываясь в то же время назад.
– Не пускать! – крикнул он и вытащил из-за пазухи длинный с тонким стволом пистолет.
Под аркой теперь было совсем темно. Луна поднялась выше и светила через край стены на дорогу, по которой приехали запорожцы.
Запорожцы переглянулись, натянули поводья, и один из них крикнул:
– Да, ты, что-ж, твоя милость, ты, может, думаешь, что мы вдвоем бросимся на весь город?
– А хоть бы вас и совсем не было, – проворчал Урус из-под арки, – мы его и без вас убережем. Тут тебе не Тушино.
– Тушино – не Тушино, – сказал запорожец, – а, небось, он не ваш, а наш. Миром мазанный. Он, небось, христианин. А так-то ты его слуг принимаешь?
Под аркой несколько голосов заговорило разом:
– Ведь божились…
– Что они не крещеные, что-ль? Станут Господне имя зря…
– Княже, может, и правда от какого боярина…
– Спосылать бы кого на царский двор…
И потом кто-то резким голосом крикнул:
– Эй, молодец, а ты скажи, как твоего пана имя, звание?
– А звать нашего пана Молчанов! – крикнул один из запорожцев.
Под воротами опять заговорили, но вполголоса.
Трудно было разобрать, о чем говорят там.
Запорожцы подумали, что, должно быть, у царика дела не совсем хороши: у них, у запорожцев, этого не водилось, да и ни в одном войске не водилось, чтобы простые рядовые казаки где-нибудь на карауле в присутствии начальника караула советовались между собой так, как сейчас советовались караульные Уруса.
Запорожцы слышали среди других голосов и голос Уруса. Но, судя по тону его голоса, он не сердился и не старался водворить порядок: он тоже советовался.
Голоса под воротами стихли, и опять вышел Урус. Сердито он спросил, мотнув головой вверх:
– Какой это Молчанов?
– А что еще в Тушине был… с Салтыковым…
– Пропустишь, что ли?
– Проезжайте, – так же сердито сказал Урус.
Молчанов с собой привел в Калугу действительно около сотни казаков.
Он им платил хорошее жалованье – из Азейкиной казны.
После того, что произошло на Азейкином постоялом дворе, оставаться в Тушине Азейке было невозможно.
Но нельзя было также и уйти в бега, имея охрану всего из семи запорожцев.
Не случись того, что случилось, Молчанов мог бы спокойно двинуться в путь, сопровождаемый этими семью запорожцами.
Но дело осложнилось так, что, казалось, никак не выпутаешься из создавшегося положения, когда по приказанию Молчанова запорожцы обезоружили и перевязали приказных стрельцов.
От стрельцов можно было бы отделаться гораздо проще. У Молчанова едва было не сорвалось слово, равносильное для стрельцов смертному приговору.
Но он вовремя сдержался.
Было легко перебить стрельцов и самим бежать. Но тогда бегство его и Азейки скоро открылось бы. Была бы наряжена погоня, и их где-нибудь настигли бы.
Молчанов распорядился иначе. Связанных стрельцов поместили в одних из тех саней, на которых стрельцы приехали.
На другие сани Азейка сложил все свое добро, хранившееся у него в погребе, и бочонок с вином. В эти сани сел он сам и с ним Молчанов. А баб, т.-е. Азейкину дочь и приехавшую с Молчановым еврейку, усадили в возок. За кучера на облучке возка сел один из запорожцев.
Выехали из Тушина под-вечер, проехали верст пять по большой дороге и свернули в лес.
Молчанов всю свою жизнь мыкался по разным местам – и по Москве, и по Украйне, и в Польше.
Имел он возможность хорошо узнать и запорожцев и знал за ними одну хорошую черту. Если нанимались за деньги и деньги им платили аккуратно, они никогда не изменяли.
Нанявшихся и изменивших тем, кто их нанял, они презирали и к себе не принимали. Это считалось по-ихнему одно и то же, что украсть у своих.
Поэтому Молчанов доверился им совершенно.
Из Тушина им удалось выехать никем незамеченными. Стало-быть, если бы начались от приказа розыски и стали бы допрашивать тушинских мужиков, куда девались посланные за Азейкой стрельцы, мужики сказать об них ничего не могли.
Тогда посланные с розыском кинулись бы искать след и в конце-концов, всего вернее на след напали бы. Одно могло помочь беглецам укрыться от погони: если бы пошел снег и замел бы следы от саней, от возка и от лошадей, на которых ехали запорожцы. Но рассчитывать только на случай было не в характере Молчанова.
И он обратился к своим запорожцам с просьбой указать ему где можно достать не семь или десять человек в провожатые… Ему теперь было нужно много народу: он просил сотню или полсотни.
Стрельцов он не намеревался везти до самой Калуги. Он решил, что выпустить их на волю или расстреляет, – смотря по тому как покажут обстоятельства, – отъехав от Тушина верст пятьдесят.
Он об этом сообщил Азейке, и Азейка такой его план одобрил. Понимал он также, что чем больше у них будет народу, тем вернее будить спасение.
И хотя ему жалко было расставаться со своим добром, он согласился и с тем, что необходимо принанять к семи провожавшим их казаков еще хоть человек пятьдесят или более.
Молчанов сам лазил с ним в его погреб, и когда Азейка показал ему хранившееся там богатство, он изумился.
Он подумал, что Азейка, вероятно, не отдает себе точного отчета, сколько он заработал за время своего корчмарчества в Тушине… Знает, что у него всего много, а сколько много– не знает.
Конечно, на те богатства, которыми владел Азейка, нельзя было начать войны.
Но шум поднять можно было порядочный.
И еще неизвестно, чем кончился бы этот шум.
Он убедил Азейку, что все переговоры с запорожцами он будет вести сам. А Азейка чтобы не вмешивался.
И он так умно и так ловко повел дело, что запорожцы с первого же дня стали смотреть на него не как на человека, которому нужна только охрана, а как на предпринимателя крупного дела, которое, может, быть, будет еще позвончее, чем дела других таких же предпринимателей, вроде прежнего ихнего вождя Сапеги.
Он сразу взял с ними совсем другой тон, как только они свернули сь дороги в лес.
Онь велел подать себе коня того из запорожцев, который правил лошадьми, запряженными в возок, и взобрался в седло.
Шубу он скинул и остался в одном теплом полукафтане. Сверх полукафтана, он надел панцирь с серебряной насечкой.
В седле казачьей лошади, которую ему подвели, были кобуры для пистолетов.
Но пистолетов в кобурах не было.
Он засунул в каждую кобуру по пистолету. Пистолеты были парные и подстать панцирю: украшенные серебром и золотом.
Все эти вещи он достал от Азейки.
Оказалось, при этом, что ему хорошо известна польская команда.
Он ехал позади последних саней, и оттуда ему все было хорошо видно.
Когда казаки разбредались в стороны, лавируя между деревьями, он покрикивал:
– Ровняйся!
А когда они скучивались, командовал опять, чтобы держали строй. И ругался ни дать, ни взять, как какой-нибудь польский офицер, у которого от частых упражнений в этом в голове только и остались одни командные слова да ругань.
И свой маленький отряд он расположил как опытный человек.
Двое запорожцев ехали позади него шагах в ста, а остальные четверо сейчас же за передними санями, которыми правил Азейка.
Когда совсем стемнело, пришлось остановиться и ожидать, пока взойдет луна.
Именно этим временем, когда за темнотой нельзя будет ехать дальше, и хотели воспользоваться запорожцы, чтобы съездить куда-то и привести Молчанову людей столько, сколько ему нужно.
Уехали их двое, а пятеро остались.
Эти пятеро хотели было развести костер, но Молчанов запретил.
Зато он дал им каждому по порядочной чарке водки и сам с ними вместе выпил.
Минуты, которые он провел в ожидании прибытия новых, еще неизвестных ему воинов, были тревожные минуты.
Разве запорожцы, зная, что Азейка захватил с собой если не все, что прятал у себя в подвале, то очень большую часть своих сокровищ, не могли поддаться искушению этими сокровищами завладеть?
Он верил своим запорожцам, тем, которых нанял в провожатые через посредство Азейки. Он кроме того дал им понять, что они ему нужны не столько в провожатые, сколько для одного задуманного дела, могущего их обогатить.
Но он не знал, что за народ они приведут…
Все, однако, обошлось благополучно.
Когда взошла луна, по лесу двигался сильные отряд, человек около ста. Фыркали лошади, скрипели полозья.
В санях, на которых ехал Азейка, уже не было бочонка. Его бросили, так как он был пуст: перед тем, как отправиться дальше, Молчанов отдал этот бочонок в полное распоряжение казакам.
Он был рад, что все они запорожцы.
И запорожцы тоже были довольны. До сих пор они действовали вразброд, мелкими шайками. Теперь у них был вождь.
Начиналось как-будто что-то, что было раньше. Правда они иногда и, не имея вождя, действовали сообща. Но то было совсем другое. Не было такой уверенности, какая была сейчас. Конечно, они не знали, что за человек Молчанов. Но они вспоминали Сапегу. Может, Молчанов не Сапега, так хоть пол-Сапеги. А Сапега всегда был удачлив и счастлив, что бы ни предпринимал.
ГЛАВА XIII.
До самой Калуги Молчанов не слезал с коня. На другой день после отъезда из Тушина у него была стычка с небольшим польским отрядом, рыскавшим по лесу в поисках за ворами.
Но польский отряд был слишком малочислен.
Запорожцы прогнали его с одного удара.
В этот же день Молчанов велел развязать стрельцов.
Казаки порывались было перебить стрельцов.
Он этого не позволил. И стрельцы кланялись ему в ноги и говорили, что будут за него вечно Бога молить.
А Молчанов на это им сказал тихо:
– Молитесь лучше о здравии царя Дмитрия Ивановича.
Потом он велел им уходить.
И стрельцы побрели один за другим по глубокому снегу, стараясь попадать ногами в колеи, прорезанные полозьями саней.
Не доезжая до Калуги верст пятнадцати, Молчанов послал вперед двух запорожцев с поручением подыскать для него и для его спутников жилье.
Дальнейшее читателям известно. Татарский князь Урус, которого стоявшая в воротах стража называла «княже», разрешил им проехать в город.
Но было уже такое время, когда жизнь в городе потихоньку замирала.
В узких улицах, заметенных глубоким снегом, не было видно прохожих.
Ярко светила луна.
Было тихо.
В маленьких бревенчатых домиках, с крышами, покрытыми толстым слоем снега, сквозь пузырчатые или стеклянные, обмерзшие льдом окна тускло мигали огни лампадок.
Запорожцы не знали, что им делать.
Проехали насквозь одну улицу, свернули в другую. Здесь было все одно и то же: сугробы снега, и потонувшие в этих сугробах бревенчатые избы, огоньки лампадок в избах.
От изб и заборов на снег падали синие тени.
За заборами были сады. Свешивались через забор ветки деревьев, облепленные снегом, и от них на заборы падали тоже синие тени.
И лежали синие тени на крышах церковных пристроек от невысоких, тоже с синими крышами колоколен.
Из улицы в улицу, из переулка в переулок они выехали на площадь, посреди которой горел костер.
Вокруг костра сидели люди. Слышался говор.
Блестели воткнутые в землю копья то от костра, красным, почти кровавым отблеском – когда костер разгорался особенно ярко, взметывая высоко вверх трепещущие языки пламени, – то от месяца, когда языки пламени опадали.
На месяце копейные жала казались совсем голубыми.
И тоже то черные были тени от сидевших у костра, то голубые, когда костер примеркал и один месяц озарял площадь.
Запорожцы поехали через площадь к костру.
И здесь тоже было снежно и всюду были сугробы.
Лошади в иных местах загрузали по брюхо.
Чем ближе к костру подъезжали запорожцы, тем слышнее становился говор.
Запорожцы вдруг как по сговору, сразу остановили лошадей и поглядели один на другого. И первую минуту молчали, а потом заговорили:
– Это ведь наши.
– Только что это они варят?
– Да уж что-то варят.
– У них котел.
И, говоря это, они усмехались очень довольно и гладили свои усы и подбородки.
Потом один из них, сняв шапку, поднял ее над головой и замахал ею в воздухе, все не переставая улыбаться.
А другой тут же закричал:
– Гой! Гей!
Сидевшие у костра стали поворачивать головы: одни– в одну сторону, другие – в другую.
Сразу они не сообразили, откуда им кричат.
И при этом, им от костра плохо было видно, что делается кругом на площади: огонь костра слепил глаза.
Один из них поднялся на ноги, а двое из сидевших протянули руки по направлению, к загрузшим в снегу. конным фигурам и стал кричать:
– Вон они!
– Езжайте сюда.
И тот, который поднялся, закричал тоже:
– Езжайте сюда!
И замахал рукою.
Минуту спустя посланцы Молчанова сидели в компании, тоже, как и они сами, лесных разбойников, загнанных в Калугу нуждой и голодом.
В тех местах, где эти, «лыцари», как иногда они любили величать себя, оперировали, уже все было обобрано дочиста. Поневоле пришлось пристать к царику.
Все это выяснилось из взаимных вопросов и расспросов, начавшихся сейчас же, едва молчановские запорожцы уселись у костра.
– Плохо стало в Московии, – говорили калужане запорожцам, – и куда все девалось? Мы из-под Твери…
– Вона, – сказал один из молчановцев, – куда простринули.
– Далеко-то, далеко. А вы откуда?
– Мы-то?
– Да, вы.
– Мы-то с-под Москвы. Там тоже не дуже богато…
– А Жолкевский?
– А начхать и на Жолкевского. Жолкевский в Кремле. Дня два назад было… А что это вы варите?
– Овцу… А что было?
– А так… Побили Жолкевского. Мы с одним паном.
– А, с паном… Сколь же вас было, когда вы побили Жолкевского?
– Да мы не Жолкевского.
– Так я и думал. А то разве я мешал бы ложкой, как сейчас мешаю.
И зачерпнув из котла на ложку немного варившейся в нем просяной каши, запорожец поймал вслед за тем еще и кусочек баранины и стал дуть на ложку.
Подумав, он, не поворачивая головы, а только скосив глаза в сторону молчановского запорожца, сказал:
– А что у вас было с этим паном?
– Наш пан как пистолет…
Он хотел продолжать, но так как в эту минуту калужский запорожец запрокинул голову и, разинув рот, вытряхнул туда кашу и кусок баранины, – ничего не оказал и даже забыл, что хотел сказать.
Калужский запорожец опять скосил глаза в его сторону и повторил:
– А что-ж с этим паном у вас было?
– С каким паном?
– А с этим, про которого ты сказал: «он как пистолет».
– Так это наш пан! – воскликнул молчановский запорожец. – Он послал нас вперед найти ему дом, и мы уж полгорода объехали.
– Стучались куда-нибудь?
– Нет.
– И хорошо, что нет, потому что все равно не пустят. Э, нет, это такой народ, такой народ. Я даже не думаю, что может быть такой народ.
– А где же вы овцу взяли?
– Ваш пан, стало-быть, приедет, а ночевать негде. Вот и мы тоже приехали, вы нынче приехали, а мы пять дней как приехали. А жить негде. А овец разве мало? Они котят каждый год, говорят, Бог знает сколько ягнят. Все равно как свиньи. И как мы тут пожили пять дней, то теперь все знаем: тут все ханы.
– Как ханы?
– А так – татары. Его величество (дай Бог ему здоровье за эту овцу, потому что хоть на нас пожаловались, а он говорит: и они мои слуги, как же им не есть?). Его величество у них на аркане. А нам веры теперь нет. Кому есть еще вера, – так московским дворянам. Они тут сами и караулы держат по ночам. Вот что. А твой пан кто?
– Он не такой, чтобы держат караул в воротах.
– Московский?
– Не знаю… Этого у нас никто не знает, потому что у него на языке два слова московских, а два польских. Как же его узнаешь, какой он?
ГЛАВА XIV.
У Молчанова было две причины, заставившие его бежать из Москвы.
Он не придавал особенного значения тому, что украл, как про него говорили в Москве, жидовскую девку.
Никакая кара за это его не ожидала. Но у него было другое дело, посерьезнее.
Во-первых, он как-то так обошел одного видного московского боярина, что боярин в благодарность за его «волхования» записал на него двух своих дворовых людей и в придачу к ним пару хороших лошадей и сани.
А, во-вторых, у него случилась кровавая драка с дворянами, проживавшими у этого, обойденного им боярина.
В драке он был ранен и сам убил троих.
Он был хороший фехтовальщик. Это его спасло от неминуемой смерти. Да спасла его еще темная ночь, когда драка случилась.
В ту же ночь на заре он и уехал в Тушино.
Из Тушина он намеревался пробраться вместе со своей еврейкой в Калугу искать милостей при укрывшемся там тушинском царике.
Он уже заранее обрекал себя на всякия унижения, которые ему придется претерпеть во время хождений по близким царику людям.
Но дело изменилось сразу.
В Калугу его сопровождал отряд хорошо вооруженных и хорошо знающих военное ремесло людей.
Не семь человек, а целая сотня.
Будь у него только семь человек, он ехал бы в возке, кутался бы в шубу и, вероятно, за всю дорогу из этого возка не вылез бы ни разу.
И вступил бы в Калугу, как ищущий защиты и приюта бедный, обиженный московский дворянин… Но теперь он мог показать себя совсем с другой стороны.
Не зачем было унижаться и просить.
Он решил, что вступит в Калугу на заре в вычищенном панцире, построив своих запорожцев по четыре в ряд.
Не помощи он хотел просить у тушинского царика, а сам ему хотел предложить помощь.
Он обещал своим запорожцам хоромы и жалованье и объявил кроме того, что раз представится случай взять на саблю какую-либо боярскую или дворянскую усадьбу, или монастырь, он этому не только препятствовать не будет, а и сам приметь участие и пойдет на нож и на пулю «в первую голову».
Он говорил им, что хорошо знает все подмосковье, верст на сто кругом и может указать, где и какое зверье закопалось в норы.
Одним словом, в глазах запорожцев он был именно такой человек, который им был нужен…
Им уж становилось скучно мерзнуть по большим дорогам, поджидая проезжих в Москву и из Москвы. А все деревни, все церкви, все усадьбы дворянские и боярские были уже давно обшарены… И нечего там теперь было искать.
Поэтому они и пошли за Молчановым в Калугу.
Но Молчанов немного ошибся в своих расчётах относительно того, какое положение он займет при царике.
Посланные им вперед два запорожца с поручением найти жилье хотя бы для баб только к утру разыскали совсем почти на краю города, около самой стены нежилой дом о двух комнатах с небольшим прирубком.
Дом стоял заколоченный.
Молчанов предполагал, что сам он эту последнюю ночь своих скитаний проведет в поле, у стены Калуги, разведя костры… А баб в возке отправить в город, не дожидаясь утра.
Но обстоятельства сложились так, что в поле пришлось заночевать и бабам.
Вступил он в Калугу действительно на заре, когда в церквах начались обедни и улицы были полны народу.
Именно этого он и хотел.
Когда ночью его запорожцы развели в поле костры, подъезжал к кострам Урус не один, а с целой толпой вооруженных всадников – татар и московских людей.
И Урус опрашивал запорожцев, готовивших у костров варево:
– Чье войско?
И когда узнал чье, стал смотреть туда, куда показывали ему запорожцы.
И увидел статного всадника в польском панцире и шлеме, стоявшего на освещенном костром, красном снегу…
Была красивая картина: огонь костров горел на панцире и шлеме, и фигура всадника казалась огненной фигурой.
Узнав от Молчанова, что он хочет служить его пресветлому величеству. Урус ускакал со своими татарами и московскими людьми в город и имел совещание с пресветлым величеством, уже собравшимся ужинать.
Царик обрадовался.
Но Урус был угрюм.
Он сказал царику:
– Чем их больше, тем меньше нас.
– Как так? – сказал царик, поднося ко рту большую серебряную чарку. Он уже приготовился опрокинуть чарку в рот, но не сделал этого. И так и остался с открытым ртом, глядя на Уруса, что он скажет еще в пояснение тому, что сказал.
Урус объяснил очень просто:
– К нам только и идут одни дорожные грабители. Чем их будет больше, тем нас будет меньше, потому что они ползут сюда со всех сторон, а наши больше не идут.
У Уруса с цариком были почти приятельские отношения. Царик ему доверялся во всем.
– А почему не идут ваши? – сказал царик и поскорее опрокинул чарку в рот, крякнул, потер грудь ладонью и закусил, зачерпнув из серебряной миски. серебряной ложкой студня с хреном.
Царик, как и Урус, был невысок ростом. Борода у него была курчавая, русая, круглая и веселые голубые глаза.
Одет он был в виду позднего часа, близкого к отходу ко сну, в пунцовую шелковую рубаху, без надеваемого обыкновенно поверх рубахи полукафтанья.
На ногах были татарские мягкие, шитые бисером туфли с загибающимися вверх острыми носками.
Широкия шелковые шаровары на сдержках у щиколоток были, как и рубаха, ярко-красного цвета.
– Почему же они не идут, ваши? – повторил он, опять наполняя чарку водкой.
И видно было, что, хотя его интересует этот вопрос, почему идут к нему казаки, а татары не идут, – его вместе с тем привлекает и серебряная чарка, которую он держал перед ртом.
– А? – сказал он, поглядев в чарку и потом на Уруса. И потом опять в чарку.
Урус его хорошо знал. Он больше всех кушаний любил студень с хреном. И Урус понимал, что он сейчас предвкушает удовольствие, когда выпьет и заест водку студнем.
– А? – сказал он, для чего-то дунул на чарку, осушил ее залпом и, ставя одной рукой чарку на стол, другой потянулся к ложке, торчавшей из миски.
– Потому и не идут, – ответил Урус. – Чего здесь сидеть, уж поляки в Москве.
Царик отошел от стола и лег на лавку, покрытую дорогим персидским ковром. Он спал не здесь, а в другой комнате, но он говорил, что, лежа ему думается легче.
Спать он еще не собирался.
Лежа навзничь, он согнул ноги, выставив вверх колени и заложив руки за голову.
– Погоди, – сказал он Урусу, – дай подумать…
И через минуту заговорил:
– Если они идут ко мне то, значит, я еще сила. Нет, я приму к себе этого Молчанова. Я его еще помню по Тушину.








