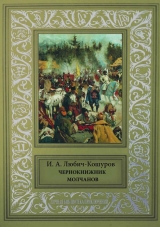
Текст книги "Чернокнижник Молчанов [Исторические повести и сказания.]"
Автор книги: Иосаф Любич-Кошуров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
ГЛАВА VII.
Когда Азейка узнал, что Молчанову требуется возок и провожатые, он подумал, что это ему «указание свыше».
Уже несколько лет подряд он испытывал, как ему казалось, особенное Господнее покровительство.
В тушинской церкви богомольцы видели очень часто большие «жертвенные» свечи красного цвета, горевшие перед чтимыми иконами.
Свечи ставил Азейка – это знало все Тушино.
На совести Азейки было много грехов. Последний его грех быль этот возок, пробитый пулями. Собственно, Азейка не считал грехом, принимать от запорожцев то, что они к нему приносили. Но об этом он старался не думать. Ему иной раз даже становилось жутко оттого, что вот ты хоть ему кол на голове теши, а он останется все равно при своем. Не грех.
Нет в том греха, что ты скупаешь награбленное.
Разве сам ты грабил, сам разрубил или прострелил какой-нибудь женский дорогой головной убор?
Жива ли, умерла ли та женщина, на которой был этот головной убор, – это опять его дело.
Раз он принял от запорожцев душегрею с жемчужными пуговицами и золотыми петельками.
Душегрея была в крови, и Азейка решил, что ему нужно отслужить панихиду.
Но, во-первых, как служить панихиду, когда не знаешь имени умершего, а во-вторых – разве так не могло что запорожцы сняли душегрею с раненой, а не с убитой?
Ранили, а добивать не стали.
И это ему тоже было жутко, – что он не знал, как ему поминать владельцев, приносимых ему запорожцами вещей…
За упокой или за здравие?
И он решил, что нужно ставить жертвенные свечи по-череду всем иконам, перед которыми кадят во время обедни.
Когда он ставил свечи, он молился, чтобы беда прошла мимо, чтобы как-нибудь не выплыло чего наружу.
Он шептал, крестясь:
– Пронеси и спаси.
И клал поклоны, стукаясь лбом о церковный пол.
И пока у него все сходило благополучно…
Он считал себя не только праведным перед Богом, но даже и покровительствуемым небесными силами.
Он, правда, чувствовал себя не совсем спокойно, когда заговорил с Молчановым про возок и запорожцев, так как знал, что Молчанов имеет своих доброхотов и в разбойном, и в других приказах и чуть ли сам не служил в свое время именно в разбойном приказе.
Но вместе с тем он и того обстоятельства тоже не упускал из виду, что Молчанову понадобились запорожцы и возок. Как-раз тогда, когда он от них всего более хотел отстать.
У него выкатились истинные слезы умиления, когда Молчанов без лишних разговоров заявил ему, что и возок он у него возьмёт, и запорожцев на службу к себе примет.
Он поднял глаза к потолку и произнес мысленно, поднимая в то же время обеими руками полу поддевки:
– Слава тебе, Создателю!
И утер глаза полой поддевки.
И лицо у него было светлое и радостное, потому что в таком обороте дела видел опять знак особой Божией милости.
Молчанов попросил показать возок.
– Да нельзя, – сказал он, привалившись грудью к краю стола, вытянув шею как гусь, когда его поманят хлебом, и перестал мигать вдруг округлившимися глазами.
Молчанов смотрел вопросительно в его остановившиеся немигающие глаза.
– Ен там спит, – пояснил Азейка, – ихний…
– Кто?
– А, казак…
– Ну, вот – сказал Молчанов, подымаясь.
Азейка протянул к нему руки, выставив как напоказ обе ладони с широко растопыренными пальцами и воскликнул:
– Ни Боже мой!
И вдруг сдвинул брови, выпятил губы и затряс головой.
Потом он сказал:
– Враз.
И, сжав правую руку в кулак, сделал ею непонятный для Молчанова жест. Жест этот должен был изображать, как разбуженный запорожец при виде незнакомого человека, Господь его ведает, может, возьмет да пырнет чем-нибудь.
И, держа руку так, как-будто бы в ней был кинжал, и он занес ее для удара, Азейка придал лицу холодное и жестокое выражение и проговорил, сейчас же сменив выражение жестокости на своем маленьком морщинистом лице на выражение ужаса:
– Тут-же пришибёт.
– Ого! – воскликнул Молчанов с очень довольным видом и стал крутить усы, загибая их кверху.
– Ии, – сказал Азейка, – страсть! Такой народ, такой.
– И они все такие!
– Они-то?
Продолжая крутить усы, Молчанов утвердительно мотнул головой.
– Как все? – спросил Азейка, стараясь его понять, и не понимал. Он сдвинул брови, и на лбу у него собрались морщины.
– Все, говорю, такие, как этот – сейчас нож?
Азейка просветлел сразу, закивал головой и заговорил:
– Эге, эге!
– Из каких?
– Ась?
– Из каких они? Говоришь, казаки?
– Казаки.
– Чьи?
Азейка опять, как гусь вытянул шею, округлил глава и произнес:
– Сапегины, вот чьи.
Сказал он это для чего-то шепотом и, когда сказал, положил руки на край стола и склонил на бок голову.
И, сидя так, с склоненной к плечу головой, смотрел на Молчанова и улыбался приятной улыбкой, ни дать, ни взять, как торговец, расхваливающий покупателю особенно хороший, долженствующий поразить его воображение товар. И, уловив вдруг в лице Молчанова выражение недоумения, приложил к груди руку и воскликнул, поднимая брови:
– Что?.. Ей-Богу!
– Да, ведь Сапега… – начал было Молчанов, но Азейка его перебил:
– Знаю, знаю! Не пошли!
– Как не пошли?
– Так и не пошли! Тут от Сапегина полка разве они одни? Я – то знаю.
– Есть?
– Ого! Только свистнуть.
Молчанов закусил ус и спросил:
– А много возьмут? Сколько их у тебя?
– Семеро…
– Гм… На конях?
– Как же!
– Значит, и корм надо.
Молчанов покусывал ус, обдумывая что-то.
Вдруг он сказал:
– У тебя есть овес?
– Да, ведь как же, – сказал Азейка, расставив руки. – На коне много не увезешь… Оно, положим, есть.
– Много?
– Если семеро, дня на четыре хватить.
– Ну, и ладно. У меня есть сани. Только надо еще лошадь. А шуба?
– Найду и шубу.
– Лошадь достанешь?
– Это можно.
– Ну, тогда ладно. Разбуди-ка ты, поди, мне этого молодца. Что он у тебя всегда; что-ль?
– Не… Так вышло… Народ-то ведь… Ой, какой народ!..
ГЛАВА VIII.
По длинной тушинской улице ехали стрельцы на двух санях.
Всех стрельцов было пятеро: на передних санях двое и трое на задних. В передних санях лежали деревянный колодки, в который забивают ноги преступников.
Стрельцы были вооружены мушкетами, саблями и алебардами.
Поравнявшись с Азейкиной избой, стрельцы остановили лошадей, повылезали из саней и направились все разом, тесной кучей к крыльцу.
Мушкеты и алебарды они оставили в санях.
Первый вошел в сени седой стрелец с окладистой бородой и худым строгим лицом, как у монаха, и строгими глазами. Он хоть и был простой рядовой стрелец, начальство назначало его за старшого на небольшие наряды и называло его в виду его преклонных лет и его действительно строгой жизни не по имени, а по отчеству– Иванычем.
Остановившись в сенях перед дверью, которая вела в избу, Иваныч сказал стрельцам:
– Стучите!
– А может отперта, – сказал один стрелец и подергал дверь за скобу.
Сейчас же он застучал в дверь: дверь оказалась запертой, – Это, может, у тебя всегда отперта, – проговорил Иваныч, с холодно, и немного зловещей улыбкой на тонких бескровных
губах. – У этаких отперта не бывает.
Он положил руку на скобку двери и ждал, когда ее отопрут.
Дверь немного приоткрылась.
– Чего вам? – сказал голос за дверью и сейчас же изнутри избы дверь потянули назад. Тянул дверь кто-то очень сильный. Иваныч схватился за скобку в другой рукой и крикнул:
– Н-нет, врешь!
И потянул дверь к себе. Но ему было трудно. Он оглянулся назад и крикнул хрипло:
– Что же вы стали?
Но в то же время и в избе закричал кто-то:
– Да чего ты? Пусти их!
– Ну, идите, – сказал за дверью тот, кто ее удерживал. Иванычу сразу стало легко.
Он распахнул дверь.
Однако, он не сейчас же вошел в избу. Держась рукой за скобку двери, он на мгновенье застыл в этой позе, заглядывая в избу и обшаривая в ней строгим своим взглядом каждый уголок, который отсюда был ему виден.
Потом он оставил дверную скобку и схватился левой рукой за ножны прицепленной к поясу его левого бока сабли, а правой за её рукоять и потянул саблю из ножен.
Не оборачиваясь к стрельцам, а смотря прямо перед собой в открытую дверь, он крикнул:
– Беги кто-нибудь за мушкетами.
Он вытащил саблю из ножен ш согнув немного спину, выставил саблю вперед, держа руку, в которой была сабля, прижатой локтем к боку.
– А, воры, ждеся вы! – закричал он в избу.
У него почти не было зубов и голос был шамкающий. Но беззубый рот улыбался зловеще и не было ни тени страха в его изможденном лице и в его глазах, бегавших по избе с таким выражением, будто это были не глаза, а живые угли, полные ненависти и могущие жечь как настоящие угли. И он точно выбирал, кого испепелить первым.
Изба была полна вооруженных людей, одетых по-казацки. Посреди них стоял высокий поляк с черными усами.
Что это поляк, Иваныч плохо определил по костюму. Молчанова он совсем не знал и очень удивился, когда поляк заговорил с ним по-русски.
Увидев Молчанова, окруженного казаками, он так и решил, что у Азейки собралась казачья разбойничья шайка предводительствуемая поляком.
Молчанов ему крикнул:
– Тебе тут кого надо?
– А ты сам-то, кто? – крикнул ему в ответ Иваныч, выпрямившись и опустив саблю.
Он смотрел на Молчанова с полуоткрытым ртом и с остановившимися неподвижными глазами.
– Я – проезжий, – ответил Молчанов, – а это мои люди.
И спросил опять:
– Тебе кого надо?
Иваныч хотел ему сказать что-то, но в это время в сенях раздались шаги. Он обернулся быстро и крикнул:
– Запаливай огонь!
И опять обратился к Молчанову.
Он ему сказал:
– Не верю я тебе, вору!
Сзади него стрельцы разбирали мушкеты. Через голову Иваныча Молчанов видел, как эти мушкеты протащил по сеням тот стрелец, которого Иваныч за ними посылал.
Он их тащил за стволы по два в каждой руке. Потом этот стрелец опять побежал к саням. Молчанов крикнул Иванычу:
– Стой ты, дурак! Все равно я не дам вам ни разу выстрелить. А тебя так первого!
И показал Иванычу бывший у него в руках пистолет. Пистолет был кремневый.
Молчанов пощелкал курком и сказал:
– Видал? У нас у всех такие!
И прицелился в Иваныча.
– Ну! – крикнул он.
Мушкеты у Иванычевых стрельцов были фитильные. Чтобы их сделать годными к бою, нужно было сначала добыть огонь.
Иваныч, правда, слышал, что за спиной у него стрелец уже стучал огнивом о кремень.
Но Молчанов ему опять крикнул:
– Эй, гляди, старик!
– Стой! – закричал Иваныч стрельцам, глядя прямо в дуло, направленного на него пистолета и замахал на Молчанова рукой. – Буде тебе!
Потом он обернулся к стрельцам и сказал:
– Погоди!
– Не зажигать! – закричал Молчанов, очутившись в два шага возле двери и протягивая в сени руку с пистолетом. – Гаси, собака!
Разговаривая с Иванычем, Молчанов следил за тем, что делалось в сенях. И увидел вдруг, что один из стрельцов раздувает кусочек трута, а другой, в ожидании, пака трут разгорится, стоит около с мушкетом и готовит мушкетный фитиль.
– Стой, ребята! – сказал и Иваныч.
Стрелец, который раздувал трут, бросил трут на пол и наступил на него ногою.
Молчанов повернулся к Иванычу.
– Ты что, старшой, что-ль?
– Старшой.
– За кем прислан? Уж и колодки приготовил!..
Губы у него искривились.
– Как же это ты, не опросивши как следует, прямо в воры… Это я-то вор?!
Лицо у него побелело; он скрипнул зубами.
Иваныч полез за пазуху и вынул оттуда бумагу, свернутую
трубкой.
– А присланы мы, – заговорил он, – за вором Азейкой да за его девкой, – почто именует себя королевной. А он вор, Азейка, почто, согласившись с лихими людьми, чинит убыток проезжим…
ГЛАВА IX.
Иного выхода для Иваныча не было.
Нужно было вступить в переговоры. В приказе ходили глухие слухи, что Азейка приучает у себя дорожных воров. Но этих воров никто никогда у него не видал.
Однако, дыму без огня не бывает. Иваныч решил, что если Азейка воров не приучает у себя в избе, то дело у него с ними есть.
Как-нибудь и где-нибудь они, т. е. Азейка и эти дорожные воры, сходятся.
Во всяком случае они не ожидали встретить в Азейкиной избе целую кучу запорожцев.
В первую минуту, когда он их увидел, у него мелькнула мысль, что он накрыл Азейку с поличным.
В имеющейся у него бумаге из воровского приказа о ворах не упоминалось.
В бумаге говорилось лишь об Азейке и его «девке».
Обоих их, согласно тому, что в бумаге было написано, должно было, заковавши в колодки, немедля доставить в приказ для опроса.
Но когда Иваныч увидел в Азейкиной избе запорожцев, у него сразу вылетело из головы то, что он сам прочел в приказной бумаге.
Если бы его была воля, он ни одного запорожца, сколько их ни прячется в лесах около Москвы, не оставил бы в живых.
Когда в Москву приходили вести об убытках, чинимых ворами проезжим людям, он подавал даже мысль, что лучше всего было бы разбросать по дорогам пироги с отравой, «якобы кто утерял»…
Так он был озлоблен.
В своей ненависти, ослепленный ею, он не соображал, что такая мера, очень действительная, когда дело идет о волках, мало поможет против воров.
Ибо воры после первых же отравлений пирогами «якобы кем оброненными», других отравленных пирогов подбирать не станут.
Увидев в Азейкиной избе запорожцев, он озлобился еще больше, чем всегда был на них озлоблен.
Если бы запорожцев было не семь человек, а двадцать, он все равно долго не стал бы раздумывать и отдал бы приказ своим четверым стрельцам их арестовать.
Но и с теми семью запорожцами, которых он застал у Азейки, он, конечно, не справился бы, хотя бы уже потому одному, что запорожцы были вооружены прекрасными, дальнобойными польскими кремневыми, а не фитильными пистолетами. А в заднем углу избы стояли их короткие, тоже кремневые мушкеты с широкими дулами.
Из одного такого мушкета можно было переранить порядочно народу, потому что в него всыпалась чуть не горсть картечи.
Иваныч все это сообразил только тогда, когда отошел немного.
Но он опять не знал, как ему быть.
Ему предписывалось арестовать Азейку с дочерью. Но Азейки в избе не было видно, а распоряжался сейчас всем в избе этот странный человек, одетый по-польски, а речью своей – московский.
Иваныч не знал, кто он такой, и мало ему верил, что он проезжий.
Особенно его смущала повязка, со следами крови, на голове этого проезжего.
И, тем не менее, ему ничего не оставалось, как показать этому проезжему, имеющуюся у него приказную бумагу.
Может, он и в самом деле проезжий, а казаки не воры, а его люди.
Он хотел, чтобы это так было. Он подал Молчанову бумагу и смотрел на него пристально, пока он ее читал.
Молчанов сам служил в разных приказах, в том числе и в разбойном. Он хорошо разбирал и писаное, и печатное.
Но он долго читал бумагу.
Он обдумывал, как ему быть, что делать с Азейкой.
Дочь его он решил ни в каком случае не выдавать Иванычу.
Она была ему нужна. Он хотя и намеревался отправиться в дальнейший путь в тот же день, как столковался с Азейкой относительно возка и запорожцев, но, во-первых, запорожцы не могли собраться все в тот день, и ему волей-неволей пришлось заночевать у Азейки.
Запорожцы явились только на другой день.
А, во-вторых, у него были свои планы относительно Азейкиной дочери. В ту эпоху никакой план не казался безумным. Как-раз даже наоборот. Люди привыкли ко всему и |их ничем нельзя было удивить. У самого Молчанова не раз мелькала мысль, почему бы ему самому не объявить себя Дмитрием-Царевичем. Он в свое время близко знал людей, окружавших тушинского царька. Никто из них в его царское происхождение не верил. Он, этот тушинский царик, был-таки порядочный увалень и не особенно умен. Не одному Молчанову, а многим из цариковых близких людей, казалось, что любой из них на месте царика сумел бы держаться куда лучше, чем этот человек, похожий больше на конюха, чем на царя.
Поджидая запорожцев, Молчанов, в первый раз из одного только любопытства заглянул в каморку, где находилась Азейкина дочь. Потом он заходил к ней еще раза два или три, – уже не из любопытства…
Она была молода и красива. Но тянула к ней его не одна её красота и молодость.
Та женщина, с которой он приехал к Азейке, была еще более красива и была, кроме того, дорога ему.
Ради него она бросила все, все растоптала и все прокляла.
Он это ценил. Ни одна женщина никогда не давала ему того, чем она его обвеяла. Мало сказать, что для неё он был весь мир. Это слово или это сравнение – пустое и мало понятное. Когда она его целовала и обнимала, он чувствовал, что потому так бурны и так горячи её ласки, что в мире для неё нет ничего, кроме него. Что весь мир для неё – тьма и бездна… И она сама потушила свечи в том храме, в котором молилась. И отдалась ему в этой тьме и в этой бездне, оставшейся от разрушенного мира, от растоптанной веры в Бога, от растоптанной любви к близким.
В сумраке ночи, когда они оставались вдвоем и он её не видел, а мог только осязать, она казалась ему существом, вышедшим именно из бездны, сотканным из горящего в этой бездне пламени.
И за это, за то, что она была сам огонь горящий, где-то, где он не знал, но в который верил и которому служил, – он не уступил бы ее никому и умерь бы за нее, единственную, которая чувствовала в себе этот огонь ее сжигающий и потому сама была огонь и жгла его и зажгла в нем страсть, которой он не испытывал никогда и которую зажечь в нем не могла никакая другая женщина.
Она была еврейка, дочь часовщика, поселившегося в Москве года два тому назад.
Она бросила отца, которого любила так, как можно только любить отца на чужбине, и ушла к нему, человеку, служившему бездне.
В Москве Молчанова считали чернокнижником, продавшимся дьяволу. И он в это сам верил, потому-то, попав в Польшу после смерти первого самозванца, у которого был верным слугой, пристал к одной секте, совершавшей черную мессу.
Он верил в это, в то, что его жизнь принадлежит теперь не Богу, а дьяволу.
И она знала это.
И так как любила его, бросилась в его объятия, в эту бездну, где, она знала, нет спасения.
И оттого пламенна и так бурна была её любовь. Когда она обнимала его, она чувствовала, будто от него в нее входить огонь и разливается в крови по жилам и кровь горит этим огнем, испепелившим в ней навсегда все, что было для неё дорого и свято.
Женщина, кто бы она ни была, лишь бы была молода и красива, всегда волновала Молчанова. Волновала его и Азейкина дочь.
Но это было совсем в стороне и далеко от того чувства, которое он питал к своей еврейке.
ГЛАВА X.
Когда Молчанов увидел Азейкину дочь одетой в богатый польский костюм и когда услышал от неё, что она королева и ее злые люди держать взаперти неведомо за что, у него забродили неясный, не оформившиеся еще, но в общем весьма неопределенные мысли.
Говорила Азейкина дочь то по-польски, то по-русски, мешая оба эти языка. Иногда у неё на два русских слова приходилось пять польских, а иногда наоборот.
Вылечить ее от её болезни Молчанову казалось очень нетрудно. Для этого ее стоило только уверить, что она не королева, а русская деревенская девка.
Это, конечно, было бы второе сумасшествие. Вернуть Азейкину дочь совершенно к сознанию вряд бы удалось даже и Молчанову.
Но наружно она казалась бы здоровой.
Но еще легче было ее укрепить в прежней её вере в то, что она королевна. И не королевна, о которых говорится в сказках, а истинная королевна…
Мнишек, правда, не быль король, но Азейкиной дочери можно было внушить и это, что она дочь Мнишки и отдана Мнишком в замужество Дмитрию-царевичу.
Вот какие мысли закружились в голове Молчанова, когда он увидал Азейкину дочь.
Но ему некогда было это обдумать как следует. Сразу он не мог решить, выполнимо ли это во всех деталях, следует ли браться за это дело или нужно делать то, что он решил раньше: бежать скорее в Калугу, где приютился тушинский царик.
Он решил пока приступать к нему. А потом, оглядевшись, он уже будет знать, как поступить дальше.
Но, размыслив, переменил намерение.
Азейкина дочь особенно его не свяжет в дороге.
Он и ее привезет в Калугу и там посмотрит, годится она для осуществления его планов или нет.
Никакой беды от этого, от того, что он ее повезет в Калугу, не будет. До времени он ее будет держать взаперти под надежным караулом.
Когда он об этом думал, ему мерещилась кровь… Без крови обойтись невозможно будет, ибо невозможно, чтобы вдруг оказались две Марины и два «царика».
Но опять-таки ничего оформившегося и на этот счет в мыслях у него пока не было.
Он знал одно только Азейкину дочь нужно увезти.
Но как это сделать?
И, просматривая бумагу об аресте Азейки и его дочери, об этом именно он больше всего задумался.
Что делать?
И нельзя было терять ни минуты.
И вдруг его озарило.
Он сказал запорожцам по-польски:
– Слушайте меня и стойте смирно. Выйди кто-нибудь к лошадям на улицу и никого в сани не пускай. То, что я сейчас сказал, это нужно сделать, а то, что я буду говорить теперь по-русски, того не делай.
Сказав это, он хлопнул себя по лбу и воскликнул по-русски:
– Тьфу! Я и забыл…
Посмотрел на Иваныча и улыбнулся.
– Я и забыл, – повторил он, – где я…
И обратился опять к запорожцам:
– Сбегай кто-нибудь за хозяином. Куда он, за овсом, что-ль, пошел?
– За овсом, – ответил один из запорожцев, – я зараз.
И, схватив один из стоявших в углу мушкетов, расталкивая стрельцов, толпившихся в сенях, выбежал на улицу.
– А теперь вяжите их! – взводя курок пистолета, обратился Молчанов к оставшимся в избе запорожцам.
– Убью, только трепыхнись! – крикнул запорожец с улицы.
Молчанов направил пистолет в Иваныча.
– Сдавайся!
Запорожцы тоже выхватили пистолеты.
Этого Иваныч никак не ожидал.
Он загородился рукой от пистолета и отшатнулся в сторону, за притолку.
В сенях началась суматоха.
С улицы опять прокричал запорожец:
– Вот гляди: я вам наметил прямо в голову!
Стрельцы кучкой, как стояли перед растворенной дверью, едва в руках у запорожцев оказались пистолеты, все разом шарахнулись в сторону выходной двери.
Молчанов разбил окно и крикнул на улицу:
– Пали, как только выйдут, на крыльцо!
Запорожцы из избы бросились в сени.
Засверкали сабли… Но это были не казацкие сабли.
С необычайной ловкостью запорожцы обезоруживали стрельцов, хватая их за локти, отводя руки в сторону или назад и выхватывая их сабли из ножен.
Потом они втолкнули стрельцов в избу и заперли дверь.
Двое из них стали по сторонам двери, держа пистолеты наготове; один влез на лавку и снимал со стены, висевшие там на колке веревочные возжи.
Молчанов подошел к перегородке и постучал в нее кулаком.
Он крикнул:
– Азейка, вылезай!
И, оглянувшись на запорожца, снимавшего со стены возжи крикнул:
– Погоди, может, они нам самим понадобятся!
И хотел опять стукнуть в перегородку.
Но дверь в перегородке отворилась, и оттуда Азейка высунул голову.
Он был бледен, и на лбу у него крупными каплями выступил пот.
– Ты слышал? – обратился к нему Молчанов, мотнув головой на Иваныча, и, увидев тут опять запорожца на лавке с возжами в руках, спросил: —Есть у тебя еще возжи?
Но Азейка никак не мог опомниться.
Молчанов схватил его за ворот, прокричал, тряся за ворот, прямо ему в ухо:
– Есть у тебя еще возжи?
Он тянул Азейку к себе. Но Азейка уперся ногами в порог, а рукой, которой отпер дверь, – в края двери,
Молчанов продолжал трясти его за ворот, а он упираться.
– Да не тебя! – крикнул Молчанов. – Сейчас мы их будем вязать! Давай веревки!
– Кого? – сказал Азейка, глядя на стрельцов и не мигая.
– Кого! Стрельцов?
Азейка, весь трясясь от страха, еле выговорил:
– А почто?
– Да, ты не слышал что-ль?
– Знать не знаю, ведать не ведаю, – заговорил Азейка, подымая трясущиеся руки. Сейчас же он их опустил и повернул голову к Молчанову.
– Это приказные, что-ль? – сказал он.
– За тобой! – крикнул Молчанов. – Колодки видел, небось? Только мы их самих в колодки. Понимаешь… Ну?…
– А-а! – произнес Азейка. – Но все-таки видно было, что он плохо понимает, что с ним хочет сделать Молчанов.








