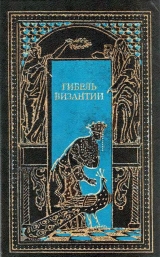
Текст книги "Гибель Византии (сборник)"
Автор книги: Иоаннис Перваноглу
Соавторы: Павел Безобразов,В. Нежданов,К. Диль,Чедомил Миятович,В. Козаченко,С. Тимченко,П. Филео
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
Так однажды Артабан, красивый армянский офицер, происходивший из царской династии Аркассидов, приобретший большую популярность в Византии, благодаря своей храбрости и щедрости, находясь в Африке во время военного мятежа, воспылал любовью к жене наместника Ареобинда, погибшего от руки мятежников. Прожекта, так звали молодую женщину, захваченная было вождем, бунтовщиков, приходилась Юстиниану племянницей, и честолюбивый армянин рассчитал, что оказав услугу такой важной даме, он может извлечь для себя всевозможные выгоды. Он не ошибся. Спасенная им Прежекта не могла отказать ни в чем своему заступнику; она не только осыпала его дарами, но и обещала вскоре свою руку. Опьяненный счастьем, Артабан уже надеялся с помощью этого блестящего брака проложить себе дорогу к трону. Прежекта вернулась в Константинополь, и Юстиниан, желая угодить влюбленным, разрешил Артабану последовать за ней. Он осыпал его почестями, назначил главным начальником иностранных войск гвардии и консулом. Но тут явилось неожиданное препятствие. Артабан совершенно забыл, что уже однажды женился в Армении: он давно расстался с первой женой и не имел о ней никаких известий. Весьма некстати она появилась в Византии и предъявила свои права на него. Феодора приняла в ней живейшее участие: она была непреклонна, раз дело касалось священных брачных уз. Она заставила Артабана принять к себе первую жену, а Прежекту, во избежание дальнейших недоразумений, выдала за другого.
Не менее сурово поступила она, заботясь о чистоте нравов, с двумя молодыми высокопоставленными вдовушками, которые, по мнению императрицы, слишком легко утешились в потере своих мужей. Поведение их могло служить дурным примером для остальных. Феодора решила выдать их замуж вторично и, чтобы больнее их унизить, она предложила им в мужья людей весьма скромного происхождения. Обе в ужасе укрылись в св. Софии, рассчитывая ускользнуть таким образом от ненавистного брака. Но Феодора заупрямилась: они должны были сдаться и, хотя люди более знатные просили их руки, согласиться на унизительный брак. Следует прибавить, что императрица приложила потом все усилия, чтобы утешить пострадавших, и осыпала деньгами и почестями их мужей.
Властная и привыкшая к повиновению Феодора вмешивалась иной раз в семейные дела, которые вовсе ее не касались. Ее упрекали в том, что она разрушала и устраивала по своему капризу браки с таким же деспотизмом, с каким управляла империей. Поступала так Феодора больше из политических выгод, чем из каприза; выдав замуж Прежекту за племянника того самого Гипатия, который провозглашен был императором во время мятежа «Ника», она хотела устранить одного из претендентов на престол. Подобные же соображения играли роль в ее поведении с Антониной и Велизарием. Когда стояли на карте интересы Феодоры, нравственные убеждения не особенно стесняли ее, так же как и в тех случаях, когда ей приходилось пристраивать своих близких. Она отыскала выгодные партии для своей сестры Комито и племянницы Софии. Она выдала Кризомаллу, дочь своей фаворитки, за сына важного сановника Гермогена, несмотря на то, что молодой человек был уже помолвлен с одной из своих родственниц, молодой, красивой и чистой девушкой. Императрица грубо разлучила их и заставила Сатурниуса, так звали молодого человека, жениться на Кризомалле. После свадьбы молодой жаловался друзьям на то, что ему дали в жены девушку, утратившую невинность. Тогда Феодора приказала высечь его, чтобы отучить, как она выразилась, от болтливости. Другие насильственные союзы – дело ее рук, не всегда оканчивались благополучно. Следует отметить тот факт, что Феодора в подобных историях мало беспокоилась о благополучии мужчины. Женщина, она, по выражению историка, «вполне естественно спешила на помощь несчастным женщинам».
В этом отношении она особенно хлопотала о судьбе актрис и погибших женщин. Выйдя из этой среды, она была хорошо знакома с тем унижением и нищетой, каким подвергались женщины. Кто знает, не на нее ли намекает осторожно Юстиниан в одном из своих приказов, касавшихся упорядочения нравственных отношений, говоря, что давно уже одно лицо известило его подробно о царствующем в Константинополе разврате и побудило его принять спасительные меры для его искоренения. Феодора приложила все усилия, чтобы поднять в общественном мнении актрис и облегчить их положение, позволяя им покидать по желанию сцену, уничтожая препятствия к их браку с порядочными людьми. В Византийском обществе той эпохи вошло в обычай заставлять женщин поступать в актрисы помимо их желания и обязывать их не покидать ни в каком случае их профессии. Закон, изданный при Юстиниане, отменял силу подобных контрактов и даже позволял актрисе нарушать их, хотя они и были скреплены клятвой, от которой, ради спасения женщины, Феодора нашла возможность разрешать несчастных. Строгие наказания налагались на заключавших подобные контракты антрепренеров; кроме конфискации имущества и изгнания, их присуждали к штрафу в пользу актрисы, которая пожелала бы вернуться на честный путь. Актрисы таким образом могли заключать браки с высокопоставленными людьми, не испрашивая, как это пришлось в свое время сделать племяннику Юстина, разрешения императора. Действие закона распространялось и на дочерей актрис с условием: они не должны были возвращаться на сцену.
Но, в качестве строгой охранительницы общественной нравственности, Феодора прилагала особенные усилия «к оздоровлению столицы». Видную роль в низших слоях играла, как известно, деятельность «ленонов», увлекавших в ряды погибших женщин много несчастных, польстившихся на их заманчивые обещания. В публичных домах женщины удерживались против их воли в силу различных обязательств по отношению к их хозяевам. Феодора решила положить этому конец. Новый закон, под страхом смертной казни, запрещал совращать девушек. Дома закрыли, вернув содержавшимся в них женщинам внесенные ими залоги, и строго запретили открывать новые, а «ленонов» изгнали, как нарушителей общественной нравственности. Феодора сама следила за исполнением этих законов и заботилась, по словам хроникера, об освобождении несчастных погибших женщин, раздавленных бременем их постыдного рабства. По приказанию императрицы всех «ленонов» собрали в один прекрасный день во дворец, и императрица заставила их сказать, сколько денег заплатили они родственникам несчастных жертв. Когда они объявили, что каждая девушка обошлась им в общем по пяти золотых, императрица выкупила несчастных на собственные деньги и, снабдив каждую публичную женщину новой одеждой и деньгами, распустила их по домам.
Императрица открыла также убежище для покинутых женщин. На азиатском берегу Босфора, в старом императорском дворце, она основала монастырь Метанойя (покаяния) для кающихся грешниц. И чтобы спасти на будущее время от нужды этих Магдалин, которые часто гибли в нищете, она одарила богатыми вкладами это благотворительное учреждение. Говорили, что многие из его обитательниц не могли примириться с такой внезапной переменой в своей судьбе и бросились в море со стен монастыря. Указ, написанный по этому поводу Юстинианом, но внушенный очевидно ею, звучит большим благородством: «Мы наказываем воров и разбойников. Не должно ли с большей строгостью преследовать похитителей чести и невинности?»
Приходя на помощь несчастным, не вспоминала ли Феодора с сожалением о своем прошлом?
Часть третьяI
В каждый праздник, которых у православных так много, императрица, одетая в пурпур и золото, совершала в сопровождении блестящей свиты торжественные выходы в один из больших византийских соборов и, восседая на троне, окруженная нарядной толпою женщин и высших сановников, набожно слушала литургию или, держа в руках зажженную восковую свечу, коленопреклоненно молилась у алтарей или перед раками святителей. Императорский кортеж постоянно показывался на улицах столицы, вызывая изумление прохожих безумной роскошью живописных нарядов и обстановки, менявшейся согласно церемониалу. То императрица с большой пышностью отправлялась на освящение церкви, то направлялась на поклонение мощам того или другого святителя, вымаливая чудесное исцеление, то служила благодарственные молебны за дарование победы; то в траурных платьях кортеж медленно подвигался к храму, чтобы умолять Господа о прекращении своего праведного гнева, о прекращении землетрясений или моровой язвы, нередко посещавшей столицу. Глубоко убежденные в том, что император действительно является Божиим избранником, предназначенным свыше к управлению страной, что во всех опасностях и затруднениях Господь простирает над базилевсом свой святой покров и вдохновляет его святым духом, правители Византии вели образ жизни верховных жрецов.
Юстиниан находил громадное удовольствие в подобном времяпрепровождении. Глубоко набожный и даже суеверный, он считал себя предметом исключительного внимания Привидения и старательно припоминал все чудеса, излившиеся на него свыше. Он рассказывал часто о том, как однажды, во время его болезни, которая не поддавалась лечению врачей, явились к нему святые целители, Козьма и Демьян, чтимые всей Византией, и спасли его уже в минуту агонии. Он вспоминал, как в другой раз, страдая приступами ревматизма и почти парализованный, он исцелился от одного прикосновения к мощам, орошенным св. муром, выступавшим на телах мучеников. И исполненный благодарности к Богу, так открыто показывавшему ему Свое благоволение, Юстиниан старался всячески осуществлять ее на деле: он заботился о чистоте веры, защищал церковь в минуты опасности, заботился о распространении христианства, покрывал империю монастырями и церквами. Он любил принимать участие в теологических спорах, заседал на соборах, вел диспуты с епископами и еретиками, и это было одним из самых любимых им занятий. Хороший оратор, гордившийся своим красноречием и ученостью, логикой своих доказательств, наивно убежденный, что никто не может в данном отношении сравниться с ним, он любил поражать священников силой своих аргументов. Всю свою жизнь он вмешивался, часто весьма некстати, в церковные дела. И льстецы поздравляли его с уменьем соединять в своих речах кротость Давида, терпение Моисея, милосердие апостолов и осуществлять на деле древнее пророчество о блаженных временах, когда философы станут правителями и правители философами.
Феодора также слишком заботилась об этикете, чтобы пренебрегать благочестивыми обязанностями императрицы. С обычным своим политическим чутьем она поняла важную роль величия в жизни христианского государства и всю опасность, вытекавшую из равнодушного отношения к церкви. Она с большим уважением относилась к духовенству, к монахам с их строгими лицами, к монахиням в длинных черных одеяниях, отказавшимся от мира и его соблазнов. Она с глубочайшей благодарностью относилась к ним: разве их добродетели, молитвы и посты не способствовали благосостоянию империи? Подобно Юстиниану она искренне удивлялась «этой монашеской жизни, которая приводит к постоянному общению с Богом, которая очищает и возвышает человека над всеми мелочами жизни». Она любила окружать себя отшельниками, которых ласково принимала во дворце, любила рассуждать с ними о духовных вопросах и исповедывалась им. Поучительна история ее отношений с анахоретом Марасом.
Марас представлял чистейший тип пылкого сирийца, пламенная набожность и смелость которого не останавливалась ни перед каким препятствием. Тридцати лет от роду – в самый день своей свадьбы – он почувствовал, что св. дух осенил его и предпочел легкое иго во имя Господа «тяжелому бремени телесного союза». В монастыре он выделялся в среде остальной братии строгостью жизни, суровыми мерами, с какими принялся умерщвлять плоть. Беспощадный по отношению к себе, он не менее сурово судил других. Читателю известно, какую суровую исповедь пришлось выслушать от него Юстиниану и Феодоре. Тем более понравился он императрице: убежденная, что молитва человека такой строгой жизни должна быть всемогущей перед Богом, Феодора предложила ему остаться во дворце. Марас отказался. Тогда императрица приказала своему казначею выдать отшельнику солидную сумму на добрые дела. Блаженный, схватив мешок с золотом, пренебрежительно швырнул его в лицо Феодоре. Слухи об этом распространились по городу, но Феодора не отступала. Когда блаженный удалился на другую сторону Золотого Рога, чтобы продолжать там прежнюю, полную лишений жизнь, Феодора приехала к нему и смиренно попросила прощения за то, что осмелилась подвергать его искушению богатыми подарками, и умоляла принять от нее хоть малую лепту на пропитание. Марас не смягчился и, чтобы окончательно освободиться от посещений Феодоры, удалился в более недоступное убежище.
Весть о странностях Мараса облетела Византию. Тысячи зевак и богомольцев являлись взглянуть на него и попросить его помолиться за грешные души мирян. Милостивое внимание двора привлекло к нему и других посетителей. Однажды ночью на него напали разбойники. «Отдай нам золото, присланное тебе императрицей, или мы убьем тебя!» – объявили ему они. Блаженный возразил: «Если бы я жаждал золота, то меня не было бы здесь». Но разбойники не поверили, и один из них ударил Мараса палкой. Однако сириец отличался страшной силой: он отняв у разбойника палку, расправился со всеми шестью, которых побил и связал, говоря: «Я просил вас, дети мои, оставить меня в покое. Напрасно вы не послушались меня; теперь полежите тут терпеливо до утра, и да послужит вам это хорошим уроком: не следует обижать даже и бедняка».
Весть об этой истории произвела необыкновенное впечатление при дворе. Юстиниан, и Феодора прониклись еще большим уважением к блаженному, что принесло Марасу немало выгоды: он наконец соизволил принять в дар от императорской четы выстроенный для него монастырь, где провел всю свою остальную жизнь, молясь, проповедуя и не лишая себя удовольствия время от времени по-прежнему обличать императора, и императрицу. Когда он умер от чумы, ему были устроены торжественные похороны.
Высокомерная Феодора с удивительной снисходительностью относилась к подобным отшельникам: она безропотно переносила их обличения и оскорбления. Ее величие склонялось в прах перед их лохмотьями. Щедрость ее по отношению к ним переходила все границы: вся Византия покрылась сетью выстроенных ею монастырей, больниц, приютов. Она пожертвовала монаху Зоорасу большой кусок земли в предместье Сикас, куда он удалился со своими учениками; во Фракии она приобрела великолепную виллу Деркас, которую предложила в дар александрийскому патриарху Феодосию; она отвела целый дом в столице Иакову Барадею. Она основывала монастыри даже в самом «священном дворце». Она выстроила несколько обширных гостиниц, чтобы принимать бедных иностранцев, приезжавших по делу в Константинополь. Она любила, чтобы вести о ее благодеяниях распространялись как можно дальше. На вытканной золотой завесе царских врат в св. Софии она была изображена посещающей больных в, госпитале и церкви.
Среди сооруженных ею построек особенно выделялось здание собора св. Апостолов. На холме, где возвышается теперь мечеть Магомета II, увенчанная куполами и полумесяцем, Константин Великий начал строить храм, посвященный св. апостолам, а сын его торжественно перенес в его стены мощи Андрея Первозванного, Луки и Тимофея. Собор этот, по мысли его творца, должен был служить в то же время усыпальницей. В эпоху Юстиниана собор успел прийти в ветхость. Император приказал снести его, а Феодора решила построить на его месте другой, еще более великолепный. В 536 году новое здание было собственноручно заложено императрицей, и знаменитый архитектор, который закапчивал в это время св. Софию, Антемий де Тралль, с товарищем своим, Исидором, принялся за сооружение нового собора. Двойной ряд разноцветных колонн, перевезенных сюда большею частью из языческих храмов, окружал здание, стены, полы и потолки которого выложены были самой затейливой мозаикой из драгоценных мраморов; в сводах и стенах мозаика вместе с образами Христа и св. Девы, окруженных апостолами, представляла изображение главных событий земной жизни Спасителя. Но особенно замечательно было здание своей искусной планировкой. Оно имело форму греческого креста, и тогда как здание св. Софии было увенчано только одним куполом – над собором Апостолов возвышались пять глав.
Феодора с благочестивым усердием следила за постройкою здания, которое доставляло ей немало хлопот. Легенда рассказывает, что когда пришло время выкладывать собор мозаикой, Феодора вдруг увидела, что казна ее иссякла. Тогда на помощь ей пришли апостолы, во имя которых воздвигалась церковь и священные останки которых были чудесным образом найдены во время работ под каменным полом старинной базилики. Андрей, Тимофей и Лука явились ей во сне. «Не тревожься, – сказали они ей, – и не проси денег у Юстиниана. На берегу моря, близ Дексиократских врат, ты найдешь в земле двенадцать сосудов с золотом». Феодора действительно нашла будто бы на указанном месте груды монет с изображениями апостолов – лучшее доказательство божественного происхождения дара. Таким образом Феодора получила возможность закончить строительство.
Но она не дожила до его окончания. И только через два года после ее смерти совершилось торжественное освящение собора. Подобно Константину, она пожелала быть в нем похороненной, и в великолепной часовне приказала поставить две мраморные гробницы, куда поместили впоследствии два золотых гроба с останками императорской четы.
Несмотря на свое благочестие, благотворительность, усердие в делах веры, Феодора не удостоилась одобрительных отзывов церкви. В то время как многочисленные восточные историки называют ее благочестивейшей государыней, в то время, как ее сирийские друзья восхваляют ее, как боголюбивую императрицу, тогда как раздаются голоса, именующие ее ниспосланной Богом для защиты погибающих во время бури, другие, не менее многочисленные духовные писатели, осыпают ее оскорблениями и проклятиями. Это объясняется тем, что с точки зрения «православной кафолической церкви» – она была артисткой. Глубоко привязанная к патриарху Северу, она открыто проповедовала монофизитские доктрины, отвергавшие Халкедонский собор, и признавала в Иисусе Христе только одно естество. Защищая своих друзей, она не раз бросала вызов Риму и до конца дней покровительствовала своим единомышленникам. «Она подогревала усердие еретиков, поселившихся в империи», – говорит один из современных ей историков. С настойчивой пылкостью она толкала Юстиниана на путь, который избрала для себя.
II
С тех пор, как в пятом веке теологи задались целью объяснить, каким образом в лице Христа соединилось божественное и земное, вопрос о двух естествах Спасителя стал самым живейшим образом интересовать церковь. Напрасно в 451 году Халкедонский собор попытался с одобрения папы Льва установить по этому поводу православную доктрину, предав одинаково суровому осуждению ересь Нестория, который толковал о двух естествах во Христе, и учение Евтихия, утверждавшее об одном. Как последователи последнего – монофизиты, так и приверженцы первого отказались повиноваться постановлению собора. Монофизиты, в особенности, опираясь на главнейших своих представителей, энергичных и умных, на многочисленных последователей в Египте и Сирии, на пылких и решительных монахов, надеялись захватить со временем главенство в Византийской церкви.
Серьезность этой религиозной распри усугублялась тем, что восточные провинции, охваченные монофизитской ересью, весьма непрочными узами соединялись с империей. В Египте и Сирии жили тесно сплоченные народности и религиозные воззрения являлись формой, в которую выливался их резко выраженный сепаратизм. Вот почему императоры конца V и начала VI века старались всеми силами умиротворить восток, предпочитая жертвовать для этого своим союзом с Римом. Начиная с царствования Юстина I, и в особенности при Юстиниане, который вносил в дела церкви свою безрассудную настойчивость, стала преобладать другая политика и монофизиты терпели гонения. Но несмотря на это, в Сирии, Палестине, Месопотамии, Египте партия их оставалась сильной и могущественной, в особенности в Египте. И всюду монофизиты с надеждой смотрели на Феодору.
Феодора еще в молодости сближалась с сирийскими и египетскими христианами. Серьезные политические соображения, помимо ее искреннего расположения к монофизитам, также заставляли ее поддерживать их. Еще до своего вступления на престол, она употребила все свое влияние на Юстиниана, чтобы уменьшить размер воздвигнутого против своих друзей гонения. Став императрицей, она еще деятельнее принялась работать в их пользу. Ей исключительно обязан был еретический Египет долгими годами мира и спокойствия; ей обязана и Сирия восстановлением своей гонимой церкви, ей обязаны своими успехами монофизитские миссионеры, отправившиеся в Аравию, Нубию и Абиссинию.
В числе милостей, провозглашенных Юстинианом в память его торжественного коронования, была одна, несомненно внушенная ему Феодорой: гонимые епископы, священники и монахи, осужденные на изгнание, были возвращены в свои опустевшие монастыри и церкви. На призыв императрицы монофизиты появились в столице и даже в священном дворце. Скоро Феодора убедила Юстиниана вступить в открытые сношения с монофизитами. Она давно преклонялась перед умом и благородством низложенного антиохийского патриарха Севера, с которым познакомилась когда-то в Александрии. Императрица внушила супругу, как выгодно ему было сойтись с пользовавшейся таким влиянием на востоке личностью, и ей удалось убедить его, что этим шагом он может завоевать себе расположение всего монофизитского мира. И Северу послано было чрезвычайно вежливое письмо с приглашением явиться в Константинополь; но патриарх, не предвидя ничего хорошего из этого свидания, отказался под предлогом старости, слабости, своих седых волос, суливших ему, по его словам, близкую кончину. Тогда Феодора пригласила на диспут с православными в Константинополь его учеников; православным рекомендовали отнестись к еретикам со всевозможным терпением и кротостью. Председатель собора много говорил об отеческой доброте, наполнявшей сердце императора. Юстиниан, присутствовавший на открытии собора, во всеуслышание выражал желание примирить враждующие церкви. Несмотря на эти благие намерения, они не смогли сговориться. Тем не менее подобная терпимость была большим шагом вперед в сравнении с недавними кровопролитными гонениями.
Мало-помалу, благодаря новому направлению политики, монофизиты становились на твердую почву. В Азии Иоанн из Теллы, один из знаменитейших проповедников, начал, несмотря на колебания других, активную пропаганду. Собирая вокруг себя группы своих единомышленников, он наставлял их, читал с ними св. писание и укреплял их в «правой» вере. Напрасно доносили на него Властям и грозили ему смертью. Он отважно продолжал свои собрания. Постоянно в дороге, то в Александрии, то в Константинополе, он обращал, посвящал священников, наполнял всю Азию своими сторонниками. Говорят, что в продолжение нескольких лет он обратил в монофизиты около 60 тысяч человек.
Еще более кипучей деятельностью отличались монофизиты под защитой Феодоры в Константинополе. Сам Север не устоял в конце концов перед настояниями императрицы и решился, побуждаемый упреками в бездействии своих сторонников, поехать в Константинополь, несмотря на свое глубокое убеждение в бесполезности этого шага. Но императорская чета устроила ему торжественную встречу, он был помещен во дворце, советы его с благодарностью выслушивались Юстинианом и Феодорой и вскоре Север приобрел большое влияние на ход государственных дел.
Монофизиты сделались теперь, по-видимому, хозяевами столицы. Уверенные в расположении к ним императрицы, они смело объявили войну православным: несмотря на формальное запрещенное, они созывали соборы, проповедовали в церквях и частных домах, в городе и окрестностях, устраивали скандалы в православных церквах. В монастыре, выстроенном на подаренной ему императрицей земле, Зоорас удивлял Византию своим благочестием, смирением, благотворительностью; каждый день бедные сотнями толпились на монастырском дворе, являясь за милостыней, и важные сановники, видя влияние Зоораса при дворе, не приминули высказать ему свою преданность. Дамы в особенности увлекались сирийскими проповедниками. Правда соперники монофизитов обвиняли их в чрезмерной снисходительности к их духовным дочерям, среди которых насчитывалось немало куртизанок, танцовщиц и изменниц-жен.
Сотнями приносили к ним крестить детей, в особенности высокопоставленные родители. Многие из приближенных к Юстиниану сановников старались вести в миру строгий образ жизни, свойственный монофизитским отшельникам. Трибониус, освободясь от своей службы при дворе, удалялся в келью и проводил целые часы в молитве и заботе о несчастных, другой придворный раздал нищим все свое имение; остальные старались по мере возможности подражать им, намереваясь убить двух зайцев сразу: снискать себе вечное спасение и земное благоволение Феодоры.
В разгаре этих событий умер Константинопольский патриарх Епифан. Эта смерть была на руку монофизитам. В одном из монастырей, основанных императрицей, жил святой человек, по имени Антим. Он был некогда епископом, и монофизиты уважали его за отшельнический образ жизни, за смелость, с какой он освободился из сетей лжи, проповедуя истинную веру. Тайно преданный еретикам, он с помощью Феодоры получил патриарший престол и не замедлил поддаться влиянию Севера, в котором видел одного из главнейших монофизитских деятелей.
К этому же времени относится смерть Александрийского патриарха Тимофея. Феодора, которая очень любила этого пылкого защитника монофизитской доктрины, хотела избрать ему достойного преемника. Между Гаяном, вдохновлявшим своими проповедями монахов, и Феодосием, она выбрала последнего за мягкость его нрава. И так как группа экзальтированных монофизитов стояла за Гаяна, она поступила по обыкновению очень круто. В Александрии было в обычае, чтобы у гроба усопшего патриарха стоял его преемник, который, держа руку покойного, опускал ее себе на голову и надевал на себя его цепь. Несмотря на присутствие посланца Феодоры, друзьям Гаяна удалось помешать Феодосию исполнить этот обряд принятия сана. Чтобы водворить ставленника императрицы, понадобилось послать туда с войсками особое доверенное лицо, Нарзеса. В продолжение нескольких дней приверженцы обеих партий сражались на улицах, даже женщины принимали участие в битве. Наконец, чтобы прекратить мятеж, Нарзес прибегнул к пожару и Феодосий получил патриарший посох.
С помощью Севера, Антим Константинопольский поспешил завязать сношения с новым Александрийским патриархом и три патриарха под покровительством императрицы обратились соединенными силами к новой благоприятной для монофизитов политике «в интересах мира», как они провозглашали. Напрасно православные монахи писали на них доносы, напрасно изображали они Севера язычником, слугой демонов и колдунов, напрасно называли Петра Арамайского обжорой, «Богом которого был его желудок», Зоораса сумасшедшим, Антимия лицемером. Император ничего не хотел слышать и к великому негодованию последователей кафолической церкви ересь распространялась с ужасающей быстротой.
К несчастью для Феодоры появился в это время в Византии неожиданный деятельный противник ее планов. Это был папа Агапит. Поставленный готским королем Феодотом во главе посольства к Юстиниану и весьма торжественно принятый при дворе, он не замедлил заняться религиозными вопросами и решительно отказался вести переговоры с еретиком Антимом. Напрасно восклицал император в гневе: «Ты должен быть заодно с нами, или я пошлю тебя в изгнанье», напрасно Феодора старалась подкупить его. Надеясь на поддержку всего кафолического мира, Агапит и не думал сдаваться. И Юстиниан, очутившийся между двух огней, не знал, что делать, тем более, что сам Господь, говорит легенда, склонялся на сторону монофизитов.
Агапит требовал низложения патриарха и изгнания Зоораса. Напрасно доказывал ему Юстиниан, что монах был человек крайне опасный, что он никого не боялся, папа непременно хотел увидеть сирийца, чтобы заставить его повиноваться. Когда папский посол явился в монастырь блаженного, он нашел все входы запертыми и Зоорас приказал объявить ему, что, в виду наступления великого поста, священное предание воспрещает заниматься какими бы то ни было делами, даже по требованию императора; «больше ничего не имею вам сказать, – добавил он, – если хотите употребить силу, то это ваше дело». Посол растерялся и вернулся во дворец ни с чем. Взбешенный император послал тогда в монастырь отряд солдат, чтобы арестовать монаха. Но в то время, когда начальник отряда садился на корабль, судно было выброшено на берег сильным порывом ветра. В момент высадки отряда на противоположный берег Золотого Рога, громадный призрак внезапно вырос перед кораблем и одним ударом ноги отбросил его в волны. Начальник стражи разгневался и стал бранить матросов. Они налегли на весла. Тогда молния ударила в корабль. Стража поняла, что сам Бог вступился за Зоораса и поспешно бежала, а начальник донес о случившемся Юстиниану.
Провидение с меньшим успехом защищало Антима. После некоторого колебания император пожертвовал им папе. Патриарх был низложен и на его место Агапит возвел священника Менаса. Это был уже значительный успех, плоды которого, впрочем, не удалось пожать папе. Спустя месяц, он внезапно умер. Утверждали, что он пал жертвой колдовства монофизитов, а еретики радовались, считая эту смерть справедливым наказанием Божием и, собравшись с духом, яростно продолжали свою пропаганду. Они настолько увлеклись, что осмелились публично обвинить императора в предательстве. Один из них, Исаак, ударил палкой изображение императора и выколол ему глаза. Это возбудило такое волнение в столице, что вражда партий чуть не перешла в рукопашную схватку.
В эти тяжелые времена новый патриарх Менас действовал энергично. В мае 536 года, в церкви Божией Матери, соседней со святой Софией, собрался под его председательством конклав с целью столковаться о применении на практике убеждений Агапита. Монофизиты, которые представляли обвиняемых, отсутствовали на этом соборе. Напрасно в продолжение трех дней соборные послы искали Антима по всему Константинополю. Они обшарили святую Софию и патриархат, монастырь св. Сергия и даже самый священный дворец, где его могли спрятать. Всюду наталкивались они на запертые двери, а присутствующие божились и клялись им, что видели патриарха, и что он исчез, но куда, они не знали. И соборные послы в поисках за неуловимым обвиняемым напрасно подвергали допросу даже детей, встречавшихся им на улицах.








