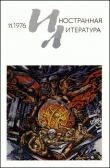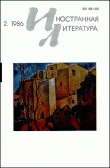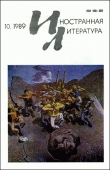Текст книги "Вторник, среда, четверг"
Автор книги: Имре Добози
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
– Господин старший лейтенант, – обращается к нему Шорки, – у нас же под боком огромный дворец, мы совсем забыли о нем.
Галлаи машет рукой.
– Глупый червяк. Думаешь, там тебя не найдут?
– Но я не об этом, осмелюсь доложить. У таких господ столько барахла – они ведь с утра до вечера только и делают, что переодеваются. Этот барин тоже не мог увезти все свое добро, вот о чем я подумал…
– Дворец наверняка заперли па замок после отъезда владельцев.
– Шутить изволите, осмелюсь доложить, еще не изобретен такой замок…
Я вскрикиваю от радости. Только этот мрачный мужик не лишился здравого рассудка, мне прямо-таки хочется расцеловать его разбойничью морду.
– Шорки, ты настоящий клад! Уверен, вернешься не с пустыми руками, там есть чем поживиться.
– Не сомневайтесь, господни лейтенант. В миг обернусь, приволоку вещи, не такое уж это мудреное дело, можете положиться на меня.
Он совсем преобразился, откуда только прыть взялась. Воображение рисует ему несметные сокровища дворца, поскорее бы проникнуть туда, не дать никому опередить себя. Галлаи кричит ему вслед, чтобы оставил оружие, но старшина не слышит-он уже возле парка.
– Моя мать, – задумчиво произносит Дешё, – даже ходить не может.
Не в силах смотреть на поверженный город, он отворачивается, на лице его лежит печать пережитых страданий. Мне не жаль его, у других тоже есть матери. К нему подходит Фешюш-Яро.
– Не унывай, ты не один здесь, мы все обязаны жить, Кальман, жить и для других.
Что это он всех утешает, как старая плаксивая сестра милосердия. Бросить бы их всех и уйти ко всем чертям, подальше от этих сентиментальных субъектов!
– Без посторонней помощи она даже во двор не сможет выйти, – продолжает Дешё. – Весной я выкопал яму возле дома, там можно укрыться, но ей не дойти туда, а у соседей и своих забот хватает.
– Смотрите! – кричит Тарба.
Со стороны Шаргакутского шоссе на гору поднимаются три пограничника. Средний волочит раненую ногу, двое остальных то и дело оборачиваются назад, изредка стреляют неизвестно куда, позади них я никого не вижу. Дешё встает, идет им навстречу.
– Куда вы, ребята?
Коренастый невысокого роста ефрейтор с черной шевелюрой поднимает на старшего лейтенанта налитые кровью глаза, чести не отдает и, ни слова пн говоря, берет винтовку наперевес.
– Пропустите.
Дешё пожимает плечами.
– Я не собираюсь задерживать вас или отправлять обратно.
– А куда же?
– Никуда…
– Тогда пропустите. Нам за железную дорогу…
– Поздно.
Ефрейтор озирается вокруг, воспаленными глазами обшаривает местность. Ему трудно поверить, что все кончено и нет никакого выхода, но, убедившись в этом, он в сердцах отбрасывает в сторону свою винтовку. Мы следуем его примеру. Со стороны дворца походным шагом приближается около взвода русских солдат. Впереди них идет Шорки с поднятыми над головой руками. Тарба вскрикивает, как безумный, бежит, но тотчас останавливается и приставляет дуло к груди. Галлаи вырывает у него автомат.
– Отдайте, Христом богом молю! Мне нельзя попасть к ним в руки…
Дешё обрывает его:
– Веди себя смирно. Они ничего не узнают.
Тарба дрожит всем телом. Наше оружие сложено в кучу под орехом. Раненный и ногу пограничник садится, у него начинается рвота, но он не в силах даже отвернуть в сторону голову.
– Крепись, – подбадривает его ефрейтор.
Но, чувствуя, что ничем не может облегчить его страдания, он подходит к нему, одной рукой поддерживает голову, другой очищает налипшую к шинели грязь. Затем вытягивается, почти как по команде «смирно», приосанивается. Просто диву даешься, с каким достоинством этот изнуренный человек умеет встретить конец своей военной карьеры. Русские от нас в двухстах шагах. Говорят, будто они ненавидят пленных офицеров, а кое-кого даже расстреливают на месте. Около полусотни автоматов направлены на нас, покачиваясь то вверх, то вниз в такт шагам. Галлаи поднимает грязный носовой платок, размахивает им, белая тряпка беспокойно полощется в воздухе. Они должны видеть, что мы безоружны. Убитые жандармы! Почему же Дешё не кричит, что застрелил их, ведь это зачтется, это… По лицу Фешюш-Яро текут слезы, он готов рвануться им навстречу, но силы отказывают ему, и он только плачет, время от времени взмахивая своими обессиленными руками. Вот дурень! Его поведение могут принять за что угодно, только не за радостное приветствие. Они уже в двадцати шагах. Ноги мои наливаются свинцом, меня одолевает страшная усталость. Нечто подобное испытываешь обычно после кошмарного сна. Я весь в поту, мне хочется куда-то бежать, спасаться от неведомого чудовища или дьявольской машины, но ноги не повинуются. В бессильной ярости я готов все сокрушить на своем пути, хотя и знаю, что все мои потуги тщетны. Дешё выходит вперед, подносит руку к фуражке, докладывает по-русски. Молодой офицер, видимо командир взвода, останавливается, окидывает нас взглядом и с любопытством смотрит на Дешё. «Толстой, Бунин, Горький, Тургенев», – твержу про себя. В каком пиковом положении оказался я – ни слова не понимаю по-русски, даже объясниться с ними не могу, а то бы сказал: мол, посмотрите на меня, разве я похож на преступника, я никому не причинил зла. Фешюш-Яро подходит к офицеру, со слезами на глазах что-то лопочет, бьет себя в грудь, протягивает руку. Офицер смущенно пожимает ее, солдаты удивленно смотрят на него. Они не сделали ни одного выстрела. И теперь уже наверняка не будут стрелять, минута опасности миновала. Какая бурная, невыразимая радость разливается по телу, все ликует во мне, за направленными на нас автоматами вижу шапки, лица, шинели, сапоги, на шинелях полевые погоны, солдаты примерно одного возраста со мной и даже помоложе.
– Толстой, Бунин, Горький, Тургенев, – произношу я вслух. Офицер таращит на меня глаза, солдаты окружают винокурню, в доме звучат их громкие голоса, затем они оживленной ватагой выходят оттуда и наперебой упрашивают лейтенанта разрешить им отведать вина.
– Так точно, – подтверждает Дешё, – немцев нет, зато есть вино.
Лейтенант не знает, как быть, посматривает назад, откуда они пришли, наконец что-то говорит Дешё.
– Просит дать по стакану вина каждому, – переводит Дешё.
– Дайте, – говорит Геза. – А я пока перевяжу пограничника.
Мы все бежим в подвал, Шорки первый делает изрядный глоток из лидера:
– Осмелюсь доложить, господа русские, вино отменное, ничем не отравленное, не бойтесь, пейте на здоровье.
Первым стакан осушает лейтенант, затем он подходит к краю стола и следит, чтобы кому-нибудь не вздумалось повторить. Мы разливаем вино, как заправские виночерпии, но нам они не предлагают выпить с ними или чокнуться. Все это продолжается не больше десяти минут, лейтенант подает знак, и взвод устремляется в гору, рассыпавшись веером в винограднике.
– А что будет с нами? – разочарованно спрашивает Фешюш-Яро.
– Что за черт, – разводит руками Галлаи, – даже оружие оставили здесь, если бы мы захотели, всех могли бы перебить.
Шорки подходит к двери, в руках его полный ливер, он запрокидывает голову и залпом выпивает его содержимое.
– И это все? – осклабясь, обводит он всех взглядом. – Напрасно мы трусили, господин старший лейтенант. Если так будет и впредь, я готов хоть по три раза в день сдаваться в плен.
– Этот взвод, – объясняет Дешё, – подразделение какого-то крупного гвардейского соединения. Его задача – прочесать местность и обезвредить оторвавшиеся во время отступления разрозненные группы немецких и венгерских солдат, остальное их не интересует.
– А что они сказали относительно нас?
– Велели ждать здесь и без оружия. Чтобы не было ни единого патрона. Придут тыловые части, нас соберут. Или, если не терпится, сказал лейтенант, можно идти в город и явиться в комендатуру.
– Уже и комендатура есть?
– Откуда мне знать.
– Черта лысого, не терпится, – говорит Галлаи. – Впрочем, если мы отсюда смоемся, я не настолько глуп, чтобы являться в комендатуру.
– Но эта проклятая форма!
– Шорки, что за дверце? Пошарил там?
– Меня накрыли, как только сунулся гуда.
– Идемте, – предлагает Фешюш-Яро. – Видите, они вас не съели. Даже лучше, что мы встретились с ними так. Только об одном прошу, Кальман, сразу же скажи им, что я коммунист, я отвечу за вас.
– Ну как? – спрашиваю я снова задумавшегося Дешё. – У тебя вновь возникают сомнения морального порядка? Оставь записку, укажи в ней наши адреса, чтоб им не пришлось долго искать нас.
Он молчит и еще ниже опускает голову. Геза перевязывает пограничника.
– Не больно наступать? – спрашивает он солдата.
Тот устремляет на него благодарный взгляд. Мы не оставим их здесь.
– Сюда дотащился кое-как. Вырежу себе палку, и полный порядок.
– Где-то здесь отцовская палка, – говорит Геза, – сейчас поищу. – Он выпрямляется, трет поясницу. – Повреждены мягкие ткани, – объясняет он. – Пуля прошла навылет, и это его счастье. Я наложил ультрасептиловую повязку, но если состояние ухудшится, придется сделать ему инъекцию.
Дешё поднимает из кучи автомат.
– Давайте отнесем в дом. Запрем дверь и, если понадобится, сможем отчитаться.
– А как с трупами?
– Где-нибудь доложим, чтобы их похоронили.
– А куда сейчас?
Галлаи чертыхается.
– Во дворец, куда же еще… Вы что, забыли?
Как же, забыли! Я готов бежать туда, сбросить с себя опостылевшую форму, переодеться в штатское и – немедленно в город, теперь мне все нипочем, с чем бы ни пришлось там встретиться. Я жив, могу идти куда угодно, это же замечательно, все во мне ликует – необузданно, безгранично – от одной мысли, что я остался жив.
– Пошевеливайтесь, – тороплю я остальных, растянувшихся длинной цепочкой.
За мной идет Дешё, потом Геза, Галлаи, Шорки, Тарба, Фешюш-Яро, ефрейтор, поддерживающий раненого; замыкает шествие третий пограничник, то и дело озирающийся по сторонам. Да не бойся ты, ослиная голова, теперь мы и за тебя сумеем постоять. Среди стогов на гумне валяется труп лошади, куда ее ранило – не видно, а может, загнали до смерти; в добротном, на швейцарский манер построенном хлеву ревут коровы, нигде ни души, двери батрацких домишек закрыты, только кое-где из труб поднимается чуть заметная струйка дыма. Но тут мы услышали шум и, застыв в оцепенении, увидели, как из дворца один за другим выскакивают солдаты – те, что идут вслед за передовыми частями… Черт возьми, быстрее назад, за стога, но уже поздно, над головами у нас свистят пули. В один миг нас окружают, дулами автоматов заставляют поднять руки. Дешё тщетно пытается что-то объяснить, они и слушать не хотят, требуют, чтобы мы подняли руки, нечего, мол, тут рассуждать. Вот гак влипли! Что же теперь с нами будет? Они снуют вокруг нас, спорят между собой, мы тоже пытаемся что-то объяснять; в нос мне ударил запах пороха, чем же все это кончится?.. Фешюш-Яро недоумевающе таращит глаза, не в силах что-либо понять. Наконец из дворца выходит чуть подвыпивший сержант, среднего роста, из-под шапки выбивается прядь кудрявых волос, на груди гимнастерки жирные пятна, автомат за плечом, с пояса свисает похожий на саблю клинок с медной рукояткой. Один его ус топорщится, другой свисает вниз, и он нещадно дергает его, словно это не его, а чей-то чужой щетинистый пучок. Он не спеша обходит нас, с таким довольным видом, будто захватил целую отару овец. Прямо-таки наслаждается нашим беспомощным положением. Презрительно произносит «офицеры», это слово и я понимаю; стало быть, прежде всего хочет дать нам понять, насколько ему ненавистны вражеские офицеры. Но вот он наконец бросает что-то злобное в лицо Дешё.
– Мы проклятые фашисты, – переводит Дешё, – таково его мнение.
– Какой идиотизм! С чего он взял?
– Спроси у него.
– Ты ведь знаешь язык, убеди…
Фешюш-Яро нервно суетится между Дешё и сержантом, будто не в состоянии решить, какой стороны ему держаться.
– Да, да, важно, чтобы ты сказал, о чем я просил. Почему ты не объяснишь ему?
– Протестую! – кричит Геза. Вернее, не кричит, а визжит. Мне почему-то хочется захохотать: с поднятыми вверх над тщедушной фигурой руками он похож на чучело вороны, которое повесили сушить. – Протестую, это клевета! Я никогда не состоял ни в какой партии или союзе!
Дешё опускает руки и сжимает кулаки. Он неподвижен, как мертвец. Сержант с бранью устремляется на него, выхватывает клинок. Дешё резко и гневно говорит ему какие-то слова, сейчас произойдет что-то ужасное, они стоят лицом к лицу, как два разъяренных пса, готовых вцепиться друг в друга, затем сержант вкладывает клинок обратно в ножны и отворачивается.
– Я предупредил его, – говорит дрожащим голосом Дешё, – что Женевская конвенция берет под защиту всех военнопленных, в том числе и офицеров. К тому же нас взяли не в бою и безоружными…
Галлаи причитает:
– Вот Tie повезло! Лучше бы нас взяли гвардейцы, а эти тыловики, чего доброго, пустят в расход ни за что пи про что. Поглядите на них, плевать им на Женевскую конвенцию.
– Он упирает на то, – взволнованно продолжает Дешё, – что мы тоже не щадили их офицеров. Надо же сначала убедиться, что я принадлежу к числу этих «мы» и тоже допускал беззаконие.
– Возможно, ты так не поступал, – говорит Фешюш-Яро, – я даже уверен в этом. Но злодеяния, которые творили у них, они приписывают всем нам, и тут нечего пенять.
– Так пусть не приписывают! Очень плохо, если они будут огульно обвинять всех. К людям нужно подходить дифференцированно!
– Что ты злишься на меня, я не был там. Меня держали здесь, на сборке мин.
Сержант кричит. Дешё снова поднимает руки.
– Придется вернуться в винокурню. Они требуют сдать им оружие.
– Что ж, пошли, – соглашается Фешюш-Яро, – больше ничего не остается.
Нас конвоирует человек двадцать. Немеют руки, но опускать не разрешают, то и
дело покрикивают: «Руки вверх!». Берут у Гезы ключ, сами открывают дверь, выпускают очередь в дом, просто так, на всякий случай, смахивают со стола рюмки. Оружие сложено на топчане, они расхватывают его. Но этим дело не кончается – во дворе обнаруживают три трупа, их втаскивают в дом. Особое внимание привлекает труп нилашиста; сержант опять накидывается на нас, мол, эти тоже из вашей компании, ну, конечно же, вы подлые фашисты и не отпирайтесь! Дешё надоело возражать, он наконец выходит из себя, указывает на Фешюш-Яро, дескать, среди нас есть и коммунист, хотя бы своего товарища не оскорбляйте. Сержант подозрительно смотрит на Фешюш-Яро, долго не сводит с него взгляда, теребит себя за подбородок и, поразмыслив, качает головой.
– Ну, конечно, – переводит Дешё не без издевки, – на нашей земле мы имели дело с одними фашистами, а когда пришли сюда, все до одного оказались коммунистами. Ничего, в комендатуре разберутся, и если соврали – пеняйте на себя.
В комендатуре? Значит, нас поведут туда? Ну, это еще куда ни шло… Из подвала громко кричат, требуют чего-то, но, не дождавшись, стреляют в бочку и подбегают кто с чем, подставляя под сильную струю вина всевозможную посуду.
– Отцу моему тоже не очень-то придется по душе такая перемена, – с горечью произносит Геза.
Они пьют. Видимо, спешить им некуда. Кто-то внизу затягивает песню. Раскатистый, похожий на орган бас доносится из подвала. Красивый голос, но у меня пет никакого желания наслаждаться им, руки совсем одеревенели и вот-вот опустятся сами.
– Руки вверх!
– Издеваются над людьми, находят в этом удовольствие, – цедит сквозь зубы Галлаи. – Доведись еще хоть раз встретиться с глазу на глаз с ними с оружием в руках, ни на что не посмотрел бы, пусть даже пришлось бы подохнуть.
У Шорки, стоявшего с поднятыми руками и сильно вспотевшего от напряжения, однако, иное мнение.
– Теперь нам подыхать ни к чему, осмелюсь доложить, господин лейтенант, если уж удалось уцелеть.
Приносят кружку вина сержанту. Он нюхает его, пробует на язык. Пьет, затем с напускной строгостью учиняет разнос солдатам, мол, это же свинство – забыть о гостях.
Сам садится на стол, свешивает ноги, вино из кружки льется на пол, назидательным тоном, все больше распаляясь, говорит нам:
– Недостойны вы, гады, дышать одним воздухом с людьми, – неохотно, безразличным тоном переводит Дешё, словно на каких-то скучных официальных переговорах. – Разорили Россию. Никсму не давали пощады. Ничего не пожалели. В моей деревне, например, человеку жить противно все вокруг насквозь пропахло гарью. Даже трава на берегу реки. Я бы не поверил, но был недавно дома и сам убедился. Всех вас перебить не жалко. И будь моя воля, гак и сделал бы, ей-богу, да нельзя. Приказано обращаться гуманно. Велю подать вам вина, лопайте! Я здесь хозяин! Впрочем, вряд ли стал бы причинять вам зло. На ваше счастье русский человек отходчив по натуре, ни дна вам всем, ни покрышки. Русская душа… Эх, да разве вам попять это, гады…
Он колотит себя в грудь, на глазах его навертываются слезы. Приходится пить. Приносят в кастрюле вино, несут осторожно, обеими руками, но оно все равно расплескивается; все мокрые, словно попали под дождь. Сержант отшвыривает свою кружку и, раскачиваясь из стороны в сторону, смеется.
– Пейте! Кто выпьет, пусть опять поднимет руки!
Вечереет. Пошатываясь, мы выходим из винокурни. В животах пусто, только булькает вино. Солдаты поют три-четыре песни сразу, кто во что горазд. Сержант покрикивает на них, но они и в ус не дуют. Дверь оставляют распахнутой, Геза пытается запереть ее, но его прогоняют: прочь, мол, проклятый буржуй, вишь, как печется о своем добре.
У опушки Череснеша останавливаемся, солдаты обыскивают нас – не осталось ли у кого пистолета или гранаты. Ничего, конечно, не находят, только у Шорки обнаружили ножик с длинным узким лезвием, которым он резал сало. Сержант с торжествующим видом прячет его себе в карман: мол, не удастся вам пырнуть русского солдата в спину. Впрочем, хвалит, что мы не припрятали другого оружия.
– Ну, выпейте, – снова угощает он, – немного поработаете у нас, все-таки лучше плен, чем смерть, по крайней мере убедитесь, что в России пет таких холеных буржуев, которые утопают в роскоши за чужой счет, там все граждане равны. Плен послужит вам неплохим уроком: вернетесь домой порядочными людьми.
Мы отказываемся пить, в голове сплошной сумбур, ноги подкашиваются, разъезжаются во все стороны, как у клоунов. Какую же глупость мы совершили, ведь в винокурне много колбасы, сала, могли бы забрать с собой, и им хватило бы, но ведь они не дали и шагу сделать.
– Пейте, говорю! – Сержант тычет нам в лицо бутылью, начинает злиться. Пьем, черт бы его взял, но нас не то еще ждег впереди: подвыпившему сержанту вдруг приходит в голову заставить нас петь. – Нечего вам слушать только наши песни. Послушаем, как вы поете. Ну-ка, запевай!
Галлаи ругается; мол, это тоже не по Женевской конвенции, горланить песни с поднятыми руками, шествуя среди развалин города. Но напрасны все возражения, сержант стоит на своем. Наконец Шорки затягивает «Две звездочки, две звездочки на темном небосклоне» и, стараясь угодить, выводит замысловатые рулады. Песня тянется, как тесто, под нее нельзя подладиться, чтобы идти в ногу. Начинаем другую. «Высока, высока у тополя макушка». Сержант в восторге, он размахивает бутылью, как хормейстер дирижерской палочкой, и в конце каждого куплета что-то выкрикивает по-русски. За станцией железнодорожники растаскивают тлеющие доски от сгоревшего дома. Путевой мастер Болени изумленно смотрит па нас, не верит своим глазам, а тем более ушам. «Высока, высока у тополя…» Неуместен этот задорный ритм, когда, можно сказать, на волоске висит вся жизнь, может, ни с кем не успеем даже проститься, но, несмотря ни на что, охмелевшие, мы бредем посреди улицы, поднимая пыль и громко распевая. Возле поселковой школы столпилось много испуганных людей, в основном женщины и дети, с узлами, со всевозможными вещами, наверно, в результате бомбежки оставшиеся без крова. Покрикиваю на Шорки, который, явно переусердствовав, все еще поет.
– Да перестань ты, горлодер несчастный!
Темнота сгущается. И это к лучшему, по крайней мере не увижу развалин города. Да и увижу ли вообще его когда-нибудь еще? Возможно, этой же ночью нас отправят дальше. Внезапно кровь отливает от головы, словно я окунул ее в ледяную воду, хмель вылетает из нее, уступив место чувству беспомощности и страха. Сложный переплет, трудное положение, в которые мне приходилось попадать, всегда побуждали меня к активному мышлению, к быстрым и решительным действиям. На сей раз ничего не приходит мне на ум, я чувствую себя просто неспособным думать. Но это же не безвыходное положение. Не может быть. Ведь меня угнетает не присутствие полувзвода солдат, а сознание того, что они здесь, хлынули, как волна, сметают все на своем пути, устанавливают свои порядки, взяли в свои руки управление огромным конвейером, о наличии которого мы и не подозревали, медленно, но неотвратимо приближая конец войны. Над нами делает круги «Юнкере». Гул самолета напоминает завывание старых серых такси, магомобилей; он то воет вовсю с нарастающей силой, то, выдыхаясь, едва пыхтит. Я пробираюсь к Дешё.
– Давай удирать, – шепчу ему, – как только где-нибудь запрут, вылезем в окно, или выломаем пол, или разберем стену, как угодно, но во что бы то ни стало бежать.
Нас гонят с одного конца города в другой, вплоть до самого Айи, потом обратно к дровяному складу Селипи, русские о чем-то совещаются, наконец сворачиваем на Утиный луг, и нас загоняют в бункер, оборудованный недавно для немецкого командования. Отсюда не выберешься. Окон нет, вместо них тщательно заделанное вентиляционное отверстие, пол бетонирован, стены тоже из железобетона, на волю можно выйти лишь в том случае, если выпустят. Тут кромешная тьма, вонища, кто-то копошится на полу. Бункер битком набит. Кто здесь? Сам черт не разберет. С большим трудом устраиваемся на сыром бетоне. Уснуть не могу. Время тянется мучительно медленно. Парализующий испуг уже прошел, я ловлю себя на том, что придумываю защитительную речь в надежде, что, если предстану перед каким-нибудь ответственным лицом, сумею убедить его, что несправедливо увозить меня отсюда, я, собственно говоря, выступал против и не заслуживаю такого отношения, я… Наивно и глупо… В этом придавленном бетонным колпаком муравейнике все думают о собственном спасении, но тщетно.
Утром Фешюш-Яро стряхивает с шинели налипшую грязь, очень сосредоточенно и торопливо, как человек, у которого нет ни минуты свободного времени, будто оно расписано точно по часам на весь день.
– Ну, – говорит он Дешё, – пошли со мной, подойдем к двери, поговорим с ними.
Эта попытка начинается с того, что Фешюш-Яро трижды стучит кулаком в железную дверь, затем, наклонив голову, ждет ответа, который, судя по его уверенному виду– да, у него нет ни тени сомнения на этот счет, – будет состоять не только в словесном отклике, но и в том, что откроется дверь и нас выпустят на свободу. Дверь звенит гулко, как чугунный котел, весь бункер наполнен гулом. Но за дверью не слышат или не обращают внимания на стук. Фешюш-Яро по-прежнему настроен оптимистически. Он старательно колотит в железную дверь, пока на его уже успевшем зарасти щетиной лице не выступает пот. Лишь после этого, поскольку за дверью не слышно никаких признаков жизни, его активность, а вместе с ней и уверенность постепенно угасают.
– Не понимаю, – сердито ворчит он. – Глухой и то бы мог услышать.
И он снова колотит в дверь, но теперь уже ногой. Пожилой солдат, наверно ополченец, советует ему:
– Ты браток, левой ногой попробуй стукни, может, больше повезет!
Из дальнего темного угла торопливо выходит бургомистр, расстегивая на ходу брюки.
– Не могу больше терпеть, – смущенно объясняет он столпившимся у стены.
– Вы что, – набрасывается на него ополченец – сдурели, что ли, прямо мне в карман шинели мочитесь, черт возьми! Сразу видно, что штатский, не приведи господь оказаться где-нибудь вместе с таким, даже из собственного ствола не может попасть в цель.
Казалось, го, что случилось с бургомистром, послужило сигналом для всех остальных, тоже давно переминавшихся с ноги на ногу. Вскоре перед железной дверью выстраивается длинная очередь. Раз уж нельзя выйти наружу, хоть дверь обмочить. Кто сидел близко от двери, чертыхаясь, отодвигается в глубь бункера, проклиная всех бесстыдников, разводящих вонь. По через час все мирятся с этим, и, наверно, сочли бы за благо, если бы в бункере пахло только мочой.
– Мое почтение, господин бургомистр!
Он пытается разжечь окурок сигары, с любопытством глядя на меня.
– И ты здесь, Эрпе? Ба! Посмотрите-ка – Кальман Дешё! Не хотите пройти во второй отсек? Там вся городская управа. Нас загнали сюда прямо из-за письменного стола, даже запереть не дали. Чудно все начинается, право! С того, чем кончилось ч девятнадцатом году… Те, кто пользовался хоть каким-то почетом, их не устраивают. Не понимаю, что общего с ними нашли американцы? Хотя американцы куда ни шло – у них есть дикий Запад со всяческим сбродом, они привыкли к стрельбе. Но англичане как могли с ними объединиться? Древнее правовое государство! «Му house is my castle!»[9]9
Мой дом – моя крепость (англ.).
[Закрыть] И как они могут быть заодно с этими азиатами, неграмотными мужиками, которые способны без суда и следствия….
Я пожалел, что окликнул его. Он невыносим. Барон хоть признавал, что русские научились грамоте и даже кое-чему еще, а этот дряхлеющий идиот даже и этого не знает.
– Извини, господин бургомистр, но за время хозяйничанья немцев пора бы тебе усвоить, что людей без следствия и арестовывают, и даже казнят.
– Что касается меня, то они относились ко мне с глубочайшим почтением, в их глазах я всегда был самым уважаемым чиновником города! Я это беззаконие так не оставлю, я заявлю протест…
Галлаи со вчерашнего вечера не произнес ни слова. С полнейшим безразличием ко всему ковыряется в своем ухе да плюет между ног. Когда же зловоние начало резать глаза, он вдруг принимается пристально разглядывать Шорки, будто ему поручили досконально изучить его.
– Из-за тебя, скотина, – угрюмо изрекает он наконец.
Старшина вопросительно поднимает на него еще глубже запавшие глаза.
– Если бы ты, – продолжает Галлаи, – не потащил нас в этот проклятый дворец, где собирался обшарить все ящики своими загребущими лапами, мы не сидели бы сейчас здесь. Наверняка нашли бы более приятное место.
– Осмелюсь доложить, господин лейтенант…
– Молчи!
– Слушаюсь!
– Ну о чем ты можешь доложить?
– Через этот плен мы так или иначе должны были пройти, осмелюсь доложить. Я предложил насчет дворца только потому, чтобы достать штатскую одежду, впрочем…
– Но ты понимаешь, к чему это привело?
– Осмелюсь доложить, вполне понимаю. Мы и в самом деле могли бы действительно оказаться в другом месте. Но что бы от этого изменилось? Плен – везде плен.
– Сколько у тебя братьев?
– Трое, господин лейтенант.
– Если вернешься домой, скажи отцу, что нормальных у него только два сына.
– Слушаюсь, но…
– Можно задохнуться от этой вони! Или тебе безразлично, каким воздухом дышать?
– Конечно, безразлично, – вмешивается в разговор нилашист из угла. – Ему лишь бы не воевать. Всю страну могут посадить за решетку, а все потому, что господа военные не хотят, видите ли, воевать…
Шорки собирался было позабористее выругаться, но не успел. Коренастый ефрейтор-пограничник внезапно вскакивает и наотмашь бьет нилашиста по щеке, да так звонко, словно кто-то выстрелил из пистолета.
– Мы не воевали? Я тебе покажу, сука! Еще хочешь?
Нилашист вскакивает, за ним поднимаются два-три его дружка, но солдаты окружают ефрейтора, и они, не решаясь затевать драку, переругиваются, грозят устроить ефрейтору темную, а тот посылает их подальше и злой возвращается к своему раненому товарищу.
– Болваны, – в сердцах произносит он, – так ничему и не научились.
Дешё нравится этот коренастый пограничник.
– А чему они должны были научиться? – спрашивает он у ефрейтора.
Тот смотрит на него и машет рукой.
– Да эти и не удивительно. Но те, кто наверху, – тем-то непростительно не видеть. Пора бы уже понять.
– А как бы ты поступил на их месте?
– На чьем месте?
– Ну тех, кому, как ты говоришь, пора бы понять.
– Я не был на их месте.
– Ну а если бы оказался там?
Ефрейтор умолкает.
– Мы столкнулись с русскими под Раховом, – говорит он немного погодя. – Сразу же поняли, что нам не устоять. Не прогремел еще ни один выстрел, они только появились на склоне противоположной горы, по уже было ясно, что нас сомнут.
– А дальше?
– Что дальше? Этого не мог предвидеть лишь тот, кому наплевать, сколько венгров зря сложат голову, или совсем безмозглый. Я вырос в небольшой деревушке, Покахедьеш называется, всего домов семьдесят. Помню, даже мы, подростки, не совали нос на такие престольные праздники, где наперед знали, что нас непременно побьют.
Шорки закуривает. Он, наверно, изрядно запасся сигаретами, то и дело вытаскивает их из-за голенища и, не переставая, дымит.
– Вишь, какой ты умный, браток, – высокомерно бросает он ефрейтору. – Но мы тоже раз-другой дали им прикурить, хотя их и было много. Такой концерт устроили, что им тошно стало.
Галлаи гневно обрывает его.
– Уместно ли хвастаться сейчас? Подумал бы!
Дешё подбадривает пограничника:
– Рассказывай, интересно послушать.
– В общем, сразу было видно, – говорит пограничник, – что они нас раздавят.
– Ну и что же, по-твоему, надо было делать?
– Как что? Не лезть на рожон, конечно…
– Но все дело в том, что у нас на шее сидели немцы. Как бы ты поступил с ними?
– Верно. Немцы. Оно, конечно… Наш батальон тоже воевал между двух немецких. Они никогда не оставляли нас одних.
Фешюш-Яро надоело стучать в дверь. Все равно без толку. Поэтому лучше послушать спокойный диалог между Дешё и ефрейтором. Он выскребает из кармана шинели остатки табачной пыли, скручивает цигарку, закуривает и, решив, что пора придать разговору более определенное направление, начинает обстоятельный доклад с перечисления причин, вызвавших вторую мировую войну, определяет, кто за что воюет, кто защищает правое дело, кто захватчик, применяющий насилие, и так далее. Его утверждения не лишены логики и свидетельствуют о некоторой осведомленности. В бункере постепенно водворяется напряженная тишина. Но не всем пришлись по вкусу логика и осведомленность Фешюш-Яро. Когда он переходит к анализу причин и целей вступления Венгрии в войну, кое-кто начинает злобно гудеть. Какой-то капитан с перевязанной рукой обзывает Фешюш-Яро дураком, способным превозносить красных и лобызаться с ними по всякому поводу. Фешюш-Яро не сдается.
– Удивляюсь, господин капитан, ведь ругань – весьма неубедительный аргумент. Если вам нечего больше сказать, вы лучше помолчите.
Капитан крякает.
– Ладно. Не буду ругаться. Но вы… какие неподобающие для истинного венгра слова у вас хватает наглости произносить здесь!