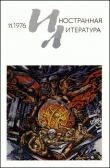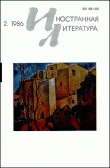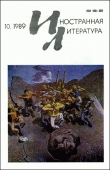Текст книги "Вторник, среда, четверг"
Автор книги: Имре Добози
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Что там? – спрашивает Дешё.
Он сидит спиной к окну с куском хлеба, насаженным на вилку, выбирает из тарелки жидкое лечо, но мы уже видим, как со стороны дворца в гору поднимается патруль. Начальник патруля одет в черную форму, это нилашист, на груди у него висит автомат, два его спутника – полевые жандармы.
Галлаи вскакивает.
– Другой выход из винокурни есть?
– Нет, – отвечает Геза, проводя языком по пересохшим губам. – Только окно… но отец заделал его железной решеткой.
– Каким угодно путем, но отсюда надо выбираться!
Дешё встает. Тщательно вытирает носовым платком губы, словно это самое главное, без чего нельзя обойтись сейчас.
– Самое худшее, – говорит он тихо, – бежать в панике. К дороге нам не пройти, возьмут голыми руками. Но они, может быть, не сюда идут.
Нет сюда. Начальник патруля сворачивает с дороги и направляется к винограднику Барталов. У крайнего ореха останавливается, прислушивается, затем подает знак, оба жандарма следуют за ним, взяв винтовки наперевес. Бог мой, неужто все закончится тем, что нас схватят в этой злосчастной винокурне, как в западне? Кто же мог выдать нас? Ведь сами они не могли прийти прямо сюда… это невозможно! Так или иначе, но они здесь, и нет никакого выхода, а я, дурак, ломаю голову, чтобы вспомнить о каком-то Тарасе Бульбе, Анне Карениной. Лучше бы глядел в оба, но я сглупил, надо же было забиться в эту дыру, какое безумие! И из пяти военных ни один не догадался установить наблюдение. У всех полные безысходности и отчаяния взгляды, побелевшие от страха губы чуть дрожат. Фешюш-Яро хватает топор, прислоненный к двери. Вот неразумный, ему изрешетят брюхо прежде, чем он успеет его поднять. Галлаи выскакивает в соседнюю комнату, приносит оттуда автомат, отводит назад затвор. Как бы стрелять не вздумал, черт его возьми, Чересиеш кишмя кишит немцами, все сбегутся сюда.
– Положи на место, – приказывает Дешё.
Галлаи, глянув на него, подчинился. Он кладет автомат, сразу как-то обмякнув, его мясистое лицо становится бледным, с резко выступившими лиловатымн прожилками. В свои двадцать пять лет он так разъелся, что, если бы не война, его, пожалуй, мог бы хватить удар.
– Есть кто-нибудь в доме?
В окно сквозь тюлевую занавеску виден нилашист. Он стоит, широко расставив ноги, шагах в десяти от двери.
– Не откликайтесь, – шепчет Геза, – может, они уйдут.
Мы знаем, что не уйдут. По всему видно: шли сюда в полной уверенности, что обнаружат нас. Ничего нет абсурднее и более раздражающего, чем ослепленность попавшего в беду человека, его беспредельно глупое ожидание сверхъестественного чуда. Дешё подходит к двери и распахивает ее.
– Пожалуйста, прошу вас, – приглашает он, словно это пришел почтальон.
– Выходи по одному! Руки вверх! И не зздумайте дурить, церемониться не станем.
Ну, конечно Они все знали заранее. Дешё стоит на прежнем месте и, даже не повысив голоса, спрашивает:
– Почему не отдаете честь старшему по званию?
– Послушайте, бросьте валить дурака, мне некогда.
– Не разглядели мое воинское звание?
Нилашист махнул было рукой, но поскольку оба жандарма, щелкнув каблуками, отдают честь, он тоже нехотя поднимает руку и сразу ее опускает.
– Вот теперь совсем другое дело.
Еще немного, и я не выдержу. Сейчас закричу. Или побегу, пусть стреляют вдогонку, мне безразлично, лишь бы не стоять здесь, это невыносимо – разыгрывать фарс перед трагическим концом. «Дезертиров приказываю расстреливать на месте…» Идя сюда, я видел этот приказ, подписанный генерал-полковником Берегффи, с трехцветной каймой наверху и бледно-зелеными скрещенными стрелами посередине. Он висел на стене дома Вибалди, возле статуи святого Яноша. Пытаюсь взять себя в руки, напрягая последние силы, нельзя давать волю вконец развинтившимся нервам, нет, нет, ни в коем случае…
– Выходите, господин старший лейтенант! В штабе вам уже никто не отдаст честь, будьте уверены!
– Сию минуту, друг. Захвачу шинель и документы.
– Не вздумайте бежать! Открою огонь без предупреждения.
Дешё возвращается. Галлаи срывающимся голосом упрашивает его:
– Давайте прорываться. Если не удастся… все равно терять нечего…
Дешё молчит. Не спеша идет обратно, я даже не заметил, как он взял автомат, только услышал резкую, короткую очередь. Трое пришельцев валятся на землю, как подкошенные.
Дешё стоит некоторое время в дверях, затем входит в комнату, кладет на стол автомат, отодвинув в сторону тарелки. Левой рукой он делает жест, давая понять, что иного выхода не было.
– Что же теперь? – заикаясь, спрашивает Галлаи, но в голосе его уже звучат заискивающие нотки. Геза хватает свою сумку.
– Пойду посмотрю, может, только ранены?
– Бесполезно, – отвечает Дешё. – Все мертвы.
Мы выходим за дверь, осматриваемся. Гр охочут орудия, в Старом Городе рвутся мины, среди редких зарослей Череспеша в сторону Битты ползут три немецких танка. Неуемный страх сменяется во мне чувством стыда и досады на самого себя: как это я позволил себе разволноваться, дрожать, словно пугливое животное. Вот бы узнать, кто нас выдал, и проучить предателя. Как легко убить сразу трех человек! До ужаса просто. Главное – действовать быстрее, безошибочнее и решительнее противной стороны, но для этого, прежде чем выстрелить, необходимо мобилизовать все умственные и нервные силы, вслед за чем из мозгового центра незамедлительно последует приказ глазам и рукам. Не так-то, стало быть, все просто! Почему стрелял именно Дешё, а не кто-нибудь другой? Еще вчера вечером он сказал, что с сегодняшнего утра никому не будет приказывать, и все же доказал – тем, что не потерял голову, – что он старший над нами. Он закуривает. Я смотрю на его руки, надеясь заметить дрожь в них, хотя бы как следствие потрясения, вызванного его двухминутной игрой с жизнью и смертью, а затем и самим убийством, хотя и вполне правомерным, но все-таки убийством людей. Но руки у него такие же, как всегда, – тонкие, загорелые, спокойные.
– Оттащите их за кучи хмыза, – приказывает он. – Оружие и патроны подобрать, могут еще пригодиться. Геза, дай мне грабли, нельзя оставлять следы крови. Тарба! Видишь ветвистый вяз у дороги? Станешь там в дозор, потом тебя сменят. Приготовьте провиант и все необходимое в дорогу на случай, если придется быстро уходить.
Фешюш-Яро только теперь выпустил из рук топор. С выражением признательности и трогательной преданности он приближается к Дешё.
– Кальман, я от всего сердца хотел бы тебе сказать…
– Ничего не говори. Я был в безвыходном положении.
Пули прошили жандармов ниже грудной клетки. На их шинелях кровавые обрывки внутренностей. На каждого нилашиста пришлось семь или восемь пуль. Меткая была очередь. Никто ничего не заметил? Из батрацких халуп все можно рассмотреть. Но вокруг ни души, окрестности дворца пустынны, на склоне виноградного холма тоже безлюдно, и лишь за белеющей вдали вершиной Гудимовой горы видны вспышки орудийных выстрелов. Кажется, будто зловеще-багровые сполохи состязаются в яркости с самим солнцем. Куда они бьют? Если Мандор уже взят, до Битты остается только один хутор, Элизапуста, названный так по имени бабки Галди, гам всего пять или шесть домов. Неподалеку от них озерцо с холодной водой. Летом там любят купаться буйволы. Рыбы в нем нет, тем не менее озеро очень милое, наверно, и сейчас сонная водная гладь его тускло поблескивает под наклонившимися к ней ивами. Над станцией клубится дым – только что прибыл двенадцатичасовой будапештский поезд. Движение еще не прервано, но все это кажется бессмысленным, ненужным. А разве есть смысл в том, что делаем мы? Меня разбирает любопытство: интересно, кто они, эти трое, надо бы обыскать карманы, но трупы залиты кровью. Тяжело дыша, оттаскиваем их за ноги, головы покачиваются из стороны в сторону, словно что-то отрицают, мол, мы ни в чем не виноваты, нас послали, вот мы и пришли. Шорки все-таки выворачивает их карманы. Документы его не интересуют. Оттопырив губы, он подсчитывает скудные трофеи: несколько перочинных ножиков, зажигалок и ключей, которыми уже никогда ничего не откроют.
– У нас есть еще не меньше сорока-пятидесяти минут, – говорит Дешё, – пока из комендатуры пришлют второй патруль.
Он выбирает себе автомат, мне дает второй. Галлаи берет третий. Фешюш-Яро тоже хотелось бы взять, но оружия больше нет, да и обращаться с ним он не умеет, никогда не стрелял из автомата. Зато ему достались два пистолета, которые он сунул в карманы. Геза все еще, низко склонившись, хлопочет над трупами. В студенческие годы, изучая анатомию, он в поезде строгал щербатым скальпелем человеческие кости. Девушки визжали в тамбуре студенческого вагона, а нас он отучил завтракать в дороге. Брось, говорили Гезе, если у тебя нутро не выворачивает, то другие этого не переносят! Его плохо знали: все это стоило ему гораздо больших усилий, чем нам, наблюдавшим за его занятием со стороны. Но такой уж он человек: всю свою жизнь упрямо, мучительно пытается что-то преодолеть в себе. И в этом весь он, без чего даже трудно его представить. Возможно, он и сейчас преодолевает такое же внутреннее отвращение, как тогда, когда скреб кости. Гротескные потуги, отцу всегда твердит: naturam expellas furca, tamen usque recurret. И это действительно так: от самого себя никуда не уйдешь, свою вторую натуру и вилами не прогонишь; но он только других поучает, а сам ничему не научился в этом смысле. До слуха моего долетает резкий вой. Это «катюши». Вот дьявольское оружие: издают такой отвратительный, вселяющий ужас вой, будто несметное множество собак скулят на разные голоса. Но вот вой умолкает, и сразу же после него со страшным грохотом содрогается земля.
– Эй, ребята, Битту утюжат «катюши»! Впрочем, нет, это уже не Битту, а ближе, подножие Ляпа, в районе шоссейной дороги. Что там творится?
– Я же говорил, – произносит Галлаи, – они окружат нас. Неплохо бы спуститься в подвал, там и вино под рукой, напиться можно до чертиков, и пусть себе грохочет наверху, чихал я на них.
Но никто не трогается с места. Новый залп. Огненные снопы проносятся над холмами. С постоялого двора корчмаря Буденца выползают на дорогу танки. Вся южная часть города сразу оживляется, грохочут орудия, лают крупнокалиберные пулеметы, пришел в движение фронт у Старого Города. Русские перешли в наступление и со стороны Дуная.
– Да, – соглашается Дешё, – ты оказался прав, они действительно готовят настоящие клещи, чтобы никого не выпустить отсюда.
По ту сторону дворца по горной дороге спускаются немецкие вездеходы, за ними – грузовики с венгерскими пограничниками, примерно полбатальона, очевидно, предстоят жаркие бои.
– Подпоясаться ремнями, взять оружие! – всполошился Галлаи, щупая глухое ухо. – Господин старший лейтенант, если нарвутся на нас, выдадим себя за наблюдательный пункт, это самое разумное. Ах, черт возьми, хоть бы какой-нибудь паршивенький бинокль иметь под руками.
– У меня есть, – говорит Шорки, доставая из-за пазухи немецкий полевой бинокль.
– Отдай господину старшему лейтенанту, живо! Что это за обеспечение: ни футляра, ни ремешка. Шорки, ты низко пал в моих глазах.
– Осмелюсь доложить, – в тон ему рапортует тот, – с футляром трудно было бы стащить, пришлось так…
– Отставить разговоры, давай сюда бинокль.
– Слушаюсь, господин старший лейтенант.
Фешюш-Яро снимает с трупа одного из полевых жандармов поясной ремень, но от этого его воинская выправка не очень-то вышрывает: лохмотья шинели свисают из-под ремня сплошной бахромой. Он подбегает к Дешё:
– Кальман, дан па минутку, всего на минуточку посмотреть, – и торопливо подносит бинокль к глазам.
Какой огромный смысл заложен в этом скупом, коротком, но выразительном жесте! Ох, как долго Фешюш-Яро ждал этой минуты, и теперь он не в силах сдержать волнение. О, как невыразимо жаль, что они еще далеко, так далеко! Ничего не увидев, он, огорченный, возвращает бинокль. «Катюши» умолкли, но орудийная канонада продолжается, доносятся винтовочные выстрелы. Холодок в животе у меня не проходит, он разливается то вверх, то вниз, вот уже мерзнет большой палец на ноге, и мне почему-то захотелось, чтобы наши остановили их. Почему? Зачем? Какой смысл? Знаю ведь, что это все равно придется пережить, и чем быстрее, тем лучше… Но все-таки не сейчас, как-нибудь потом… Чтобы можно было еще гадать, что ждет нас в будущем, каким оно будет, найти в нем хоть чуточку хорошего для себя в это сумбурное время. Я все никак не могу подготовиться к столь коренным, необратимым переменам. Или, может быть, к ним и нельзя подготовиться? Нужно примириться с ними, приспособиться, и больше ничего, это все, что можно требовать от человека! В Элизапусте что-то горит, возможно, овин – такой плотный, бело-желтый, тяжелый дым дает пшеница. Однажды я видел его в Битте, когда там загорелся амбар. Но русские уже просочились западнее хутора, «катюши» начинают играть свою музыку со стороны Шаргакута. До чего же ловко орудуют эти мобильные пусковые установки! Прежде чем наша артиллерия успеет засечь их, они уже давно в другом месте. Никто не разговаривает, все погружены в раздумье. Нас давит тревога, как мокрая, тяжелая шинель. Стоя под вязами, Тарба тоже смотрит не назад, а вперед, удрученно следит за линией фронта. Она напоминает колышущийся на ветру камыш – то наклоняется вперед, то откатывается назад. Вот из машин выскакивают пограничники; какими крохотными, испуганно мечущимися жучками кажутся они издалека, но это хорошо: так труднее попасть в них. Они разворачиваются почти полукругом. С правого фланга, сохраняя равнение, продвигаются немцы. Непостижимо, даже сейчас они в состоянии соблюдать порядок.
– Вот теперь, – говорит Дешё, протягивая бинокль Фешюш-Яро, – теперь ты сможешь их увидеть.
Бинокль переходит из рук в руки. На опушке биттайского леса показываются русские танки, они ползут, как черепахи, – один, два, десять, пятнадцать, вот это силища: целый танковый полк! Они резко прибавляют скорость, веерообразно рассредоточиваются, а позади них крохотные фигурки – густая цепь пехотинцев. Даже в бинокль я не вижу ничего, кроме долгополых шинелей и блеска металла. Лиц совершенно нельзя разглядеть. С Гудимовой горы «бофорсы» ведут прицельный огонь, снаряды разрываются совсем близко, попадают в цель. Сразу два ганка, окутавшись дымом, остановились на опушке леса. Должно быть, отличные наводчики стоят за орудиями на Гудимовой горе. Какая величественная панорама боя! Нам все кажется прекрасным, русские «катюши» поднимают пыль как раз посредине между двумя оборонительными линиями. Со стороны Дяпа минометы начинают нащупывать наших, но пока не причиняют им большого вреда, мины вспахивают землю в трехстах-четырехстах метрах перед пограничниками. Что это? Я не верю глазам своим! Какой-то безрассудный крестьянин трясется на груженной кукурузой подводе со стороны Битты к Галду. В лучах солнца кукуруза отливает золотом. Что за идиллия! Можно подумать, что в воздухе летают не снаряды, а воробьи. Крестьянин, правда, втянул голову в плечи, поля его шляпы почти касаются груди, по он упрямо продолжает ехать вперед. Если бы в повозке была не кукуруза, а золото, я бы все равно не согласился ехать туда. С завыванием следует залп за залпом. Отсюда, сверху, зрелище выглядит каким-то величественно-парадным Да, все же какое огромное количество металла и других разрушительных средств нужно израсходовать, пока наконец попадешь в какого-то человечка. Говорят, в первую мировую войну на каждого убитого пришлось по десять тысяч снарядов. Ой-оп-ой! Это же накрыло наших, прямое попадание. На какое-то мгновение все поле охватило пламенем.
– Скорее бинокль, что вы рот разинули!
Сколько недвижимых, раздавленных жучков на земле! Вставайте, ну же, ну, живее, не может быть… Разве наши не выслали разведку? Какой же безмозглый болван погнал прямо под огонь «катюш» пограничников? Галлаи выхватывает из моих рук бинокль, матерится.
– Скверные дела, – мрачно произносит он, – немногие уцелели, да и те улепетывают.
Дешё садится на каменную тумбу, лицо у него осунулось, он закуривает, но не делает ни одной затяжки, сигарета дымится в руке.
– Так будет теперь везде, – задумчиво произносит он, – перепашут всю землю, от границы до границы…
Он не успевает закончить. В дом вбегает Геза, плечи его содрогаются. Из Шаргакута ползут семь или восемь немецких танков, обходя русских с фланга. Сейчас и там начнется смертельная схватка. Головной немецкий танк выводит из строя три русских тапка, прежде чем те успели заметить атакующих. Но вот русские разворачиваются на девяносто градусов, фронтом к немцам, и методически уничтожают все подразделение. Подбитые танки скрыты от глаз густыми клубами дыма. Наверно, точно так же дымил и мой «Ансальдо» под Коломыей, но я не мог этого увидеть, так как очнулся только в госпитале. Русские опять делают разворот, и как точно! Ну и самообладание же > них, черт возьми! Полным ходом они движутся со стороны Битты прямо па город.
– Не понимаю, – злится Галлаи, – куда эти олухи девали противотанковые орудия, должны же быть у нас противотанковые пушки, но куда, к лешему, они запропастились?
Уцелевшие немцы прыгают в окопы, воронки, бьют по танкам фауст-патропамн. Два из них им удается подбить, но следом за танками па них обрушивается русская пехота. Тех, кто остался в живых, вытаскивают из окопов и гонят в тыл. Значит, все кончено? Продолжения не последует.
– Геза, – кричу я, вспомнив, что у нас нет другой одежды, кроме военной формы. Не хватает только, черт возьми, чтобы мы попали в самый настоящий плен, как сражавшиеся в этом бою. – Геза, где ты там, как же со штатской одеждой?
Он не слышит. Кругом сплошной грохот, все содрогается. Мною овладевает такая бешеная ярость, что я готов ломать и сокрушать все подряд. Вбегаю в дом, стаскиваю со стула Гезу, его заплаканное лицо еще больше выводит меня из терпения.
– Что ты ревешь, жалкий идиот, где штатская одежда?
– Да, – мямлит он, – ведь отец…
– Не тяни! По твоей вине мы угодим в Сибирь, но прежде я укокошу тебя!
– Дело в том, что отец только сегодня вечером…
– Поздно! А если совсем не придет, что тогда? Никто из нас и носа не высунет в город, мы все в военной форме!
– Да, ты прав. Но если хочешь, давай я… ну, конечно, как я раньше не сообразил, ведь иного выхода нет.
Он протирает очки, надевает помятую шляпу.
– Останешься здесь, – говорит Дешё.
Он стоит позади меня, я даже не заметил, как он вошел.
– Чужой жизни тебе не жаль! – сурово бросает он мне. – Лишь бы свою шкуру спасти!
– И твою тоже, если хочешь знать! И вообще давай без нотаций, я сыт ими по горло. Если собираешься сдаваться в плен, пожалуйста… по меня не заставишь!
– Обменяйся с Гезой одеждой и ступай.
– Меняйся сам! Осуждать других и я умею, но пойти па риск…
Он вышвыривает меня за дверь энергичным, но легким, без особых усилий движением, от которого я отлетаю до самого ореха. Какая у него сила в руках! Отталкиваюсь от дерева. Нет, нельзя все так оставить, иначе я стану всеобщим посмешищем, а это недопустимо. В глазах моих расплываются, как в тумане, какие-то красные круги, они заволакивают винокурню, и я ору что есть мочи:
– Укокошил жандармов, и теперь боишься показываться, по в свои грязные дела других не впутывай! – И я с остервенением бросаюсь на пего, но Галлан и Шорки оттаскивают меня.
– Вы что, белены объелись? – рявкает Галлаи… – Кто же мог знать, что все закончится сегодня утром… Но их еще нет здесь, и вряд ли они скоро придут, не так быстро это делается, до тех пор, возможно, все прояснится, и не из-за чего затевать драку.
– Обойдусь без твоих советов, лучше поучи своего старшего лейтенанта. Я тоже могу толкнуть кого угодно, для этого не требуется особого ума.
– Он прав, господин старший лейтенант, нам нельзя между собой… ты не обижайся, нам нужно держаться друг за друга, не надо ссориться, очень прошу тебя.
Дешё молчит. Возвращается к каменной тумбе, садится на нее и снова наблюдает за полем боя. Какая же бестолковщина, уму непостижимо! Ловчим, изощряемся, рискуем, чтобы под конец из-за какого-то жалкого тряпья все пошло насмарку. Геза виновато, бочком выходит из дома.
– Ты прав, – шепчет он мне на ухо, – все-таки я должен был сходить, ведь у меня и повязка Красного Креста есть.
– Да иди ты к черту! Какой в том толк, что я прав.
К тому же я вовсе не прав, как не прав и Дешё, все мы не правы. Я хочу остаться дома, чего бы мне это ни стоило, и кого может интересовать моральная сторона этого дела, если меня уведут отсюда.
– Все это зря, – укоризненно говорит Фешюш-Яро, – раз уж мы здесь, то обязаны быть готовыми к самому худшему. Я на собственном опыте убедился и крепко зарубил себе на носу… с теми, кто с тобой заодно, не устраивай свары, не набрасывайся на них, если даже это иногда и кажется нужным. Повторяю: неправота в конечном счете может привести к непоправимой беде.
Идиот. Этот только теоретизирует, будто мы от нечего делать играем в покер и заботимся лишь о том, чтобы набрать больше очков. Мне совсем не стыдно, ни капельки.
– Что ты тут морализируешь? Это вовсе не относится к делу. Валить лес где-то за Уралом, это, по-твоему, справедливо?
– Что ж, если смотреть в корень и вспомнить, что творили оккупанты, то и в этом есть своя историческая справедливость.
– Заткнись! Ты разве не видишь, что война губит все? Глаза выпучил, а не видишь, что русские тоже стреляют не в воздух? Кто будет восстанавливать разрушенное? Они, что ли, пришлют сюда своих строителей?
– Нельзя же подходить так примитивно, главное в том…
– Знаю, что ты скажешь! Дешё тоже твердит: мол, не они начали, они только дают сдачи. Но ведь я тоже не начинал, почему же я должен расплачиваться, пусть угоняют «адмирала от кавалерии»[8]8
Имеется в виду Хорти.
[Закрыть] возводить стены, а Гитлер будет белить их, благо он маляр по специальности… Но голову даю на отсечение, что генералов не заставят работать, они и в плену будут жить припеваючи, так подавись же своей липовой справедливостью.
– Всем воздадут по заслугам, не беспокойся, не взирая на лица и ранги, на сей раз никто не отвертится.
– А в чем моя вина? Что я сделал?
– Ладно, давай не будем спорить, сейчас не время и не место… Со своей стороны я сделаю все возможное. Расскажу о вас все как есть и, надеюсь…
Губы его шевелятся, но я уже не слышу. Вокруг оглушительный грохот. «Бофорсы» обстреливают теперь Череснеш и железнодорожное депо. Минометы, полевая артиллерия, станковые пулеметы, противотанковые пушки – все немецкое и венгерское оружие изрыгает огонь в ту сторону, откуда паши только что отступили. Бьют по русским, которые преследуют отступающих, по не столько по ним, сколько по домикам. В обеих частях города много небольших домишек с садами. Рушатся крыши, полуобезумевшие женщины мечутся среди развалин, загорается сразу вся, словно она из папье-маше, церковь в Новом Городе. Без шапок из здания станции выскакивают железнодорожники и неуклюже скатываются с насыпи. На углу улицы Безереди разбегается немноголюдное похоронное шествие, лошади мечутся из стороны в сторону по мостовой, гроб на катафалке подпрыгивает, будто в нем лежит живой человек. Вижу венгерских солдат, попавших под обстрел. Им никак не выбраться из города, пули встречают их там, где они надеялись найти спасение. Сраженные падают на землю, уцелевшие сломя голову перебегают от одного дома к другому. Проклятые артиллеристы! Неужели они не видят, что город пал, какой же смысл продолжать разрушения и сеять смерть?! Из-за вершины Гудимовой горы со свистом проносятся снаряды. Так продолжается еще минут тридцать. Затем наступает тишина. Всю западную часть Нового Города заволокло пылью и дымом. После внезапно прекратившегося оглушительного грохота до нашего слуха доносится глухой гул отдаленной перестрелки, то едва различимые, то более громкие сливающиеся в одно целое вопли. Где теперь русские? Деревья Айи скрывают от моего взора дом Шуранди. Ну, теперь понадобятся эшелоны гробов. Господи, и это по воле твоей. Вдруг перед моими глазами – наш двор, там лежит платяной шкаф, а рядом – все его содержимое. На проволочной решетке беседки висит новый костюм моей матери. Гелетаине заходит в магазин, полы ее элегантного пальто развеваются, но магазина нет, вместо него – черная выгоревшая пустота за дверью, исчезает и Гелетаине, она растворилась в дыму. Там, где только что стояла она, откуда-то сверху возникла фигура бургомистра. Из его выпученных глаз текут слезы. «Старина, я не мог так сказать, сам понимаешь, положение обязывает, но от лица всех благодарю, от имени родины». Геза берет меня за плечо и уводит.
– Еще нельзя, – тараторит взволнованно он, – думаешь, мне не хочется, я тоже с ума схожу от неведения, что творится там, внизу, все бы стремглав побежали, но пока нельзя, старина, Дешё тоже говорит, что надо переждать…
Я непонимающе смотрю ему в лицо. Куда бежать, зачем? Я вовсе не собираюсь бежать. У меня и мысли такой не было. Но что, собственно, со мной произошло? Погодите-ка, когда наступила тишина… Нет, еще раньше – катафалк, сраженные солдаты… Но почему? Я хорошо помню, как внимательно следил за всем, все вбирал в себя, пожирая глазами, мог даже наблюдать за разрывами, так отчего же оборвалась эта тревожная, бесконечная нить наблюдений, словно кто-то резко рванул ее.
– Да, основательно обработали, – безучастным тоном резюмирует Шорки. Его запавшие глаза как бы оценивающе, методически ощупывают Новый Город. – Словно чудовищным градом побило.
Если бы его деревню исколошматили, вряд ли бы этот бандит остался таким равнодушным, он завыл бы белугой, рвал на себе волосы, ногтями откапывал трупы своих детей из-под руин. Но вместо того чтоб одернуть его, я заплакал. Меня будто жестоко избили, все болит, и как ни силюсь, я не могу сдержать слез.
– Ничего-ничего, – успокаивает Фешюш-Яро, – ты не стыдись.
Он видит, что я делаю над собой нечеловеческие усилия, его угловатое лицо становится мягким, располагающим к себе, глаза полны живого участия. Но он не в силах скрыть, что поражен, увидев меня плачущим, – видимо, считал просто не способным на такое. Тем не менее мне приятно слышать его слова. Не такой уж бездушный человек этот Фешюш-Яро, как я думал. Его даже на фоне вселенской беды способны растрогать слезы того, кто стонет и мучается рядом с ним. Нет, нет, он не перешагнет через него равнодушно. Но надо перестать плакать. Сейчас же, немедленно. Негоже давать волю своим чувствам, так легко и непроизвольно терять контроль над собой. Впредь надо крепче держать себя в руках, что бы ни стряслось со мной и вокруг меня, нужно сохранять самообладание и здравый рассудок. Очень важно всегда думать, заставлять свой мозг логично и последовательно мыслить, даже в самом безвыходном положении. Вот и сейчас. Быстрее. Но о чем думать? О том, чтобы черви не грызли друг друга. Черви, черви – какие глупости. Черви все равно будут ползать. Этой выходки никогда не прощу Дешё. Нельзя простить. Знаю, до конца дней моих буду терзаться сознанием того, что он нанес мне оскорбление, и я не отплатил ему. Как-то в дождливую погоду, когда я учился еще во втором классе начальной школы, несмотря на все старания обойти лужи на тротуаре, я все-таки угодил ногой в одну из них и забрызгал Фери Багара, сына мясника. Его белые чулки сплошь покрылись рыжими пятнами. Рассвирепев, он влепил мне пощечину, причем так неожиданно, что я только рот раскрыл от удивления. Мальчишки вокруг захохотали. С тех пор прошло восемнадцать лет, но каждый раз, завидев Багара, я испытываю мучительный стыд и ярость, чувствую, как краснеет моя левая щека, и уже не могу разговаривать с ним так, как с другими людьми. Он, наверно, давно уже забыл про это. Кто дает пощечину, тот быстро забывает. Если бы я напомнил ему, он с жаром стал бы уверять, тряся головой: да что ты, господин управляющий, я – тебе, да как у тебя только язык повернулся сказать такое. Но с какой стати я стал бы ему напоминать об этом? Да и зачем? Спустя восемнадцать лет это не имеет никакого смысла. Надо было сразу отплатить, в тот же день. Все-таки я подсижу Дешё когда-нибудь, не может быть, чтобы в это сумасшедшее время он пи на чем не споткнулся. Вот уж тогда отыграюсь за все, отведу душу, а иначе до конца жизни… А может, он уже и не так далеко… конец жизни, а я тут беснуюсь, вынашивая какие-то низменные, мелочные планы мести. Но что поделаешь, приходится цепляться хоть за ничтожно малое, если уж большие дела и даже собственная жизнь от тебя не зависят. Опять все смешалось в голове, какие-то призраки перед глазами. Ах да! Одежда! Все-таки она нужна, это единственное, что безотлагательно надо бы сделать. И нечего спрашивать пи у кого. Дешё, разумеется, считает все это подлостью и эгоизмом. Там, внизу, в предсмертной агонии половина города, а мне хочется переодеться. Ерунда, ну их ко всем чертям, эти возвышенные чувства. Там, в кромешном аду, среди дымящихся руин, любой с перебитыми ногами и выпущенными наружу кишками тоже из последних сил старается переползти обратно в жизнь, в эту жалкую, постылую, висящую на волоске, не стоящую того, чтобы дорожить ею, по единственную жизнь. К тому же, от моего сочувствия тем, поверженным внизу, не станет легче, а себе я еще мог бы помочь. Если невозможно иначе, сам пойду, постараюсь пробраться фруктовыми садами по ту сторону Айи. Дешё продолжает сидеть, пристально глядя вдаль. Ветер гонит над городом черные клубы дыма. В такие минуты даже он перестает философствовать. Пропади ты пропадом вместе со своими эфемерными, педантичными, скрупулезными, заумными размышлениями, очень уж ты любишь анализировать, раскладывать все по полочкам в строгом логическом порядке: тут тебе и исторические перспективы, и все что угодно, но когда нужно что-нибудь быстро сообразить, принять единственно верное решение, ты беспомощно таращишь глаза, как больная кошка, вот и все. Иди к черту, мы все могли спастись, время и здравый смысл вступили в неразрешимый идиотский конфликт, кругом хаос, и нельзя навести порядок. В такое время преуспевают ловкачи и те, кто умеет быстро и безошибочно ориентироваться в любой обстановке. Ты меня вышвырнул за дверь… Можешь говорить потом, что это была всего лишь вспышка, реакция, по в том-то и дело, что тебе просто нечего было противопоставить моей неотразимой правде. Не понимаю, что руководило им, когда он стрелял в жандармов и сразил их в мгновение ока. Наверно, заранее принял такое решение. Да, не иначе. Если бы оно еще не созрело, он дал бы схватить себя, и его повели бы, как теленка. Но, видимо, еще с момента получения повестки в военный трибунал он перебрал в уме все варианты, и в конце концов из многих выбрал этот, единственный.