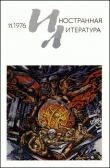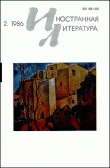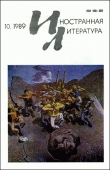Текст книги "Вторник, среда, четверг"
Автор книги: Имре Добози
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
– Но все-таки… сколько же вас?
– Четверо… – ответил Галлаи. Мне хотелось одернуть его, сделать замечание, чтобы он не плевал на ковер. – Четвертый – Тарба, – продолжал он, – командир пулеметного отделения. Он тоже коллекционер; раз уж все выкладываем начистоту – нечего стесняться! Нас четверых вызвали на допрос – значит, вместе подохнем или вместе смоемся, другого выхода нет. Тарба перволпассный пулеметчик, я видел, как он короткой очередью скосил бегущую лису. Готов поцеловать в зад любого, кто сможет сделать то же самое. А когда он изображает однорукого кларнетиста, господин старший лейтенант, со смеху умрешь. Особенно если в ударе. Спрячет левую руку, рукав кителя болтается пустой – ни дать ни взять инвалид; раскачиваясь, играет какую-нибудь песню, затем высунет палец из ширинки, держит им кларнет, а в правую руку возьмет шапку и начнет собирать подаяние по кругу. Бесподобно! Все хохочут до упаду. Но такое настроение у него бывает редко. Все остальное время угрюм и нелюдим. Спит всегда один, никто не осмеливается лечь рядом. Да и не удивительно. Ему бы лучше всего погибнуть, но таких и пуля не берет. Когда работал каменщиком, его избрали доверенным лицом в профсоюзе, потом попал под надзор полиции и был отправлен на фронт; там начал болтать сдуру: дескать, русские тоже люди, у большевиков, мол, все равны, нет ни господ, ни слуг и тому подобное. А какое там нет, черта с два: где есть начальник, там и подневольный, как же иначе – один приказывает, а другой исполняет да помалкивает. Но этот болван продолжал свое, пока не перевели в карательный отряд по борьбе с партизанами, где его заставляли вешать схваченных партизан и других арестованных, чтобы он мог доказать свою лояльность. Сначала Тарба ни в какую – не хотел да и все тут. Говорят, его штыками подгоняли к виселице, однажды так пырнули в зад, что кровь брызнула через штаны. Не выдержал издевательств, сам повесился на чердаке дома, в самый последний момент вынули из петли. Но потом сломался парень. Великое дело дисциплина, особенно на фронте – либо совесть свою сбереги, либо постылую жизнь. Вот тут-то и начал Тарба вешать, лютым зверем стал, когда его обратно к нам откомандировали, просто подойти страшно. Так вот этот Тарба носит в своем вещевом мешке небольшой узел, а зачем – черт его знает. Как вспомню, мурашки бегают по спине. В нем он прячет тряпки – лоскутки шинелей, рубашек, юбок, подштанников, словом, у кого что было на теле в последний раз, всего сорок три лоскутка. Говорят, будто именно столько русских повесил он по принуждению. Так вот он-то почему стрелял? Кому хотел отомстить? Разве только своей постылой, пропащей жизни. Шорки-то я знаю, сам слышал – тебе не довелось слышать, господин старший лейтенант, – как на рассвете того дня он выл, словно пес: «Зачем же жрали, свиньи, коли желудок не способен переварить, а теперь вместе с остальной блевотиной и нас изрыгнете из ненасытной утробы!» Это он немцам кричал. Ты не придал этому значения, да тебе и не до того тогда было, но я наблюдал за ним, это именно он кричал. В нем взбунтовался обманутый наемник, вот где собака зарыта! Не войну он ненавидит, а поражение. Ненавидит слабость немцев, выпустивших из рук то, что удалось заграбастать. Ибо это означало, что балаган закрывается, что ему, способному у ведьмы стащить помело, больше не удастся поживиться на чужой счет. Как-то раз чуть не всю роту одел в дамское белье, заменив износившиеся подштанники. Покупая в одном магазине у торговца шнурки для ботинок, запихнул под шинель пять дюжин шелковых трико.
Мне стало не по себе. Это действительно шайка, за исключением Дешё, да еще какая шайка! И мое место с ними? Или я тоже стал бы таким, если бы санитарный поезд не привез меня назад из-под Коломыи?
– Не стану выдавать звериную ярость Шорки за вполне осознанный бунт, – произнес Дешё. – Я помню, что мои солдаты потому взялись за оружие, чтобы наконец бросить его совсем и пойти по домам. Не отрицаю и того, что многих моих сослуживцев-офицеров в батальоне больше страшила неопределенность новой обстановки, чем продолжение привычного зла. Но было там и другое. Пойми, на рассвете того дня… пожалуй впервые за всю войну, мы были действительно венгерскими солдатами Ей-богу, если бы ты был с нами, то поступил бы так же. Хоть в течение пяти минут, но наконец-то дело касалось нас самих, нашей Венгрии… За какие-то считанные минуты мы накопили огромный моральный капитал. Правда, так же быстро и растранжирили его. Какой яркий огонь превратился в серый пепел! А если бы он заполыхал кругом… Молчи, я знаю, что ты хочешь сказать. И все-таки не раскаиваюсь. Ведь в финале мы остались одни, в ужасающем одиночестве. Но два или три дня… да, примерно до восемнадцатого числа, мы были тем живым примером, которому хотели, но не смели последовать многие. Только тогда – уже после восемнадцатого – атмосфера вокруг нас стала разряжаться, когда немцы получили полную гарантию, что все останется по-старому, что мы и впредь будем идти на смерть по чужому приказу, упустив благоприятную возможность, представившуюся нам.
Мне трудно было следить за ходом его мыслей. Да и не хотелось. Слово «авантюра» вертелось у меня на языке, но произнести его я не решался, хотя все это было действительно не чем иным, как внешне привлекательной, но прискорбно бессмысленной авантюрой: одна рота, одна-единственная взбунтовавшаяся рота, зажатая в кольце безучастных батальонов, полков, дивизий, открывает огонь по немцам. Что это? Смертельный гусарский аллюр или безумие? Меня уже начало раздражать все это. А еще больше то, что за этим вырисовывалось, – фантастические обобщения Дешё: решать венгерскую проблему с помощью венгерской армии, игнорируя ту все определяющую и все решающую реальность, которую представляла собой смертельная схватка двух противоборствующих гигантов, происходившая теперь уже здесь, на нашей земле.
– Как у тебя могла возникнуть такая мысль, даже на одну минуту? Два гигантских жернова перетрут нас в порошок… Или немцы, или русские, другого выбора нет.
– Мог бы быть.
– Нет! Разве что теоретически… впрочем, нет, это совершенно нереально! Я тоже ненавижу немцев…
– Пустая фраза. Пока ты не станешь стрелять в них, это просто сотрясение воздуха.
– Но я не уверен, что русские будут за нас…
– Послушай, на рассвете 16 ноября я напомнил своим солдатам о первом сражении роты. Через два дня после Дерехова мы попали под сильный обстрел. Получив приказ обеспечивать фланг, мы заняли удобную позицию, расположенную поначалу довольно далеко от направления главного удара дивизии, готовящейся к наступлению. Мои люди беспечно грелись на солнышке, я тихонько декламировал стих Януса Паннониуса и грыз какой-то стебелек. В моей памяти сохранилось все до мельчайших подробностей. Ведь только так говорят, что жизнь единое целое, а на самом деле она вся соткана из мелочей, непохожих и противоречивых… В результате внезапного контрудара линия фронта повернулась, и моя рота подверглась сильнейшему обстрелу. Все произошло так быстро, что я не успел даже испытать чувство страха. С поразительным спокойствием я командовал своей ротой, отвечая на огонь русских. Атаку нам удалось отбить. После нее мы насчитали одиннадцать убитых и семнадцать тяжелораненых. За каких-нибудь несколько минут четверти роты как не бывало. Нас отвели в тыл на отдых. Неподалеку от перевязочного пункта мы уселись на валявшихся бревнах, а в палатке хрипел и стонал молодой солдат моей роты. Словно ему наступили на горло. Всем хотелось уйти куда-нибудь подальше, но никто не осмеливался сделать это первым, и все остались на месте. Кто-то сказал, не помню уже кто: «Здесь всюду лишь стоны венгерские». Я промолчал. Смотрел на странные по форме стога, на березы, на непривычные крыши домов, на буро-серую землю, мысленно повторяя, как и остальные, гнетущую фразу: «Здесь всюду лишь стоны венгерские». Из палатки выбежал санитар, вытирая о передник забрызганные кровью руки. «Господин командир роты, он хочет с вами поговорить, что-то передать родным». Когда я вошел, в палатке уже было тихо. Вот, стало быть, и все. Стрельба, стоны, тишина. В Шаломхеде, когда подразделение майора Туле, изготовившись к бою, угрожающе приближалось к школе, я начал кричать: «Ребята, здесь всюду не только стоны венгерские… земля, дома, деревья – все…» Я тоже знаю, мне не нужно доказывать, что драма, если в ней нет настоящих героев, превращается в фарс. В конечном счете вместо серьезного выступления у нас получилась драка из-за ночлежки. Не себя защищали от немцев, а соломенные матрацы.
– Но а как же…
– Ты видишь только то, что было. А я вижу и то, что могло бы произойти.
– Но не произошло! Неужели ты до сих пор не хочешь этого понять?
Он улыбнулся, впервые в тот день.
– Recrudescunt diutina inclytae gentis Hungariae vulnera[2]2
«Обнажились старые раны благородной венгерской нации» (лат.). – начальные слова манифеста Ракоци.
[Закрыть],– тихо произнес он. – Старина, мы никогда не умели побеждать. Только дрались и умирали. В освободительной борьбе куруцев Брезанское воззвание Ракоци – это еще не вся правда. Поражение под Майтенем тоже нельзя сбрасывать со счетов. В революции сорок восьмого года был не только гимн «Вставай, мадьяр», но и капитуляция под Вилагошем. На это нас и сейчас бы хватило. И если бы удалось, вместо позора осталась бы жить еще одна красивая легенда.
Спорить с ним было бессмысленно. Мне вспомнился самый первый день учебы в гимназии. После торжественной речи классного руководителя господина Мандоки каждый из нас должен был встать и рассказать, кто он такой, чем занимался до сих пор. Много было смеху тогда, ведь никто не готовился, а так, сразу нелегко собраться с мыслями. Наговорили мы всякой чепухи. Когда очередь дошла до Дешё, классный руководитель сказал ему: «Рассказывай все по порядку». Дешё – худой, в темно-синем костюме – на мгновение оторопел; волосы его лоснились, глаза были широко открыты. Он сразу понял, чего от него хотят. Улыбнулся леденящей улыбкой мертвеца и без единой запинки выпалил: «Я Кальман Дешё, сюда мы переехали из Варшаня, там мой отец преподавал в хуторской школе. Но его уже нет в живых. Он умер. Покончил с собой. Все, что мне известно об этом, я узнал от матери. Пока могла говорить, она много рассказывала мне. Мой отец был добрый человек, даже слишком добрый. Он всегда всем хотел добра и неизменно славословил добродетель. Поначалу это нра вилось, образованный человек как бы очищал всех от повседневной грязи, его даже подбадривали: говори, мол, нам все, не щади. Но однажды мой отец, играя в кегли в корчме Резинга, возьми и скажи, что все люди по природе своей добры, в этом отношении, например, помещик Ашкалич ничем не отличается от свинопаса Чосра Киша. Может, людям и в самом деле было интересно, а может, просто хотели подтрунить, заставить его продолжать. Так или иначе, но это привело к несчастью. Продолжая, отец сказал, что когда-нибудь добродетель настолько овладеет всеми помыслами людей, что они поистине станут братьями. У кого нет ничего, того не будет обуревать желание силой отобрать что-то у другого; а у кого все есть, тот не станет удерживать свое силой. Возможно, отец слишком увлекся, стал фантазировать, не знаю. Но господин Ашкалич на следующий день пригласил его к себе. У него на обтянутом шелком стуле уже сидел Чосра Киш, грязный и вонючий, в таком виде, в каком он пасет хозяйских свиней. Помещик спросил: „Ну, брат мой, Чосра Киш, неужто мы с тобой и впрямь ровня?“ У свинопаса от испуга пересохло в горле. Только руками всплеснул – дескать, где там, конечно, нет! Но мой отец опять за свое, мол, всех людей природа одинаково наделила добротой. Помещик обозлился: „Вы, господин учитель, дурачок“. После того эта кличка так и осталась за моим отцом: учитель-дурачок. Меня тоже стали звать сыном учителя-дурачка. Как-то я пришел домой весь в слезах, но отец сказал, чтобы я не плакал, убедил меня в том, что мне плакать не надо. Я дал ему слово и с тех пор ни одной слезы не проронил. Но когда отца и на хуторе стали называть учителем-дурачком, когда он услышал, что и свинопас Чосра Киш, злорадствуя, обзывает его за спиной так же, он почему-то не смог больше терпеть. Взял у кого-то старый револьвер, ушел на пасеку и застрелился. Это ему удалось только с третьего раза, два патрона дали осечку, потом их нашли вместе с пулями возле деревянной кровати. Я обнаружил там отца, когда пошел звать его обедать. На лбу у него зияла красная дыра с обожженными краями. Через два месяца мы переехали жить сюда, на улицу Гестенеш. Мама получает пенсию – шестьдесят пенге и шьет. Она стала шить еще на хуторе, но с заказчиками всегда веду переговоры я, она не может говорить. Врач сказал, что у нее был инсульт, который дал осложнение, и она лишилась дара речи. До сих пор я имел отличные отметки по всем предметам, хочу быть отличником и впредь. Разрешите сесть, господин классный руководитель?» Леденящая улыбка, казалось, застыла на его лице, он продолжал улыбаться и тогда, когда сел. Мандоки не принадлежал к числу дурных людей, и вряд ли он сам додумался заставить Дешё рассказать все. Но ему стало стыдно больше, чем любому из нас, и он тотчас вышел из класса. Дешё можно было заставить рассказать все что угодно, он умеет быть до конца искренним, не пощадит и самого себя. Но разубедить его в том, что крепко засело ему в голову, невозможно.
Часы показывали одиннадцать. Может быть, дома меня уже ждет повестка Не сегодня, так завтра она придет обязательно. Ровно в двенадцать совещание в кабинете генерального директора.
– Послушай, Кальман, – сказал я тихо, чтобы не услышал Галлаи, – лично тебя я знаю, ты мой друг, но пойми…
Он встал.
– Речь может идти только обо всех.
– Ну куда же ты, подожди! Я только…
– Я ничего не требовал от тебя. Просто спросил, сможешь ли ты помочь. Но только нам всем, конечно. Это дело… тянется третью неделю. Вначале казалось, все обойдется благополучно, сочтут за недоразумение. В неразберихе, начавшейся после 15 октября, случались происшествия и похлеще. Но потом немцы раздули кадило. Завтра в девять часов утра мы должны предстать перед военным трибуналом. Сначала я думал было подчиниться и рассказать все, вот как тебе. Но… зачем? Оправдываться в том, что осмелился быть венгром, перед теми, кто по указке немцев будет судить меня? Нет. Довольно. И забочусь я не только о себе, нас четверо… Предписано было доставить нас в столицу безоружными, под конвоем. Но командир полка, который любит меня, поскольку я единственный в полку офицер, удостоенный золотой медали за храбрость, вчера вечером отправил нас в путь одних. Сказал: «Кутните в последний раз». Понимаешь? Яснее ясного: «…в последний раз». Ну что ж… пускать себе пулю в лоб я не собираюсь. Служить больше не буду, да и кому? И ради чего? Лучше уйти. Если переживу войну, может, и мне найдется где-нибудь место учителя, ну, допустим, хотя бы в начальной школе. Мне безразлично. Если, конечно… в этой стране будут еще преподавать венгерскую историю.
Я не слушал его и краем глаза следил за Галлаи. Хотелось бы взглянуть и на двух других, но Дешё наверняка истолкует неправильно, если я выйду сейчас из кабинета. Глупо было и дальше играть в прятки… Шайка? Ну и пусть, тем лучше. От обстановки в такой же мере зависят применяемые средства, как от погоды – одежда, которую мы носим. Честным путем в такое время далеко не уйдешь. Именно к таким, как этот Галлаи, толстокожим, отпетым забулдыгам мне и нужно примкнуть, среди них куда безопаснее, чем среди рыцарей короля Артура.
Галлаи расплылся в самодовольной улыбке.
– Я последовал совету господина командира полка, – прогундосил он, потирая покрывшийся испариной нос. – А господин старший лейтенант отказался, но что поделаешь, такой уж он. За два года я ни разу не видел, чтобы он блевал – превосходный офицер, самый что ни на есть, но какой-то странный человек, не снизойдет, к примеру, даже к проституткам. Я, прошу прощения, бывал в «Мезон Фрид», знаешь, что на улице Мадьяр, даже две бутылки коньяку прихватил, обожаю, когда женщина опьянеет и первая впивается губами. Но мне не повезло, те очаровательные шлюхи пытались укрыть какую-то молоденькую еврейку – она была прямо-таки превосходна. Я только мельком успел взглянуть на нее, да и то слюнки потекли. Но тут нагрянули нилашисты и разогнали все дамское общество. Мне тоже досталось пряжкой по голове, вот шишка на макушке, черт их побери. Меня-то за что, разве я шлюха или еврейка?
– Почему ты остановил свой выбор именно на мне? – сам не зная зачем, спросил я у Дешё, давно уже мучительно думая о том, где бы нам всем понадежнее укрыться.
– Ты преуспел больше, чем любой из нас, – ответил Дешё. – А еще я вспомнил пятнадцатое марта, помнишь: ты так смело и честно говорил в казино обо всем, что творилось вокруг, как никто другой.
Он не знал, да и не мог знать, что нанес мне двойной удар – сразу по двум уязвимым местам. Летом прошлого года меня назначили управляющим предприятия, мне тогда и двадцати четырех не исполнилось. Весь Галд был взбудоражен, в казино устроили ужин в мою честь. «Блестящая карьера», «Самый молодой и столь высокопоставленный чиновник» и так далее, все в том же духе. Пили и ели там на мои шестьсот пенге. В какой-то момент меня так и подмывало, к тому же я еще изрядно выпил, выложить все начистоту: мол, эх вы, глупцы, это же просто случай помог мне – старого управляющего Конкоя только что выгнали согласно закону о евреях, когда я, поправившись после ранения, в военной форме, при сабле, с крестом на груди, явился к генеральному директору с просьбой предоставить мне работу. Но я не Дешё, у меня духу не хватит сказать нечто подобное. Конъюнктурная карьера, вот и все, и, пожалуй, теперь мне так и не придется узнать, смог ли бы я достичь столь высокого положения благодаря своим личным качествам. Пятнадцатое марта тоже не лучше. День был тревожный и невыносимо тягостный, регента чуть ли не в принудительном порядке обязали явиться к Гитлеру. Нервы у всех были до предела напряжены. Вечером в казино бургомистр хриплым голосом, робко, глотая слезы, намекнул на сорок восьмой год. Тогда я не выпил ни капли, но мною овладел какой-то необузданный гнев, я вскочил и, перебивая бургомистра, закричал: «Позор! В этой вассальной стране даже память о свободе мы осмеливаемся воскрешать лишь вполголоса, да и то в четырех стенах, хотя бы уж высказать им все, что ли, черт возьми!» В зале воцарилась гробовая тишина, затем бургомистр молча обнял меня, чокнулся со мной и расчувствовался. Сразу все потянулись к моему бокалу, официанты торопливо закрыли двери. Дешё, бледный, стоял в конце стола; он щелкнул каблуками и громко крикнул: «Да здравствует Венгрия!» Ночью, возвращаясь домой, я нервно шептал начальнику полиции Коштяку, что я, дескать, выпил лишнее, а в таком состоянии человек не отвечает за свои слова. Я говорил неправду, ибо выпил всего одну рюмку и голова моя была на редкость ясной. Коштяк промолчал и потом ни разу не упоминал о случившемся, но я, возвращаясь после работы домой, несколько дней подряд задавал матери один и тот же тревожный вопрос: «Мне никакой повестки не приносили?» Виноват ли я, что таким уродился: то, что должно было заставить кричать от стыда, я молча, с отвращением к самому себе перевариваю в душе, не осмеливаясь сказать об этом громко – духу не хватает. Тут я вспомнил вдруг о винокурне Барталов. Как-то раз давным-давно, еще до путча Салаши, Геза предлагал укрыться там, если русские форсируют Дунай и нашему городу будет угрожать опасность. За минувшие с тех пор восемь месяцев русские перешли Дунай, заняли старые дома Турецкого рынка и оттуда начали обстреливать из минометов шоссе и железную дорогу, но мы, во всяком случае многие из нас, ходим в столицу на работу. До каких пор так будет продолжаться? Смешным становится упрямство, с которым мы стараемся продолжать то, что неизбежно придется прекратить.
– Вполне подойдет, – с облегчением вырвалось у меня.
Дешё оживился.
– Для всех?
– Да. Винокурня Барталов. Сколько бы мы ни ломали голову сейчас в поисках правильного решения, в нынешнем положении любой вариант будет гаданием на кофейной гуще. Кто знает, какой район подвергнется самому сильному обстрелу? К тому же винокурня очень удачно расположена – позади дворца, стало быть, защищена от смертоносных гостинцев со стороны Турецкого рынка. Постой, я же могу позвонить Гезе.
Прошло немало времени, прежде чем мы нашли его в клинике. Когда наконец в трубке послышался его голос, Дешё подал знак – не говори, мол, пока об остальных.
– Сервус, Геза! Как там твоя винокурня, еще цела?
– Зачем она тебе, что случилось?
– Мне бы хотелось перебраться туда. Кое с кем…
– Скажи наконец, что случилось?
– Не задавай глупых вопросов. В том-то и дело, что ничего. Все остается по-старому. И господин учитель здесь.
– Какой учитель?
– А кто из нас стал учителем?
– Правда? Скажи ему…
– Ты сам скажешь
– Понимаю. – Последовала длительная пауза, потом слышно было, как Геза чиркнул спичкой, я даже как бы ощутил запах табачного дыма. – Слушай, Эрне… тогда я тоже с вами.
– Ты хорошо обдумал?
– Смешно. Чего ж тут раздумывать, это сразу надо решать. Я еще несколько дней назад… впрочем, расскажу при встрече. Qui tacet, consentit [3]3
Молчание – знак согласия (лат.).
[Закрыть], все равно ничто не вечно под луной. И… сегодня же?
– Сегодня.
– Ладно. Тогда я с дневным поездом выеду домой.
Дешё обрадовался, узнав, что Геза тоже с нами.
– Да, – сказал он немного погодя, – другого выхода все-таки нет. Я не боюсь.
Да и какой смысл… В моем положении даже побег требует не меньше храбрости, чем явка по вызову военного трибунала.
– Встретимся около двух, у поезда. Или вам лучше здесь остаться?
– Зачем же, до завтрашнего утра наше командировочное предписание действительно. – И вдруг он заволновался – Матери надо бы что-нибудь купить. А вот что именно – ума не приложу. Скажу ей по секрету, что останусь тут неподалеку, возле Галда: она единственный человек, кто не передаст дальше, даже если бы и захотела. Это тоже, старина, ужасно. Всегда говорю только я. Мать лишь бормочет бессвязно, шамкает, по ее синюшным, непослушным губам течет слюна. Глядя в ее горящие глаза, я кляну эту безысходность, еще больше терзая и мозг свой, и душу. Она все еще шьет. Сидит над шитьем, не разгибая спины, чтобы с меня ничего не тянуть. Я не раз порывался упасть перед ней на колени, обхватить парализованные ноги и стиснуть их… удерживая в ней покалеченную, но дорогую мне угасающую жизнь. Но так ни разу и не сделал этого. Такой уж непутевый и черствый я до крайности… Итак, в два часа?
Галлаи вяло потряс на прощание мою руку, дыхнул мне в лицо спиртным перегаром, и вся его раскрасневшаяся физиономия расплылась в блаженной улыбке.
II
По одному мы пробираемся в Череснеш, минуя станцию, и там поджидаем друг друга. Вещей с собой не взяли никаких, чтобы не вызвать подозрений. Отец Гезы привезет их на подводе, когда стемнеет.
Дома все уладилось значительно легче, чем я ожидал. Как раз пришла повестка, причем не на переосвидетельствование, а сразу на службу в недавно сформированную бронетанковую часть. Расторопный же ты, однако, брат, старший лейтенант с призывного пункта, черт бы тебя побрал, но меня можешь призывать, сколько влезет. Я попросил мать приготовить мою военную форму и сапоги.
– Боже праведный! Неужто и тебя взяли?
Я постарался успокоить домашних:
– Никуда я не уйду, во всяком случае не дальше винокурни Бартала, но не вздумайте наведываться ко мне, я сам время от времени буду приходить.
Отец уставился на меня:
– А не накличешь ли этим беды?
Ему следовало бы стать часовщиком, а не столяром. Я всегда жалел его; когда он тащил бревно или доску, его щуплое тело, казалось, вот-вот подломится под тяжестью.
– Какая там беда? А если возьмут в армию? Не все ли равно.
Дорогой мой старикашка… Со своими полными безотчетного страха голубыми глазами и обвислыми усами он живет, что называется, тише воды, ниже травы под крылышком моей энергичной, подвижной матери, и не знаю, как он осмелился произвести меня на свет. Правда, на такое дело он отважился один-единственный раз, ибо у меня нет ни братьев, ни сестер. Он ужасно боится войны, в армии не служил, накануне первой мировой войны был признан негодным и просеивался даже сквозь решето мобилизаций в военное время. Из года в год его теребили – мол, определись куда-нибудь, например, в городское стрелковое общество, пульни хоть раз из винтовки, нельзя же так прожить всю жизнь. А он все отпирался, ни за что на свете не соглашаясь, пока наконец не стал членом попечительского общества, платил взносы, лишь бы оставили в покое, но вблизи тира его так никогда и не видели. Не думаю, чтобы за всю свою жизнь он хоть раз кого-нибудь ударил. Как правило, вместо него с подмастерьями расправлялась моя мать. Голос у него тоже немощный, как и тело, прямо-таки комариный: «Будет сделано, сударь, как вы изволите желать». Но тут уж он был хозяином своего слова. Если городской барин или дяпайский цыган закажет у него что-нибудь и он скажет свое неизменное «Будет сделано, сударь, как вы изволите желать», то разобьется в лепешку, ночи напролет будет работать, а непременно сделает в срок, и всегда именно то, что ему заказали. Не помню случая, чтобы кто-нибудь остался недоволен его работой. А сам он? Возразил ли хоть раз против чего-нибудь? Кто знает? Никто никогда этого не слышал. Желания? Были ли они у него? Дождь хлещет мне в лицо, стоит обернуться, и я еще увижу мастерскую на углу Церковной улицы. Наверняка он стоит за дверью с матовым стеклом. Хотя вряд ли осмелится. Однажды ему заказали гроб, какая-то старушка подорвалась на мине возле Турецкого рынка. С тех пор он и не осмеливается смотреть ночью в эту сторону. Что за черт, с чего я так расчувствовался, ведь не навек расстаемся, стоит захотеть, и снова увижусь с ним. Он очень набивался проводить меня. На самом же деле, как мне кажется, ему хотелось уйти со мной. Боится за меня. И за себя тоже, за свою тихую, размеренную, жалкую жизнь. Не раз мне приходилось видеть, как ночью, дрожа всем телом, в одной исподней рубашке он прислушивался к смертоносному вою снарядов, летящих со стороны плацдарма русских. Однажды я даже заговорил с ним – мол, шел бы лучше спать, все равно того снаряда, который угодит сюда, не услышишь и не увидишь. Но как грубо у меня это получилось! Надо бы вернуться, постараться загладить вину. Я вовсе не думал тогда его обидеть, просто очень хотелось спать.
Мать обнимает меня, да так крепко, что хрустнули косточки.
– Значит, остаешься здесь, в Галде, сынок?
И сразу же кинулась рыться в двух сундуках, все такая же добрая, но практичная и деятельная, как всегда.
Немцы устанавливали противотанковые пушки позади липовой рощи Айя. Непонятно, почему русские до сих пор не навели мост, снуют на катерах от берега к берегу. Если б они переправили на эту сторону танки, то давно бы уже прорвали наспех оборудованный оборонительный рубеж, проходящий через Старый Город. В магазинах на площади Кароя Роберта зажгли свет и тут же задернули окна черными бумажными шторами, обеспечив полное затемнение. Пустые глазницы окон – если почему-либо, кто знает, что может случиться, я не вернусь, это будет моим последним воспоминанием о площади. Впрочем, хватит валять дурака. Либо я буду думать о своей шкуре и ни о чем другом, либо обо всем, только не о самом себе. Город все равно не может спасти меня, как и я не могу спасти его для лучших времен. Встретимся вновь, когда пронесется ураган, если останемся живы. Грамоту о вольности Галда, дарованной Кароем Робертом, нам полагалось знать наизусть, а кто сбивался, мог садиться на место, получив кол. «Мы, милостью божьей король Венгрии…» Дешс сомневается, будут ли преподавать историю Венгрии. А почему бы нет? Мы пережили нашествие татаро-монголов, турок, австрийского шурина, 6oi ты мой, чего только нам не пришлось пережить! Пожалуй, именно потому нам и удалось просуществовать более тысячи лет, что мы постоянно мобилизовывали силы, чтобы восстановить то, что разрушили наши враги, и исправлять то, что сделали по собственной глупости. Гравий Айя громко похрустывает у меня под ногами. Кажется, будто земля скрежещет зубами. Да, все же паршивое это дело – покидать город тайком, занимая пост управляющего фирмой, имея звание лейтенанта и сознавая, что то и другое уже не имеет никакого значения. Ни пост управляющего, ни звание лейтенанта. Черт возьми, и все это произошло как-то сразу, одним махом. Красавица Гелетаине, жена участкового врача, с неподражаемой грацией зашла в ателье мод Шарукана. Право, какая деталь туалета могла ей так срочно понадобиться в двух километрах от русских? А эти немцы похожи на поденщиков, размеренно делающих свое дело. Работают не торопясь, точно, аккуратно – ни растерянности, ни суеты, ни раздраженных выкриков. Я видел их у Коломыи, даже ураганный обстрел не мог сбить их с привычного ритма. Квалифицированные мастера войны, с опытом и стажем. Я верю рассказам о газовых камерах, почему бы и не верить? Они способны и на кое-что похуже. Здесь просто замыкается круг. А началось все раньше – с тех мастерски отработанных, натренированных и уверенных движений. Это ужасно. Пушка в их руках – такой же инструмент, как лопата. Им все равно: посадить хлеб в печь или отвернуть кран на баллоне с газом «циклон». У меня одна обойма в пистолете и ничего больше. У Дешё, наверно, найдутся патроны, в конце концов он прибыл с фронта. Возле здания городской управы стоит нилашистский охранник. Я с ним знаком, это подмастерье у сапожника Каламо, некий господин Фери, а фамилию не помню. Когда-то он сшил мне хорошие желтые полуботинки на белой подкладке. Он и военным-то не был, что же его потянуло сюда?
Ему изменила жена? Или, может быть, еще раньше, склонившись над заготовкой, он подумывал о том, что автомат ему подходит больше, чем сапожный нож? После войны, как всегда, специалисты и дилетанты наверняка сфабрикуют уйму всяких причин, которые в это сумбурное время одних гнали в одну сторону, а других – в другую. Вот подойти бы и спросить: «Господин Фери, а как бы вы объяснили свой шаг?» Впрочем, это неинтересно. Если человек даже по собственной воле решается на ложный шаг, то стоит ему сделать его, как потом он сразу же начинает выполнять то, что ему приказывают. Фери вскидывает руку, словно отгоняет назойливого шмеля:
– Китарташ[4]4
Приветствие нилашистов.
[Закрыть], господин лейтенант, очень рад вас видеть.
Что ж, бодрись, пока не дадут коленкой под зад. В день, когда присягали Салаши, мы вошли в лифт вместе с моим генеральным директором. «Послушай, – гневно комментировал он захват власти нилашистами, – какого ты мнения об этих людях с грязными ногтями, с неизвестным или темным прошлым?» Этот полоумный джентри, подумал я, говоря о нилашистах, больше всего озабочен тем, что у них грязные ногти. А теперь и мне именно это пришло на ум при виде господина Фери – сапожного подмастерья.