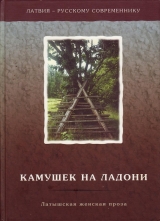
Текст книги "Камушек на ладони. Латышская женская проза"
Автор книги: Илзе Индране
Соавторы: Инга Абеле,Гундега Репше,Айя Лаце,Регина Эзера,Дагния Зигмонте,Андра Нейбурга,Лайма Муктупавела,Визма Белшевица,Нора Икстена
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Не хватало времени на выдумки, хорошо было все, что происходило, тучи предвещали перемены и конец жаркого однообразия.
Дуло все сильнее, песок носился в воздухе, пришлось искать защитные очки.
Все было здесь, под рукой. Главное – не прерывать работу, иначе она может утратить смысл.
В городской думе начался очередной бурный трудовой день. Казалось, речи и споры не утихнут еще долго. Да, разумеется, ничего ведь не случается просто так, и ничего не случается напрасно – на самом-то деле этим жил весь город, это был источник пропитания, и, если подумать серьезно, с чувством ответственности, города здесь вообще могло не существовать, и тогда должно было произойти нечто иное, чтобы посреди таких лесов и болот возвели город. Это «иное» не мог представить себе никто.
– Нечего делать, – городской голова поставил точку в споре, – если мы не хотим из-за поставок песка пожертвовать древнейшей, исторически самой важной частью города, если не хотим, чтобы карьер, расползаясь, выгрыз фундаменты домов и постепенно съел концентрические круги ближайших к нему улиц, надо продлить подземный туннель.
Поднялся недовольный шум.
– Да, я знаю, – продолжал он, – туннель будет стоить огромных денег, но мы должны осознать, что только обеспечение непрерывности трудового процесса даст городу возможность существовать. Пока продолжается наплыв туристов, мы будем жить. Если здесь не на что будет смотреть… – и он выразительно вздохнул. – Кроме того, придется думать о расширении туннеля, а именно, о двойном, двухполосном туннеле, – коммуникации, поставки продовольствия, инвентарь… Ну, не стоит перечислять, все вы знаете, что существующий нас не устраивает… – Он развел руками.
– Переходим к следующему вопросу повестки дня – кадровые резервы.
– Только не руками, руками не надо, – работница музея тщетно старалась урезонить посетителей. Похоже, придется говорить о возрастных ограничениях – нижний рубеж в четырнадцать лет никуда не годится, – даже и пятнадцатилетние еще полные невежды, у них глаза словно к кончикам пальцев приделаны.
– Да, все шляпы, которые вы здесь видите, служили хорошо нам известной цели. Все, все. Других здесь нет. Вам кажется, что много? Но представьте себе… Посмотрите в окно на гору! Как долго можно пользоваться одной шляпой? Да, вы правы, это зависит от прочности ткани, и шляпы здесь действительно разные, но учтем, что все они так или иначе из ткани!
– Да, музей вскоре придется расширить, вы правы… Вопрос этот будет решать городская дума. Шляпы ведь все время поступают, очень часто поступают…
– Когда будет закончено? Да что вы, дети! Разумеется, никогда! По крайней мере, в нашем понимании. В понимании смертных людей. Это – вечный труд, разве может закончиться, скажем, идея? А, дети? Символ, это, дети, символ, – вас ведь учили в школе, что это значит? Разве у символа может быть конец? Ни конца, ни края нет у символа, дети. Это тот случай, когда мы встречаемся с дыханием вечности, с гимном вечности и нескончаемому победному шествию человека ей навстречу…
Первые грубые капли дождя приятно охлаждали спину. Хотелось распрямиться, чтобы наслаждаться бегом ручейков по лицу, но тогда пришлось бы смотреть на то, чего видеть не хотелось, – однажды на какой-то миг утратив осмотрительность, он заметил, что «они» не исчезают и в дождливое время, – над толпой поднимались грибы зонтов, из-за чего она казалась еще больше и пестрее – словно раздулась и стала монолитной.
Лило все сильнее.
Надо было удирать. Человек побежал под тростниковый навес – единственное, что сохранилось из сделанного им.
Лило ливмя. С горы вниз зигзагами сбегали узкие ручейки, они вгрызались в глубину, сливались, чтобы разлучиться и ниже слиться опять. Равнодушным взглядом он смотрел, как гибнет его работа.
Не будь у него столь большого опыта, он встревожился бы, ибо каждый такой ливень уничтожал по крайней мере недельную работу. А порой и куда больше.
Но опыт научил не карабкаться вверх, не бегать, не хватать, не грести, он заставил запомнить, что нет смысла кричать, орать, что нечего рвать на себе волосы: время – это единая безграничная сущность. И для него оно не прервется никогда.
Опыт сделал разум спокойным и глаза пустыми. Надо было ждать конца ливня.
И опять работа. Человек двигался достаточно проворно, чтобы его не могли упрекнуть в лени – непрестанное движение не входило ни в письменный, ни в облеченный в устные слова договор. И договор так или иначе не имел никакого смысла – обе стороны понимали друг друга без слов. Его заботой был только труд, все необходимое – жилище, пищу, воду, одежду, орудия труда, а в последние десятилетия часто и песок – поставляла вторая сторона. Его заботой был только труд, и раз уж условия такие выгодные, прекращать работу нельзя ни на минуту.
Это не было проворным снованием муравья, как могло показаться наблюдавшим с края карьера, – человек двигался, как большое, медлительное, неуклюжее животное – вперед и назад, вперед и назад… «Вперед» одновременно означало «вверх», «назад» выходило «вниз» – со шляпой за новой порцией песка. Вверх – вниз, вверх – вниз…
Гора постепенно росла. Безусловно – росла. Иначе и быть не могло, если учесть не прекращавшееся движение вверх – вниз. Иллюзия одновременно была действительностью, вечность процесса гарантировала ночь – тьма во все времена служила прикрытием тому, что не предназначалось для чужих глаз. Непричастным к делам тьмы.
И этого не знал ни один человек в той стране – сколько большое животное наносило за день, столько ночью прилежные руки гномов сгребали вниз. Так длилось уже давно, однако об этом не говорили, этого не упоминали, не видели… И как можно говорить о том, чего никто не знал? Никто не был свидетелем работы гномов, и гномы только ночью были гномами. Кем были они днем, не знали даже они сами, потому что днем их вовсе не было. Поэтому не было ни тех, кто спросил бы, ни тех, кто мог дать ответ.
Думали о хорошей видимости и оптимальной эстетической норме. Об этом заботились городские «зеленые», которых в свое время не на шутку обеспокоила возможность превращения всей земли в бесплодную пустыню. Хорошо, что это предотвратили, и вдоль края карьера пышно, стеной разрослись вечнозеленые туи, их своевременно подрезали, что тоже служило доброй славе государства – нельзя же забывать, что сюда приезжают гости даже из дальних заморских стран. Пейзаж должен быть в порядке.
Он трудился, не разгибая спины. Вверх – вниз. Вверх – вниз. За долгие годы скопились кое-какие маленькие хитрости, наладилась малая механизация, если можно так выразиться. Так, разумеется, нельзя сказать, ибо это не имело ни малейшего отношения ни к какому железу, что подразумевает слово «механизация», – это была разумно, виртуозно отработанная техника труда.
Самым большим его достижением было открытие, что на вершине горы не следует поворачиваться, тогда не придется возвращаться носом вниз, рискуя упасть; к тому же на поворот впустую тратилась энергия! – и он приспособился путь вниз проделывать пятясь, да так, чтобы, спускаясь от вершины, постепенно лучеобразно обходить гору вокруг. Таким образом она вставала красивым правильным конусом, а ровно примятый песок вокруг нее создавал впечатление вечной ухоженности. Культура труда, одним словом.
Солнце достигло своей полуденной точки.
Над раскаленной песчаной сковородой воздух от дыхания скручивался в трубочки мерцающего пламени, которые трепетали перед глазами и жгли сухое горло. Рот хватал танцующий воздух, тот убегал, уклонялся, а человек вовсе не был пожирателем огня.
Но рот хватал все быстрее, все более алчно, воздух плясал в ускоряющемся бешеном и беспорядочном ритме. Воздух заигрывал с ним.
Человек склонил голову в ту сторону, где должна рябить стая пестрых птиц. Их не было. Наверно, наступил час вымерших от жары птиц.
Человек повернул голову еще дальше. Скрипел песок в основании черепа.
Человек обратил лицо вверх и, уперев руки в колени, стоял так, сколько позволяла нарезка шеи с застрявшими в ней песчинками.
И на самом верху тоже никого не было.
Шея быстрым движением свинтилась назад. Заскрипел песок. Голова, словно пустая, качнулась в одну, в другую сторону, потом, нацелив нос на мыски прорезиненных тапок, замерла в привычном положении. Опираясь на колени, он начал последнее утреннее восхождение – обед следовало заслужить, нельзя так, после минутного отдыха, тут же отправляться обедать. Последний спуск, и человек, так же не поворачиваясь, исчез. Как крот в норе.
Жилище было совсем простым – чтобы не испортить впечатления непрерывного процесса работы, оно было скрыто от чужих глаз, выстроено под землей, но достаточно удобно для пары часов отдыха днем и для ночной тьмы.
Человек сел на чурбан – чурбан был вытесан по воображаемому первобытному образцу – и открыл совсем не первобытную банку консервов. Пальцы слушались плохо. Он задумчиво посмотрел на свои руки, раза два согнул и разогнул пальцы – выпрямить их совсем больше не удавалось. Нелегко было есть, одеваться было нелегко, но в остальном ничего – его уже давно не слишком волновало все, что не касалось работы. Однако и переодевание было достаточным поводом для того, чтобы два раза в день испортить настроение – но ведь надлежало быть чистым и опрятным, иначе превратишь свое государство в посмешище. По туннелю прибыла очередная посылка с одеждой и едой, с новыми шляпами, все это он выгрузит позже; когда поест, можно будет на мгновение вытянуться, полежать…
Лежать было хорошо, ничуть не хуже, чем работать.
Устроившись на лежанке, он лениво водил взглядом по забытым знакам на стенах и низком потолке жилища, по знакам, в которых однажды, в какие-то небывалые времена, отразились прожитые дни, месяцы, годы… Потом течение времени обмелело – набежал песок.
Другие знаки означали людей – двух высокого роста, трех – значительно ниже их. Люди стояли, взявшись за руки, над ними сияло солнце. Солнце давно уже не было теплым и не грело – оно превратилось в плоский щетинистый кружок.
Глаза смотрели на знаки, как в пустоту, – это была такая же привычная картина, как песок под ногами, потому и не вызывала интереса, и, благодаря своей неизменности, не рождала беспокойства.
Хотя вообще-то разглядывать знаки было то же самое, что смотреть вниз, только в положении навзничь, лишь вместо неба здесь на спину давили доски лежанки. Снаружи никогда не приходило в голову откинуться на спину. И вряд ли можно было.
Мыслей не оставалось. Только какие-то ощущения.
Скоро надо вставать и идти, это сказали его внутренние часы.
Он знал – песок это то, что надежней всего. Чего только нет на свете, что со временем так или иначе превращается в песок – этого не избежать даже самому твердому, самому вечному камню.
– Ну, назовите, назовите мне что-нибудь, что со временем не превратится в песок, – однажды, желая проверить, спросил он своих друзей. И чем больше он спрашивал, тем меньше оставалось шансов найти это «что-нибудь».
Он знал, что огромный конус песочных часов, который он намеревался насыпать своими руками, время когда-нибудь попробует перевернуть вверх тормашками, как это происходит со всеми песочными часами. Но и тогда дело его не пропадет – нанесенный им песок не исчезнет, и, как знать, может как раз в тот момент родится новый строитель городища, терпеливый и вечный, который – песчинку за песчинкой, шляпу за шляпой – опять насыплет новый конус песочных часов.
Так он думал однажды.
Еще хуже, чем быть недовольным другими, быть недовольным самим собой, чувством своей кратковременности, конечности. Трудно свыкнуться с мыслью, что то, что есть, это и есть всё, и сверх того ничего не останется. Разумеется, если такая мысль вообще придет в голову. В его мозг она прокралась и разъедала его, прогрызая, как крот, до рыхлой хрупкости. Чтобы разум не превратился в конце концов в нечто такое, что не идет ни в какое сравнение с элементарной прочностью песка, надо было кое-что предпринять.
– Погоди, – сказал он однажды второму из крупных человекознаков, – потерпи, и ты увидишь… – Что же я увижу? – плача, переспросил человекознак. – Что? Что же? – Даже он, знак, слишком привык ко всяким войнам, к чуме, грабежам, даже он смирился с мировым злом, даже он не мог возвысить свой взгляд надо всем этим.
О замке он никогда не думал. Во-первых, потому что – поди-ка знай, как его по-настоящему строят, особо ломать голову не хотелось, брать других в помощь не хотелось тоже, – во-вторых, жизнь замков конечна, как это видно по пустым макушкам старых городищ. Поэтому думать о замке и в голову не приходило. Городище было ценностью само по себе – нечто подобное памятнику, мера цены его жизни.
Мальчиком он слыхал о таких насыпанных городищах, но жизнь тех людей окончилась Бог знает в какие времена, а светлые невежды новейших времен все как один увековечили память о себе в менее устойчивых для времени формах. Человечество становилось все более ленивым, все более угасало, что поделаешь.
Рассориться со всем миром – это, право же, не трудно. Трудно выдержать. Выдержки ему хватало.
Одно из ощущений уже довольно давно старалось внушить, что он опять начал изнашиваться, – кое-какие признаки жестко предупреждали об этом. Он пробовал сопротивляться неприятному ощущению, но довольно равнодушно, чтобы это выглядело не больше, чем усилие подольше сохранить старое, привычное орудие труда. Пока им как-то еще можно пользоваться.
И он по вечерам долго и тщательно промывал воспаленные глаза, а собираясь ко сну, поднимал на лежанку чурбан для сиденья, чтобы оттекла от ног накопившаяся в них за день тяжесть. Чурбан подпирал пятки, и к утру немели пальцы, а стертая до крови слизистая промытых глаз в ожидании сна бросала розоватые отблески на выцарапанные силуэты пятерых людей. Когда глаза моргали, изображение отвечало теплой пульсацией, но этого он не мог видеть.
Еще одно – возможно, самое важное – ощущение он уже давно принял как спокойное знание – то, что время от времени он мгновенно становился опять молодым и сильным. Перемена происходила так просто, так быстро и незаметно… Как – ну, этого он и сам не знал. Прямая спина, упругие, сильные члены, светлые глаза, и – гораздо легче служить цели – этого было более чем достаточно, чтобы он понял – великий прыжок только что свершился. Радость вливалась в его молодое, сильное сердце, и он славил нечто, что считал достойным хвалы, и говорил слова благодарности кому-то, кто этого заслужил.
Еще неизведанная задача и плоды, которые она приносила государству, от этого не страдали.
Порой случались странные, по его разумению, промашки, которые промашками можно было счесть только из-за их явной несуразности, когда напор его молодого сердца не мог до конца приноровиться к вековечной памяти, но эти ошибки вызывали растерянность лишь на миг, – чтобы хронисты получили очередной семейный портрет, который можно было бы опубликовать в туристических путеводителях, а также в местных газетах, рядом с ним поставили женщину – он не помнил, чтоб когда-нибудь видел ее, – и кучку карапузов, у которой только и было сходства с предыдущей кучкой карапузов, да и, как показало время, с более поздними тоже, – только и было сходства, что цвет волос и носы в веснушках. Но это ничего – и он на одну руку посадил младшего из карапузов, а другой обнимал плечи чужой женщины. Какое-то из подавленных чувств в такие моменты бодро подтверждало: вот только что действительно началось все сначала – правда, правда! – орудие труда, то есть он сам, заменено, о чем свидетельствовала также возможность выпрямиться на волнующем семейном портрете.
Вечер настал, и ночь прошла в долгом и мучительном всматривании в щетинистый, шершавый кружок на стене, пока, наконец, он не стер его своим взглядом до радужного мерцания, и совсем уже к утру уснул. Оттого, что он так пристально всматривался, изголовье при пробуждении было мокрым.
Однажды вышла и вовсе нелепая ошибка – в его жилище, пошатываясь, забрел непонятно как миновавший все сторожевые посты детина; он что-то бормотал про завещание, про причитающуюся ему долю наследства и называл человека из городища папулей.
Человек мог видеть только драные сапоги чужака, но по их величине и густому шепелявому голосу понял, что вторгшийся к нему детина ну никак не может походить на обычных карапузов с семейного портрета. Возникла молчаливая, стремительная заваруха, и чужой детина задымился в туннеле смрадным клубом. Такие случаи больше не повторялись.
Как-то в полнолуние, когда беспокойство охватывает и спокойных, и тех, кто и так уже не находит себе места, словом, когда рак на горе свистнул и кол в плетне зацвел, к нему пришла женщина. Женщина была молода и красива как солнечный день. За ее юбку держались трое карапузов, и мордашки у них были, как на семейном портрете.
Они вышли прямо из городища и брели по рыхлому, разворошенному песку. Налетел ветер, поднял песок в воздух, запылил их одежду до пепельно-серой и превратил в паклю их волосы.
– Видишь, что ты наделал, – сказала женщина, когда они подошли к нему. – Видишь? Ну, ты доволен?
Сквозь облако песка ее голос наждаком терся о мозг человека из городища, выгравировывая в нем доходившие до сознания значения слов.
Доволен? Чем? Что наделал?
Изо всех сил он старался понять. Те, кто стоял перед ним, наверно, и вправду были частью семейного портрета. Только глаза у всех у них были полны песка.
– Идем! – сказала женщина, и прохладная, вся в песке ладонь взяла его за руку.
Она вела человека из городища через покрытое песком поле, сквозь забор из вечнозеленой туи, через город, в котором он никогда не был, через большак, луг и густой кустарник – прямо в лес.
Когда они подошли к городскому валу, – еще чуть-чуть, и вышла б осечка, – стражники в воротах встрепенулись, наверно, все-таки сквозь ночную сонливость услыхали шум шагов и, звонко щелкнув каблуками, вскинули винтовки, звякнув блестящими пуговицами мундиров, – но в тот же самый миг из листвы дерева с шуршаньем вылетела ленивая ночная птица, и идущие миновали городские ворота, не замеченные стражниками. А те стояли, вытянувшись в струнку, и смотрели на путников, как на пустоту.
Лохматый отцветающий одуванчик луны знал дорогу и привел их туда, где тускло светились стоящие почти вплотную друг к другу простые деревянные кресты. Кресты были одинаковыми – как на бедняцком погосте или на братском кладбище породнившихся на поле боя людей.
– Смотри же! – Женщина отпустила его руку. Он обошел кладбище, осмотрел, обошел еще раз, приблизился к каждому кресту, чтобы провести по нему шершавой, как подошва, ладонью, потыкал пальцем, отступил, двинулся дальше, опять вернулся, смотрел и смотрел, и видел – на всех крестах были вырезаны расположенные одинаковыми рядами одинакового вида знаки. И чем больше он их щупал, чем дольше и пристальнее смотрел на них, переводя взгляд с креста на крест, тем они становились знакомее, казались более связанными с ним. Словно были частью его самого.
Поднявшийся ветер прикатил издали клуб песка, лунную тропу затянуло совсем, на зубах заскрипел песок. Человек обнял женщину за плечи, чтоб не пропала в песчаном облаке, и привлек к себе детей.
Песок не давал говорить, не давал слушать, песок залеплял глаза. Какое-то из его чувств сказало ему: женщина знает, что говорит.
И человек из городища надумал не просыпаться.
Перевела В. Семенова
АНДРА НЕЙБУРГА

Об авторе
АНДРА НЕЙБУРГА (1957) – уроженка Риги. Она окончила Рижское училище прикладного искусства и Латвийскую академию художеств, семья ее также связана с искусством: ее муж – поэт и художник Андрис Бреже. Детство А. Нейбурга провела в Задвинье, в районе Агенскалнса, а сейчас немало времени отдает управлению домовладениями своего деда Людвига Нейбургса.
А. Нейбурга рано приобрела известность как прозаик; живописные портреты героев, городские пейзажи и тонкая меланхолия – черты, которые ярко проявились уже в ее первом сборнике рассказов «Чучела птиц и птицы в клетках» (1988). Время от времени публикации А. Нейбурги – блестяще полемические и остро личные – появляются в периодике, а ее книга для детей «Рассказ о Тилле и Собачьем человеке» (1991) отмечена премией в области детской литературы.

КТО ЗНАЛ ЮРИТИСА?
Видишь, какой красивый огромный гриб вырос над морем. Красивый, только чересчур яркий. И ветер поднялся, гонит сюда разный мусор, сухие сучья, скомканную бумагу, а вот даже и обломки досок! Нет, пожалуй, пора закрыть окно и спрятаться за занавеской.
(Из сна)
* * *
В детстве неистребимое чувство уверенности рождал звон посуды в кухне за стеной, где бабушка готовила обед. А по вечерам – свет ночника. На абажур из вощеной бумаги был накинут красный платок.
Рос он мальчиком пухлым, но пока не ходил в школу, это его не волновало, да и в младших классах тоже, потому что таких, как он, толстяков, было трое, и они держались вместе. И так как один из них, несмотря на свой вес, был драчуном-задирой, в классе троицу уважали.
Потом все изменилось, и не в лучшую сторону. Толстяк-задира стал заниматься самбо, жир его превратился в мышцы, от него разило потными майками и резиновым физкультурным матрацем, в классе он ходил героем и окончательно перешел в команду худых. Третий, очкарик, не худел, однако не на шутку увлекся химией, посещал школьный научный кружок при университете, регулярно побеждал на школьных олимпиадах и всегда был чуть умнее своих учителей. Уже в тринадцать лет на его макушке проступили первые приметы будущей лысины, а на лице – печать славы будущих великих открытий. В классе его не любили, но уважали. Он давал списывать.
Ну, а Юрис, Юрчик, Юрасик, Юритис, как звала его бабушка даже при одноклассниках, оставался все таким же неприметным толстым парнишкой, каким и пришел в школу. Успехи посредственные, едва проклюнувшееся чувство юмора и справка об освобождении от физкультуры.
Ему нравилось вязать, но об этом знала только бабушка.
Сохранилась фотография: Юритис, ему лет десять, стоит посреди цветущего луга, толстые ножки упакованы в шорты, черные очки, на голове носовой платок с четырьмя узелками. На лице счастливая улыбка, потому что каникулы, а Юритис (как-никак) ребенок.
Летние месяцы Юритис проводил в Майори, это было замечательное время. Они снимали веранду и комнату в домике, ютившемся возле самой дюны, не было еще высотных зданий – домов отдыха, на улице Йомас слышна была латышская речь, пляж между железнодорожными станциями был белым и пустынным, вода в море прозрачной и невинной.
Игра солнечных зайчиков в цветных оконных переплетах веранды – одно из самых смутных и прекрасных детских воспоминаний Юритиса. И еще стук дождя по жестяной крыше.
Лето!
Тем летом, когда Юритису было годика три, случилось странное и печальное и долго еще до конца не осознаваемое им событие. Воспоминания о нем были будничными и отрывочными, а смысл произошедшего – загадочным.
Юритис помнит себя, тогда еще слабого, болезненного мальчика, за столом, ослепительно-белым, с мелькающими от трепещущей листвы солнечными зайчиками, в тарелке дымится гора блинов, кошачья рыжая шубка, зеленые прищуренные глаза и какая-то женщина, его мать, волосы картофельного цвета и белое пятно вместо лица – как лист бумаги, на котором кто-то стер сам портрет, оставив лишь глаза, темные и беспокойные.
Юритис гладит кота, который сидит у него на коленях.
– Ну, ешь же, ешь, – торопит его женщина и почему-то беспокойно ходит по комнате, время от времени останавливаясь возле окна.
Юритис не ест, он гладит кота, котика, кошачья шубка теплая и рассыпает медовые искры, мельничка в кошачьей грудке урчит в такт его дыханию.
– Ну, ешь же, ешь, – не перестает повторять женщина усталым голосом и при этом даже не смотрит на мальчика. – Я, честное слово, повешусь, – бросает она.
Кажется, Юритис так и не поел. Во всяком случае, точно он уже и не помнит. И в этом событии не было бы ничего необычного, если бы женщина, его мать, в тот же день не повесилась. В лесу на дюнах, в каких-то трехстах метрах от дома.
Как она висела, Юритис, конечно, не видел. Вернее, видел, но только во сне. Волосы картофельного цвета, и надето что-то желтое. И белое пятно вместо лица.
Шли годы, на лето бабушка снимала все ту же веранду, жилось ему привольно и спокойно, и у Юритиса прорезался невероятный аппетит.
Смутное чувство вины преследовало его всю жизнь, не помогло и пришедшее с годами понимание, что смерть матери никоим образом не связана с его аппетитом.
Там же, в Майори, пятнадцатилетним подростком, он впервые влюбился – девочка об этом так никогда и не узнала – и стал видеть атомные сны. Но к снам мы еще вернемся.
* * *
Юритис умер, когда ему не было еще и тридцати.
И хотя он не любил фотографироваться, все-таки сохранился любительский снимок, на котором Юритис запечатлен, можно сказать, за миг до смерти. Фотография сделана во время вечеринки в саду у его одноклассницы. Живет его одноклассница неподалеку от укрытого цветущей сиренью домика, в котором Юритис в детстве провел столько прекрасных летних дней. Кто хочет, может усмотреть в этом какой-то знак.
Снимок, тем не менее, совершенно обыкновенный. Юритис, сгорбившись, сидит в плетеном кресле за белым столиком, в полуоборот к зрителю, на нем светлый костюм, край стола глубоко врезался в мягкий живот, в вялой руке бокал с какой-то жидкостью, глаза в момент вспышки закрыты, черты лица опущены, словно бы наглядно подтверждая силу притяжения земли – и мешки под глазами, и складки возле носа, и опущенные уголки губ. Обвисшие, гладко выбритые щеки опираются на двойной подбородок. Самый обычный человек. На лице никакой печати обреченности, только сейчас, рассматривая фотографию, многие находят страдальческим выражение его лица, какую-то печать беспросветной усталости на нем. Другие же – чуть ли не потустороннюю отрешенность.
Вероятно, это случайность, но не премину заметить, что ни на одной фотографии вы не увидите глаза Юритиса. Они или закрыты в момент фотографирования, или Юритис неожиданно пошевелился, и снимок получился смазанным, или на лицо падает тень, или он вообще отвернулся. Я его глаз уже не помню.
Говорят, что после смерти Юритиса и исчезновения Карен в их квартире нашли несколько исписанных его рукой страниц, якобы фрагменты черновиков писем. Не верится, чтоб кому-то Юритис мог писать.
* * *
Из черновика письма:
«В сущности, парадокс: человечеству страх дан, чтобы уберечь его от исчезновения, а в одиночку обычно выживают именно бесстрашные».
* * *
На последней фотографии есть и кое-кто из гостей: два еврея, которых я не знаю, представительного вида толстяк с лысиной и в роговых очках – наш знаменитый химик, известный чуть не всей Европе, рядом с ним молодая, потрясающе красивая женщина.
Это не я, это жена доктора.
Карен на этой фотографии тоже нет. Карен – жена Юритиса. А может быть – сожительница. Никто не знает, оформили ли они свои отношения официально.
Да и о самой Карен мало что известно. Даже имя себе она выбрала сама, когда ей исполнилось восемнадцать. Прежнее, настоящее, она скрывала. Карен была из детского дома – сирота при живых родителях, брошенная в родильном доме. Так люди говорили, а Карен рассказывала каждому свое – что отец и мать погибли при авиакатастрофе, что отец работал за полярным кругом и там погиб при загадочных обстоятельствах, а мать умерла при родах, что оба на самом деле живы и выполняют секретное задание за границей. Словом, типичные выдумки подростка.
В отличие от Юритиса Карен была до удивления худая – кожа да кости. И – некрасивая. Серая, нездоровая кожа, тонкие, как лезвие ножа, губы. Черные волосы, которые быстро становились сальными. Зубы, хоть крепкие и здоровые, отсвечивали желтизной, росли криво, нижняя челюсть сильно выдавалась вперед, а плоский нос словно вдавлен в лицо. Да, и еще глаза больного Базедовой болезнью, в них таилось неуемное, живое любопытство ко всему, что происходит вокруг, и устойчивое недоверие к себе подобным.
И по характеру Карен была полной противоположностью Юритису: Юритис мог целыми днями молчать, особенно после смерти бабушки. Карен говорила почти без умолку. Юритис всегда говорил правду, Карен постоянно лгала. Юритис в быту был абсолютно беспомощным, Карен – и физически, и душевно была на редкость сильным человеком. Ей были неведомы ни страх, ни жалость, она прекрасно сознавала свои возможности, ставила перед собой вполне достижимые цели и всегда побеждала.
Одевалась она вызывающе безвкусно.
Что ж, в детском доме ведь этому не учат.
Кое-кто утверждает, что ей присуще некое обаяние, несмотря на все недостатки. С этим я никогда не соглашусь.
* * *
Из черновика письма:
«…и только после того, как этот метод уже начали применять на практике, я открыл, если можно так „деликатно“ выразиться, его теоретическое обоснование. Собственно, в этом нет ничего нового. Видишь ли, у каждого яда есть противоядие. Чтобы подавить страх, нужно каким-то образом деформировать саму причину страха. Значит – не пытаться забыть о нем или внушить себе, что страха вообще не существует (это безнадежно и смешно), а добиться, чтобы этот объект или явление вызывали иные, не столь унизительные для человека эмоции. Проще всего превратить страх в посмешище. Но есть и другой, более предпочтительный для меня путь – воспринять ужасное как составную гармонии мира и переживать сам страх как процесс, который возвышает над обыденностью».
* * *
В то утро, когда Юритис уходил в сторону моря, никому и в голову не пришло, что он уходит навсегда. Вообще, воспоминания всех очевидцев об этом моменте туманны и противоречивы. Естественно – столь раннее утро после столь длинной ночи.
Однако я могу себе представить монументальную фигуру Юритиса на фоне алеющего неба, с поднятой рукой и сверкающим нимбом над головой, но это всего лишь мои фантазии.
* * *
Из черновика:
«Тебе я могу сказать, что детство свое я основательно забыл, да так, что временами начинаю даже сомневаться, было ли оно у меня вообще. Если поразмыслить, я всегда видел взрослые сны».
* * *
Бабушка Юритиса рассказывала, что рос он очень нервным мальчиком. Возможно, на его психику подействовала ранняя смерть матери или то, что у него никогда не было отца. Он многого боялся – темноты, призраков, атомной войны и электричества, железной дороги и теней.
Ночью его часто мучили кошмары, и тогда он кричал. И все же, когда он вырос, все это прошло, и однажды он сказал, что совсем не трудно заставить себя видеть сны со счастливым концом.
* * *
На похоронах Юритиса Карен была в ярко-желтом платье с огромными черными горошинами, на шее ярко-красный шарфик. Кому-то из дальних родственников Юритиса на поминках она рассказала, что она дочь знаменитого испанского художника и трагически погибшей латышской пианистки.








